Культура общества массового потребления: критическое осмысление
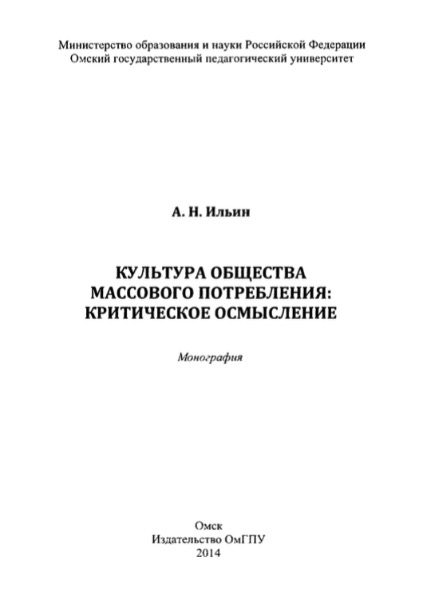
Содержаніе:
- Введение
- Общий взгляд на потребительскую культуру
- Добро пожаловать в пустыню одноразового многообразия
- Эпоха перепроизводства и ее потребностно-коммуникационная инфраструктура
- Проблема адаптации к культуре потребления
- Трансформация нравственных ценностей при господстве консьюмеризма
- Социальная деконсолидация в эпоху потребления
- Отношение консьюмеризма к труду, досугу и системе кредитования, практики антипотребления
- Потребление и экологический кризис
- Реклама как метатенденция потребительского общества
- Роль моды в обществе потребления
- Отход от культурной самобытности и традиционности
- Заключение
- Список публикаций автора
Введение
В советский период отечественной истории изучение культуры потребления не отличалось особой значимостью, поскольку сам объект такого изучения отсутствовал в советской действительности. Культуру советского общества называли массовой, но она, в отличие от западного масскульта, была лишена консьюмеристского основания. В том числе благодаря этому СССР совершил серьезные прорывы в разных сферах жизни. Поэтому целесообразно было, разделяя капиталистический Запад и социалистический Восток, вести речь не только о двух принципиально различных политических системах и цивилизационных мироустройствах, но и о двух абсолютно разных культурах. Культура СССР была в принципе антипотребительской, и некоторые советские ученые изучали консьюмеризм как характеристику западной культуры. Конечно, существовал идеологически ангажированный тренд, согласно которому культура капиталистического Запада априори должна представляться в отечественных исследованиях в критическом свете — как культура буржуазного общества. Однако ирония судьбы заключается в том, что сегодня, когда дух (или бездушие) консьюмеризма охватил Россию и вообще проявил себя как глобальное наднациональное и надстрановое явление, не политико-идеологическая ангажированность, а здравый смысл заставляет именно критически подходить к культуре потребления.
Сегодня о культуре потребления пишется много литературы — как научной, так публицистической. В данной монографии представлена не просто очередная модель осмысления потреб-культа, а его основные сущностные особенности и многоаспектный потенциал влияния на общество и человека. Для комплексного изучения потребительской культуры потребовалось обратиться к разным научным областям: философии, социологии, культурологии и многим другим. Феномен консьюмеризма многогранен, и потому единство научного знания о нем реализуется в обращении к различным областям знания. Автор раскрывает такие связанные с потребительской культурой темы и проблемы, как фиктивные потребности, демонстративность консьюмеризма и культивирование потребительских ценностей, нравственные сдвиги, утрата общественной консолидированности, изменение отношения к труду, деэкологизация сознания, манипулятивность рекламы и моды. Это не первая работа автора на данную тему. В монографии «Субъект в массовой культуре современного общества потребления (на материале китч-культуры)» (Омск, 2010) была предпринята попытка общего описания потребительской культуры. Монография «Культура, стремящаяся в никуда: критический анализ потребительских тенденций» (Омск, 2012) посвящена более глубокому анализу консьюмеризма, его многоконтекстуальному проявлению, рискам и угрозам, которые таит в себе потребкульт для человека, общества и природы. Настоящая монография продолжает тематику проведенных ранее исследований.
Общий взгляд на потребительскую культуру
В нынешнюю — потребительскую — эпоху человек подвергается воздействию огромного массива рекламных сообщений и призывов к покупке, система рекламы и массмедиа формирует гедонистическую ориентацию, которая, в свою очередь, трансформируется в стиль жизни. Отдельная личность, сообщество людей, культура и социальная психология постоянно претерпевают процесс изменений — в сторону развития или в сторону упадка. Они не стоят на месте, не являются неизменными, так как на каждом историческом этапе происходят процессы, влияющие на общественную культуру и психологию. Соответственно, общество в целом — не статичная, априорная, а динамичная структура. Она претерпевает трансформации, ей присущ определенный процесс развития. Как отмечает Е. Н. Мотовникова, общество разнородно, подвижно, изменчиво и как целое, и в каждой своей малой части — нации, общности, регионе, малой группе, единичном человеке1. Поэтому нельзя сказать, что давно сложилась научная концепция той или иной социальной тенденции, уже описанной, но продолжающей проявляться и развиваться вместе с обществом.
К одной из таких тенденций относится потребительство. Оно также претерпевает процесс изменений, приспосабливается к меняющейся исторической ситуации, с одной стороны, и меняет саму эту ситуацию — с другой. Для сохранения и расширения своей аудитории, для саморасширения потребкульт вырабатывает новые свойства, качества и тренды. Научная концепция консьюмеризма, вслед за объектом своего изучения, претерпевает динамический процесс и продолжает складываться путем конвергенции таких областей знаний, как философия, культурология, социология, этика, психология и педагогика. Она, как и любая «динамическая» концепция, старается охватить научным анализом все изменения, связанные с предметом и объектом ее изучения, а потому постоянно, по мере накопления массива знаний, развивается и расширяется. Таким образом, исследование потребительских тенденций является формой научной деятельности, отражающей не предмет в его неподвижности, а преобразование предмета. Наука не в состоянии раз и навсегда выговорить окончательную и абсолютную истину в отношении динамичного явления.
Люди всегда потребляли, ибо потребление необходимо каждому человеку для поддержания жизни. Однако прежние эпохи не связывают с понятием «потребление», не ставят потребление во главу угла при осмыслении этих эпох. Термин «потребление» имеет два основных значения: 1) тип отношений, формирующий определенную культуру, система сугубо материалистических норм и ценностей, основой которой является приобретение благ и использование их как символов своего статуса и успеха; 2) движение общественных или государственных организаций за расширение прав потребителей, наделение их силой воздействия на продавцов и производителей, обеспечение качества потребительских товаров и услуг и легитимация только честной рекламы2. В нашем исследовании мы обращаемся именно к первому пониманию потребления — потребления как типа культуры с присущей ей спецификой производства и толкования символов, а не практики защиты потребителей. Во втором значении слово «потребитель» трактуется слишком широко и потому не передает смысла соответствующего типа культуры.
Современное общество квалифицируется как потребительское не потому, что люди лучше питаются, чем их предшественники, не потому, что распоряжаются большим количеством технических средств, не потому, что используют больше образов и сообщений, наконец, не потому, что удовлетворяют свои потребности. Объем благ и степень удовлетворяемости потребностей — условия появления потребления, а не его сущность. Поэтому потребительское поведение стоит определять не только как «целенаправленную практическую деятельность по удовлетворению потребностей в товаре или услуге с момента возникновения потребности и заканчивая поведением потребителя после покупки товара или использования услуги»3. Такое определение отличается узостью и не отражает настоящей сути потребительского поведения и потребительской культуры.
Общество потребления — это совокупность отношений, где господствует выступающий смыслом жизни символизм материальных объектов, влекущий потребителей приобретать вещи и тем самым наделять себя определенным статусом. Потребительство снимает оппозицию между реальностью и знаками. Оно есть практика поддержания иерархизированной знаковости путем отправления социально стратифицирующих жестов, которые приближают реализующего их актора к элитарности и, соответственно, отдаляют его от общественной маргинальности. Специфический тип социализации постепенно приводит индивидуальные нормы и ценности человека в соответствие с нормативно-ценностной системой консьюмеризма. Человеческое сознание всегда функционирует посредством определенных знаков и символов, а формирование новых знаков ведет к новой организации психики. Консьюмеризм выступает системой, предлагающей иной тип знаковости, чем тот, который предлагался прежними формами культуры.
Малоимущие так же «больны» потребительством, как и материально обеспеченные люди, и «заражаются» они тоже посредством механизмов специфической социализации, сосредоточиваясь на удовлетворении желаний, которые культивируются инфраструктурой потребления. Они формируют некий «потребительский пролетариат». Потребительская культура охватывает совершенно разные социальные слои и группы, и возникает серьезный диссонанс между экономическим (уровень благосостояния) и культурно-символическим аспектами социальной жизни. В мире, где наблюдается постоянный рост разрыва между бедными и богатыми, малоимущие научаются желать все больше материальных благ, но получают минимальную возможность для реализации этого желания. Потребление становится объективно неосуществимым, но страстно желаемым. Оно отчасти уравнивает мечтания и стремления бедных и богатых, но не уравнивает возможности реализации этих стремлений. Потребление доминирует как над бедными, так над богатыми, превращаясь в надиндивидуальную и надстатусную реальность, задающую соответствующий тип мышления, ценностные ориентации и поведенческие практики. Оно задает высокие стандарты, которым способно соответствовать меньшинство, но которые стремится охватить большинство.
Собственно, общество потребления формируется в условиях капитализма, для которого характерны рыночные отношения, социально-экономическое неравенство, инфраструктура многоголосного лоббирования товаров и услуг (реклама и PR) и прочие аксессуары капиталистической системы. Общество потребления и общество с высоким уровнем потребления не тождественны, а значительно отличаются друг от друга. Социум именуется потребительским не потому, что в нем прослеживается высокий уровень жизни и, соответственно, имеется большое количество людей, наделенных возможностью реализовывать потребительские практики, а потому, что в нем господствует система отношений, предопределенных свойственными потребительской культуре ценностями, нормами и психологическими установками. Культура потребления нарушает баланс между структурой потребностей и доступными ресурсами для их удовлетворения. В таком обществе могут отсутствовать массовые источники высоких доходов и возможность повсеместно продуцировать «богатый» образ жизни; главное, что есть доминирующие и закрепленные в поведении людей ценности, выраженные в престиже, богатстве, демонстративной роскоши и т. д.
Сегодня, в эпоху глобализации, общество потребления также глобализируется. Мировые СМИ, освободившись от воспитательной и образовательной функции, переакцентировались на потребительско-стимулирующую функцию и, принявшись распространять одни и те же или аналогичные друг другу по нормативно-ценностному содержанию фильмы, ток-шоу, рекламу, стали формировать единые потребительские стандарты по всему миру. Такая стандартизация, с одной стороны, сближает «разных» людей, дает возможность адаптироваться к социально-культурным и психологическим особенностям иных стран, но, с другой стороны, происходит унификация национальных культур и широкое распространение ценностей потребления. Потребление стало не национальным, а наднациональным феноменом, а потребности и интересы людей все более становятся однородными и стандартизированными.
Некоторые авторы рассматривают потребительство в качестве болезни4. Даже используется понятие «синдром потребительства». Трудно сказать, целесообразно ли рассматривать данный синдром как болезнь. Он стал доминирующим «синдромом» современной культуры, нормой, а с позиции существующей системы то, что является нормой, нельзя представлять как болезнь, ибо норма не может одновременно быть патологией, то есть своим антиподом. Однако если подходить к оценке потребительства с позиций так называемой традиционной культуры, рассмотрение его (а вместе с ним и всей потребительской культуры) как патологии выглядело бы более легитимно.
Потребительство — это социокультурная система, где социальная идентификация построена не в сфере труда и производства, а вне работы — прежде всего в развлечениях, и в первую очередь показных, демонстративных развлечениях. Ранее стратификация общества основывалась на месте работы, на месте социальной системы распределения труда, а сам труд и трудовая добросовестность были условиями человеческого достоинства и общественного уважения. Уклонение от труда порицалось, и даже на юридическом уровне функционировало обвинение в тунеядстве. Теперь классификационным первенством обладает стиль жизни, на который указывает тело, одежда, машина, место отдыха и т. д. Аксессуары человека несут информацию о его статусе, превращаются в из материальных объектов в информационные послания о своем владельце, равно как вектор его жизненной энергии и вектор его денежных трат говорят о том, что для человека выступает смыслом жизни. «Если раньше о человеке судили по вопросу: “Что ты строишь?”, — то теперь спрашивают: “Какое развлечение ты можешь себе позволить?”»5 Для потребителя большинство благ являются благами позиционными. Он определяет себя не столько через язык, происхождение, религиозную принадлежность, сколько через вещи.
Потребление превратилось в значимый стратифицирующий фактор, а человек стал тем, что он потребляет; как его публичное, так и его интимное пространства в большей мере конструируются потреблением. Расходы на потребительскую демонстративность и публичную расточительность оказываются важнее, чем расходы на естественное поддержание жизни.
Экономике общества потребления нужна соответствующего рода социальная мотивация, которая обеспечивает потребительский спрос, значительно превышающий естественные потребности. Культурные акценты переориентируются с производства на потребление, и эта переориентация, нарушение баланса между потреблением и производством, оставляет глубокий отпечаток на многих сторонах человеческого бытия. Потребление смещает труд и трудовую этику как основные факторы социализации, культурации и мотивации, а также функционирования социально-властной системы. Личная идентичность теряет связь с трудом и ролью человека в национальном производстве. В обществе потребления, в отличие от общества производства, человек призван жить не для того, чтобы работать, и работать не для того, чтобы жить. Он призван жить (и работать), чтобы потреблять, и вместе с тем потреблять, чтобы жить. Он живет, чтобы есть, но не ест, чтобы жить. Правда, слово «жить» здесь стоит взять в кавычки, поскольку, прибегая к экзистенциальному пониманию жизни, вряд ли удастся совместить ее с потреблением. Как отметил Г. Л. Тульчинский, ориентация на духовный, интеллектуальный и физический труд, напряжение, заботу, созидание и эквивалентный (справедливый) обмен сменилась ориентацией на дары, карнавалы, организованный другими праздник жизни. Произошел переход от личности, ориентированной «изнутри», к типу личности, ориентированному «извне». Появилась и утвердилась нетерпеливая посредственность, безапелляционно притязающая на все блага мира. Установка «все для человека», сопровождавшиеся немалыми жертвами многовековые работа и борьба привели к возникновению множащейся массы людей, желающих одного — чтобы их кормили, поили и всячески ублажали6. Следует сказать, что потребкульт лишен трансцендентного измерения; его не интересует надматериальное бытие, а если некоторые «элементы» этого бытия вовлекаются в дискурс консьюмеризма, то маркетизируются и тем самым «приземляются» до уровня материального, до уровня потребностей, которые трудно назвать духовными.
Помимо рыночной, товар обладает еще и знаковой стоимостью. Вещи наделяются символическим значением или даже сами превращаются в символы. В таком символизме заключен постматериальный характер потребительской ценности и феномен символической социальной мобильности. Символизм не антиматериальный и не материальный, а именно постматериальный, поскольку включает в себя как материальный компонент в виде самого товара, так и надстройку, указывающую на символическое выражение товара, которая диктует вектор отношения к данному товару и его обладателю. Надстройка как бы говорит о том, каким образом следует к ним относиться. Консьюмера интересуют не столько сами вещи, сколько отношение других людей к ним. Приобретая вещи, он приобретает знаки, через потребление которых он становится ближе к тем, кто потребляет похожие знаки, и ставит себя в отличие от тех, кто эти знаки не потребляет.
Потребление — это практика, имеющая мало общего с действительным удовлетворением потребностей или с принципом реальности, ибо ей свойственно вовлечение человека в неумеренность потребительского поведения. Согласно Ж. Бодрийяру, обществом потребления является не только то, где культивируется желание покупать, но и то, где само потребление потреблено в форме мифа. Потребительство — утрата смыслов и игра знаков, бессознательный и неорганизованный образ жизни. Логика товара управляет не только процессами труда и производства, но и культурой, сексуальностью, человеческими отношениями; потребности объективируются и манипулируются под знаком прибыли, все представляется, производится и организуется в образы, знаки, потребляемые модели7.
По замечанию Г. Дебора, создается автономный мир образов, в котором обманщик лжет самому себе, а опосредованный этими образами спектакль как общественное отношение между людьми и всеобщее проявление потребительских иллюзий представляет собой инверсию жизни. Язык спектакля конституируется знаками господствующего производства, которые одновременно являются конечной целью этого производства. Каждый товар имеет свое оправдание во имя производства всей совокупности предметов, чьим апологетическим перечнем выступает спектакль8. Зрелищность и символизм знаковой спектакли-зации и симулякризации делают общество зрительским и вовлеченным в круговерть симулякров. Общество потребления это общество всеобщей имиджезации, где коммуникация между людьми осуществляется преимущественно актуализацией потребности выставления себя напоказ, актуализацией потребности удовлетворять свои потребности в демонстративной затратно-эпатажной форме. Поэтому следует отметить, что потребительское поведение обусловлено спецификой сложившейся коммуникации, в основе которой лежит саморепрезента-ция. Саморепрезентация — смыслообразующий фундамент потребительского поведения. Потребитель стремится не просто иметь как можно больше модных вещей, а использовать обладание вещами в качестве средства я-репрезентации перед другими людьми, в качестве маски, позволяющей казаться, представляться. Поэтому каждая покупка для него — это отражение новой идентичности, обозначение какой-то стороны своей личности, а процесс покупок — перебор идентичностей и/или постоянная до-конструкция себя, достраивание идентичности. Однако чем в большей степени он признает потребительскую «кажимость» как ценность, тем слабее он осознает свои настоящие желания. Потребительская зрелищная жизнь подменяет собой жизнь настоящую. Индустрия как бы старается за человека формировать его жизнь. Предлагая множество разных идентичностей, она по сути формирует единую метаидентичность, основанную на потреблении.
Вовлеченный в круговорот потребления человек транжирит деньги не ради самой траты, а ради получения за их счет определенных благ. То есть он вовлекается в вихрь обмена, где одни блага (финансы) меняет на другие (автомобиль, вечеринки в ночных клубах, евроремонт в квартире), которые являются символом его успешности и статусности. Он не теряет денежные ресурсы, а покупает на них другие блага, этим перформативным актом удовлетворяя ту же самую склонность к накопительству. Только копятся не деньги, а достоинства, обладая которыми, он предстает в максимально ярком свете в глазах окружающих и тем самым удовлетворяет свою потребность в признании. Копится трата, позволяющая поддерживать свой образ. Так, человек, проигрывающий в казино, вместе с тем демонстрирует свою приверженность к особому классу людей — игроков казино; он показывает другим размер суммы, которую может позволить себе проиграть9, и чем выше эта сумма, тем выше его статус.
В современном обществе потребления «манипулирование товарами как культурными знаками подразумевает не столько способность товара удовлетворять человеческую потребность, сколько социальное значение, придаваемое обладателю товара в данной культуре»10. «Приобретение товаров на рынке начинает рассматриваться индивидом как способ подключения к более высокой социальной группе, члены которой, по его мнению, ведут “достойное человека существование”; потребление тем самым как раз и получает престижный характер»11. Формированию определенного мнения о себе у других людей придается особая значимость, референтом своего я становятся другие, а самоуважение человека фундируется на отношении к нему других. Ревностной заботой о благоприятном мнении других о себе человек удовлетворяет свое тщеславие, которое, в отличие от элементарной гордости, зависит от одобрения других. Возможно, тщеславие нужно тому, кому нечем гордиться. Подчеркивание статуса с помощью потребления исходит не из какой-то жизненно необходимой потребности, а из давления соответствующего типа культуры.
Из всего комплекса потребностей те, которые продиктованы человеческой природой, занимают сравнительно небольшое место. Большинство же потребностей диктуется соответствующим типом культуры и цивилизации, внутри которых человек проходит процесс социализации. Культуре потребления свойственен широкий ассортимент фиктивных товаров и фиктивных потребностей. Но для функционирования «инфраструктуры фиктивности» необходимо убедить потенциального покупателя в том, что ему эти товары необходимы, оказать ему психологическую «помощь». Причем сознание потребителей наполняют не просто фиктивными потребностями, а меркантильными фиктивными потребностями, не имеющими ничего общество с благородством и социальной полезностью. Полуфиктивные товары — это предметы, необходимые для удовлетворения некоей реальной потребности, но вместе с тем содержащие дополнительные (выходящие за рамки полезности) функциональные особенности, большинство из которых просто не находит своего применения. Или же это вполне полезные товары (например, предметы одежды), имеющие брендовую (симулятивную) надстройку, за счет которой их цена возрастает непропорционально стоимости и затраченному на их изготовление труду; ведь бренд -это указатель имиджа товара для потребителя и неденежный актив капитала для производителя, повышающий капитализацию компании. С одной стороны, из таких товаров можно извлекать пользу, а с другой — для подобного извлечения лучше подошли бы не брендовые аналоги, которые, в силу их некотировки как статусных, совмещают в себе полезность и дешевизну. Но потребителя интересуют именно те товары и услуги, которые имеют виртуальную (символическую) составляющую, связанную с брендом, имиджем, модой, «раскрученностью». Помимо «второй природы» — мира вещей, человек создал «третью природу» — мир виртуальных феноменов, к которому относятся бренды, имиджи и широкая область информационных технологий. Эти два созданных человеком мира сегодня претендуют на господствующий над человеком статус.
Брендирование и реклама представляют собой средство организации смыслового содержания современной массовой культуры, ценностной иерархизации ее артефактов. Функциональная избыточность гаджета, избыточность его ресурсов и возможностей выливается в «статусную избыточность» его обладателя, выраженную в формуле: «Чем круче твой телефон, тем большую социальную ценность приобретаешь и ты». Роскошное, то есть выходящее за рамки функциональности, потребление считается эксклюзивным и достойным уважения.
Как отмечают А. В. Бузгалин и А. И. Колганов, инспирированный капиталом маркетинг формирует симулякры полезных человеку благ и действительных потребностей. Авторы считают, что потребность является искусственной, если она не связана с развитием человека и его производительных сил12. На наш взгляд, такой критерий разграничения фиктивных и «настоящих» потребностей вполне уместен. Технологический прогресс, сопряженный с рыночной экономикой, создал рынок симулякров, представляющий собой систему производства, предложения и потребления симулякров. Архитектоника фиктивных потребностей и фиктивных товаров в узком смысле создается целенаправленными действиями оказывающих давление на рынок корпораций, а в широком — конституируемыми рыночным фундаментализмом инфраструктурой и образом жизни, которые, проникая во все сферы жизни человека и общества, предполагают сакрализацию того, что создается капиталом.
В условиях рынка происходит всеобщая маркетизация, превращающая почти все культурные явления (в том числе и образование) в товар, а финансовые средства — в универсальный эквивалент. Фетишем в условиях рынка симулякров становится даже не товар как функциональный объект приобретения, а товар как символ и представленный в виде бренда симулякр — присущий товару знак стоимости и статусности. Он превращается в основу индивидуального поведения и общественных отношений, которые складываются в определенную конфигурацию благодаря производству товаров и производству символов. Консьюмер консьюмера оценивает не по интеллектуальным, нравственным и т. д. качествам, а по уровню вовлеченности в потребительский тренд. Имеет смысл констатировать восстание вещей как знаков, порабощающих человека. Ранее производитель и качество его товара определялись потребителем, особенно если таковыми были представители элиты. Сегодня, наоборот, не клиент, а бренд определяет ценность товара и вместе с ним ценность (статус) потребителя.
Однако мнимость самовыражения, демонстрации отличия от окружающих заключена в такой широкой распространененности этой консьюмеристской тенденции, что она становится модной общесоциальной тенденцией, а значит, следование ей не отличает, а, наоборот, унифицирует субъекта. Адресный подход маркетологов, ориентированный на «уникального» потребителя, стал массово распространяемым. Сфера услуг, подчеркивающая уникальность адресата, тиражирует «индивидуальность» на максимально большое число реципиентов, в чем заключается «парадокс рыночной индивидуализации», которая превратилась в стандартизацию, происходящую под флагом индивидуальности. Услуги продавцов, с одной стороны, отличаются заботой о покупателях и высоким качеством обслуживания, вызывающими положительные эмоции у покупателей, а с другой — представляют собой мягкое принуждение. Манипулятивность мимикрируется под качественность (знание ассортимента, внимание и доброжелательность к клиенту) услуг, благодаря которой довольный клиент приобретает товар и желание возвращаться для совершения покупок в данное место. В условиях глобализации и рыночного фундаментализма лозунг индивидуализма губит индивидуальность (своеобразие) людей и целых обществ.
Обычно конкурирующие между собой товары отличаются только легендой, дизайном и брендом, а функциональные особенности у них идентичны. Просто делают свое дело хорошая реклама и бренд как гарантия удовлетворения потребности, как имидж и репутация торговой марки и ее стоимости, как некое обещание претворения в жизнь требующих своего удовлетворения потребностей и желаний, как сообщение о «волшебности» товара, его уникальности, популярности (апелляция к моде), достоинстве и необходимости, престижности и доступности. Производство потребностей формирует и регулирует спрос на товары. Бренд не является признаком качества товара, он появляется не благодаря оцененному широкой общественностью качеству товара, а благодаря рекламе, убеждающей широкий круг реципиентов в качественности и престижности. Дороговизна брендового товара определяется не высокими затратами на его производство, а силой давления на рынок производящей его корпорации, затратами на непроизводительный труд, создающий бренд как символ качества товара, высокого статуса товара и его обладателя. Рынок симулякров имеет в себе непроизводственную субстанцию. Рекламное воздействие на потребителя требует затрат, и они ложатся в основу конечной цены товара. За счет издержек на рекламу (порой абсолютно безнравственную по содержанию и манипулятивную по способу донесения) растет цена на сам товар. Потребитель, совершая покупку, платит в том числе за направленную на него манипулятивно-рекламную кампанию.
Также потребителям свойственно подчеркивать свой статус принципиальным отказом от покупки товаров, изготовленных рабочими из стран третьего мира, труд которых отличается дешевизной, а значит, низким качеством и ориентацией на низкие слои населения. Однако вещь, произведенная в Китае, наделяясь нужной этикеткой на подкладке и продаваясь в фирменном бутике, сама становится фирменной, и ее цена становится в десятки, а то и в сотни раз выше себестоимости. Потребительство сопряжено с рынком симулякров и спекулятивным капиталом, характеризующимся нелегитимным сверхповышением цен на товары, когда качество товара и его цена находятся в совершенно разных плоскостях и далеки от совпадения. Такой разрыв характеризует уровень аксиологической симулятивности и экономической спекулятивности, присущих данному товару. Потребитель, покупая товар по сверхзавышенной цене, руководствуется мотивом не столько качества товара, сколько «качества себя»; покупка становится символической, указывающей на богатство и успех осуществляющего ее человека. Если в прежние века богатство определялось натурально высокой стоимостью одежды, украшенной драгоценностями, сегодня оно определяется знаком (брендом, лейблом) и знаковым местом покупки, а не качеством товара. За счет бренда как символа уникальности товара последний получает совершенно другую ценность, чем его аналог, и, соответственно, имеет значительно более высокую цену.
Непотребительски ориентированные люди, у которых вместо стремления стать причастными к бренду наблюдается желание просто пользоваться функциональными товарами, вполне лояльны к экономическому «пиратству» и к продаже неогламуренных, небрендовых и потому относительно дешевых вещей. Спрос на такие продукты, обладающие приемлемой ценой и «голой» функциональностью, подрывает основанную на потребительской циркуляции образов циркуляцию брендовых или всяческих фиктивных товаров. Контрафактность, second hand-ность, магазинные акции или простота и безымянность торговой сети своим существованием создают альтернативу обществу потребления, представители которого обычно рассматривают все вышеперечисленное как недостойное их внимания, как явления, маркирующие низкий социальный статус. Вместе с тем эти явления необходимы обществу потребления, так как ему постоянно нужно себя с кем-то сравнивать, оно испытывает потребность поднимать свой статус с помощью презрительного взгляда на тех, кто готов меньше платить и совершать покупки «где попало». Если отсутствуют недостойные предложения и предложения недостойного товара, а вокруг только одни достойные предложения и товары, то «достойность» теряется, исчезает вместе с отсутствием объекта, подлежащего сравнению. К тому же сами правообладатели, вслед за «пиратами», наделяют престижным брендом продукцию невысокого качества и предлагают ее по относительно низким ценам. Так они ассимилируют «пиратство», пренебрегающее системой копирайта и наделяющее продукты брендами, на которые не имеет прав, вытесняют его с рынков, занимая его место и пользуясь его же средствами. Также производители известной марки учитывают невысокий уровень платежеспособности населения и продвигают от своего имени новый продукт (суббренд), который, в отличие от прежнего (бренд), сниженной ценой охватывает более широкую аудиторию.
Потребитель обязан покупать дорогие вещи, и обязывают его как связанное с внешним одобрением и построением своего «я» соперничество с другими потребителями, так диктующие посредством рекламы «правильный» стиль жизни торговые компании, желающие вовлечь потребителя не в сферу производства, а в сферу потребления. Однако он не воспринимает диктат, толкающий его к участию в рыночной игре, именно как диктат. Преисполненные высокомерия и самолюбия потребители, мнящие себя венцами цивилизации, редко задумываются о том, что они сами играют по правилам тех, кто занимает более высокое положение в социально-экономической иерархии («законодателей социально-культурных трендов») и осуществляет такую диктовку им норм и потребностей, которая позволяет самим оставаться незамеченными, а консьюмерам считать свое поведение рациональным, осознанным и лично выбранным. Чем больше растет высокомерие, тем сильнее оно отдаляется от подлинной возвышенности. Потребление — это дискурс, связанный с иерархией, которая обычно не усматривается потребителями. Позволяющие себе реализацию многих предложений соответствующего типа культуры потребители считают себя верхушкой иерархии, они усматривают настоящую статусность внутри потребкульта, но не осознают ценности выхода за рамки этой культуры или возвышения над ней.
Иногда в брендинг вкладывается намного большее количество денежных средств, чем в производство. Зачастую в брендинг инвестируются не просто большие, а необоснованно большие суммы, когда за разработку торгового знака платят миллионы рублей или даже долларов. Материальная конкуренция (за качество товара) переросла в ментальную конкуренцию (за имя, бренд, имидж). Свобода проявляет себя в количественном богатстве выбора и в осознании доступности любого варианта этого выбора (который доступен далеко не для всех). Но качественная характеристика выбора проявляется скудно. Даже индивидуализирующие стили жизни не в полной мере следует считать проявлениями свободы, поскольку они обычно выступают в большей степени продуктом маркетинга, чем действительно свободного выбора. «Раньше хотя бы бренды делали под желания людей, а сейчас людей переделывают под желания брендов», — заметил герой фильма «Москва 2017».
Бренд, по словам Е. А. Зверевой, — это знак, подчеркивающий замену рационального мышления ассоциативным в его упрощенном и стереотипном варианте13. Такую погоню подстегивают различные глэм-журналы и СМИ, постоянно демонстрируя элитные бренды и торговые марки и связанный с ними успех. Журналы являются не только трансляторами брендов, но и самими брендами. Они представляют собой некий метадискурс (метабренд), вторичную систему символов, говорящую о первичной — системе брендов. Причем брендовый статус получают в основном иностранные журналы, к которым люди относятся как к источнику достоверной, качественной и актуальной информации. Российские брендовые журналы, в отличие от западных, пользуются популярностью только в России и ориентируются на западные аналоги, то есть, выходя в нашей стране, по своей структуре и содержанию остаются западными и продвигают вместе с национальными наднациональные бренды, ориентируя потребителей на транснациональность.
В сегодняшний век потребления наметилась тенденция психологизации и в целом возрос спрос на психологические труды. Только под психологизацией следует понимать обращение не к строго научной академической психологии, а к так называемой профанной или популярной, которой изобилуют полки книжных магазинов. Отмечается наибольший спрос на работы, написанные в эмпирико-рационалистическом и практико-технологическом ключе14. Увлечение данного типа психологией — одно из основных увлечений консьюмеристского сообщества. Ответы на начинающиеся сакрально-прагматичным предлогом «как» вопросы («как управлять людьми», «как манипулировать мужчинами», «как стать успешным и богатым») стали очень востребованными. Идущие в фарватере потребительского прагматизма глянцевые журналы, пользуясь популярностью «как-проблем» среди потребительской прослойки (и заодно усиливая их популярность), зарабатывают имидж и деньги на предоставлении рецептов успеха, счастья и финансового благополучия. Массмедийность, подстраиваясь под вкусы широкой публики, специально рекламирует то, что должно ей понравиться. Нет смысла вносить в массмедийную реальность труды классиков философии или психологии — они все равно не будут востребованными. Однако вполне логично рекламировать то, что заведомо придется по вкусу широким слоям. Таким образом, круг замыкается. С одной стороны, общественность проявляет познавательную активность в соответствии со своими вкусами, а с другой — эти вкусы специально (в коммерческих целях, конечно) поощряются массмедийностью.
Психология в массовом сознании заслужила статус практической дисциплины — и не просто практики, а некого пути к потребительскому успеху, чудодейственной, почти магической рецептуры от всех личностных недугов. Под этими недугами понимаются не «болезни», связанные с глубокой рефлексией, утратой смысла бытия и другими высокими (экзистенциальными) потребностями. Скорее психологию призывают на помощь «лечить» то, что служит барьером для обретения сугубо потребительских целей: уважения, денег, знаков внимания. Философия, например, подобного статуса не получила, и это неудивительно, так как она всегда находилась в лоне теоретизма и, оперируя слишком тонкими материями и малопонятными абстрактными категориями, была максимально оторванной от массового сознания. Она, в отличие от практической психологии, не призвана ПОМОГАТЬ, воплощаться в практическое руководство. Поэтому популяризация философии, по сравнению с популяризацией психологии, не настолько широка. Да и фундаментальная психология здесь не имеет места, поскольку она основной акцент делает не на сиюминутной помощи, а на глубоком изучении психических особенностей человека, которым консьюмеризм не интересуется.
Как отмечает 3. Бауман, товары служат предметом желаний не благодаря своей способности укреплять тело и ум, а благодаря способности придавать отличительную и потому желанную форму телу или духу, создавать служащий символом ярлык-облик15. Идентичность превращается в спроектированную гаджетами и образом жизни визуализацию, которая сигнализирует другим людям о статусе человека посредством его жилища, одежды, сотового телефона, автомобиля, украшений на теле, мест отдыха, круга общения и т. д. Наращивание «личного символизма» становится беспредельным, в отличие от удовлетворения естественных потребностей, связанных с утилитарным (а не беспредельным) использованием товаров. Вследствие этого спрос на продукты индустрии только растет, или же в случае упадка покупательной способности населения растет желание осуществлять растущий спрос, ориентированный на символизм.
Вряд ли имеет смысл говорить об объективно полезных и фиктивных товарах. Таковыми их делают потребители. Только пользователь, исходя из личных целей применения товара, придает ему статус полезности или фиктивности. Если товар действительно необходим пользователю для выполнения важных функций, он, несомненно, полезен. Если же он выполняет функцию «только с ним я чувствую себя успешным и уважаемым, а его функциональные особенности как таковые мне не нужны», его трудно квалифицировать как полезный.
Хотя рынок указывает на некое равенство возможностей и доступность желаемых образцов, на деле самим предложением и навязыванием этих образцов (высокая цена которых также является признаком их статусности, отличия от более дешевых) он поддерживает неравенство. Как отмечает З. Бауман, рынок приемлет и поддерживает неравенство на уровне цен и доходов, но не на уровне сословий, жестко предписывающих, каким имуществом каждому из них позволено владеть, а каким — нет16. Он посредством конструирования медийной гиперреальности соблазна предлагает всеобщему вниманию одно и то же многообразие потребительских товаров и соблазном этого предложения удаляет сословную границу, но устанавливает границу возможностей, покупательной способности. В рыночном обществе нет принципиальных ограничений для гомосексуалистов, негров или евреев, но есть непринципиальное и невербализуемое ограничение для бедных, ибо за деньги купить все что угодно позволительно кому угодно. Создаются закрытые клубы для «золотой» молодежи, куда не пускают тех, кто просто не вошел в круг «своих» или у кого недостаточно много денег. Так подчеркивается отстраненность от большинства, принадлежность к элите, и выставляется напоказ социально-экономическая поляризация.
Те или иные группы обречены на получение только низкооплачиваемой работы, а потому они лишены возможности конкурировать с потребителями, но их статус представляется зависимым только от них самих и от их личных неудач, а не от дискриминирующей специфики общественного уклада. В обществе потребления принято считать, что господствуют права человека и отсутствуют какие-либо запреты… кроме тех, которые выстроили отдельные индивиды сами перед собой и благодаря которым они не могут достичь «лучшей жизни». Все достижения и неудачи выступают зависимыми только от самого человека и ни от кого больше. Билеты в «лучшую жизнь» предлагаются всем без исключения, предложение никого не обделяет и не обходит стороной, и каждый теоретически способен их покупать, но лишь теоретически.
Культура потребления — становящаяся смыслом жизни погоня за практически ненужными вещами, за бесполезным гламуром — дешевыми блестками, притягивающими своей яркостью, и улыбками металлокерамики. За избыточными блеском, яркостью и красочной напускной насыщенностью гламура прослеживаются пустота внутреннего мира, недостаток уверенности в себе и самоуважения, которую компенсирует гламур. Гламур превращается в капитал, а эпоха гламура — в названную Д. В. Ивановым эпоху глэм-капитализма, растущей индустрии роскоши, где в предметы имплантируется гламур, и они приобретают гламуроемкость (зачастую в ущерб наукоемкости), выраженную в использовании розового цвета, «блондинистости», привлечении эротизма, роскошности и экзотичности. Тем самым логика традиционной рекламной и PR-виртуализации, необходимой для повышения рейтинга компаний и корпораций и увеличения продаж, уступает место логике гламура; реклама как поддержка товара и PR как поддержка организации заменяются на собственно товар и организацию17. С помощью имплантации гламура создается дизайн, который выступает более важным знаком престижности товара, чем его качество, наукоемкость. Дизайн увеличивает рост продаж соответствующего товара даже в условиях экономического кризиса. Дизайн-инновации отражают специфику глэм-капитализма и вместе с тем его укрепляют. Человек уже перестает задумываться о смысле жизни, о цели своего существования, о высоких идеалах. Пришло господство культуры, основанной на информационном хаосе и вещизме как объективации индивидуальной и общественной жизни различными гаджетами.
Добро пожаловать в пустыню одноразового многообразия
Прогресс ради потребления не является подлинным прогрессом, поскольку он, с одной стороны, заставляет технику двигаться вперед, с другой стороны, этим движением усиливает потребительскую зависимость человека от новых гаджетов, от целого интертекста цивилизации гаджетов, которые к тому же продаются за цену, неадекватно высокую относительно затраченных на их производство ресурсов. Производство призвано обслуживать не просто потребности, а рост потребностей, ориентируясь на изготовление все большего количества бесполезных или малополезных вещей, обладающих престижным статусом и символической насыщенностью, а также на изготовление любых рекламируемых вещей, которые обычно специально создаются низкокачественными для их быстрой смены потребителем.
Статус предписывает осуществление высокозатратных потребительских практик, и потому для получения хорошей репутации и поддержания статуса (профилактики угрозы нисходящей мобильности) необходимо ввергаться в праздность потребления, которая диктует принцип перманентности, так как потребительские достижения быстро обесцениваются, некогда считающееся элитным утрачивает свой престиж, и место элитарности занимает нечто новое, требующее новых расходов. Поддержание статуса, таким образом, становится не одномоментным явлением, а постоянным процессом. Современность быстро обращается в несовременность, ее смещает новая современность, и процесс уходит в бесконечность, увлекая потребителя в погоню за временем, за модой и соответствующими ей трендами, что требует новых финансовых растрат.
Потребителю надлежит находиться в «активном режиме», в перманентном состоянии поиска и приобретения новых моделей самоидентификации, мониторинга имиджей и брендов, а «помогает» ему в проявлении чувствительности к новинкам реклама. Цикл «потребление — выброс — смена — потребление» становится основой жизни и даже ее смыслом. Потребление, таким образом, не сводится к простой покупке товаров. Это еще и конструирование идентичности, это исполнение роли в театре социальной жизни, это соответствие ожиданиям референтной группы. Но так как идентичность формируется постоянно, исходя из непрерывной смены «престижных» гаджетов и информации о них, потребитель не осознает в достаточной степени свою идентичность. Вместо ее осознания и целостного проектирования своего «я» он скорее плывет по течению, запущенному инфраструктурой консьюмеризма.
Выбрасывается огромное количество различных товаров сегодня, поскольку их место займут более модные заменители завтра. Внедрение дизайна в производственный процесс, постоянное изменение дизайна, конституирующее желание приобрести товар самой последней марки, создало производство товаров кратковременного потребления, чтобы стимулировать все новые продажи. Не товар приспосабливается к нуждам потребителя, а нужды — к товару. Культурное старение изделий происходит намного раньше их физического износа, хотя зачастую производители специально закладывают срок («product death-dating», т. е. время смерти продукта) в произведенную вещь, давая ей возможность функционировать ограниченное время, чтобы рынок сильно не насыщался ее аналогами и происходил оборот вещей. Устаревание происходит как с эстетической стороны, когда появляется обладающий теми же функциями, но обновленным дизайном продукт нового поколения, так и с технологической стороны, когда новый продукт обновляется дополнительными функциональными особенностями.
Каждая только что появившаяся на рынке модель расценивается как научно-техническое изобретение, которое в обязательном порядке следует приобрести. Происходит самообновление предметности массового обожания, фетиша. Самовосхваление путем акцентации внимания на новое приобретение стало некоей социальной нормой.
Вещи становятся вчерашними, а вместе ними и обладатели вещей теряют свой статус. Они переходят из состояния современности в состояние прошлого, вышедшего из моды, и это прошлое, несмотря на его хронологическую недавность, воспринимается как далекое и архаичное не в континуально-временном, а в содержательном смысле. Причем обладатель «вчерашнего» продукта или сам себя считает несовременным, или таковым его считает окружение, или он просто думает, что люди ему придают «yesterday-статус». В любом случае для сохранения своего «today-статуса» человек снова окунается во вселенную фиктивных приобретений и заставляет себя следить за изменяющимися модой и рыночными трендами. Процесс постоянной слежки за претерпевающим «вечное обновление» ассортиментом, инициируя шопоголизм, рождает чувство обделенности и неудовлетворенности, отрывает чувство радости от потребительских побед, ибо после каждого очередного покупательского триумфа возникает еще один соблазн, который требует своего достижения. Лучшие и современные стили жизни как атрибуты исключительного социального положения потому так желанны, что не скрываются за толстыми стенами, а находятся на виду, в реальной жизни и на телеэкране, и своей подчеркнутой видимостью создают эффект близости и доступности. Поэтому неудача в их достижении особенно унизительна («ведь они доступны другим, кого я ничем не хуже»), хотя они формируют грань между возможным и невозможным для данного потребителя. Абсолютный престиж должен постоянно поддерживаться, а для его поддержания необходимо следовать не мелким, а самым значимым образцам, которые не каждому по карману.
Характер «одноразовости» приобретают не только вещи и произведения искусства, но и люди, отношения. Любовь заменяется на почти безличный секс, изобилующий силой страсти, а не силой человеческих отношений; партнер из самоценной личности превращается в заменимое средство удовлетворения сугубо базовых потребностей. Партнеры действуют сообразно эгоизму, желанию больше взять и меньше отдать, в акте соития их индивидуальные цели пересекаются, а само их взаимодействие напоминает скорее более или менее эквивалентный обмен, чем вершину человеческих отношений. Ограничивающие личную свободу обремененность, ответственность, обязательства и связанность исчезают — остаются только те обязательства, которые связаны с обещанием блюсти условия сделки18. Скоротечный акт, даже если он повторяется какое-то время с одним и тем же партнером, не ограничивает свободы в дальнейшем выбирать себе партнеров, ибо количество партнеров — знак собственного престижа.
Такой тип сексуального поведения становится приемлемым в либеральных условиях общества потребления с присущей ему тотальной переоценкой ценностей. Речь идет в первую очередь о создании массмедийностью позитивного образа того, что традиционно считалось моральной девиацией: сексуальные перверсии, проституция, азартные игры, легкомысленное отношение к жизни, дружбе и браку и т. д. Медийный позитивный образ объекта в конечном счете формирует социальную толерантность к объекту. На почве ценностной деконструкции развивается и легализуется огромный сектор секс-индустрии, либерализируются половые отношения и снимаются сексуальные табу. Спрос порождает предложение, и все, включая женское тело, становится товаром. Коммерциализация сексуальности сопровождается различными тенденциями глобализации: либерализацией экономик, формированием единого информационного (Интернет как кладезь порнографии, инструмент вербовки будущих работников секс-индустрии, источник пропаганды секс-услуг, информации о секс-услугах и средство их заказа) и экономического пространства, интеграцией капиталов, гомогенизацией культур и ценностных ориентаций, открытие границ (межнациональная торговля женщинами, формирование секс-туризма и международной секс-индустрии) и трудовой миграцией. Как отмечает В. В. Романенко, получение сексуальных услуг проституток становится не просто формой досуга, а свидетельством высокого статуса клиента (если услуги элитные, то есть дорогие по цене и нетривиальные по содержанию). Вместе с тем обращение женщин к проституции есть не метод выживания, а альтернативный способ интеграции в общество потребления с его высокими стандартами. Тем более в СМИ проституткам придается образ сексуальных, богатых, привлекательных и профессиональных женщин, о рисках их «профессии» почти ничего не говорится (данные контент-анализа), а молодежь по большей части нейтрально относится к проституции и не считает ее аморальной (данные опроса молодежи)19. Соответственно, сексуальное поведение в целом освобождается от традиционной табуированности и наделяется новыми свободами.
Поведенческое поддержание «одноразовости» и текучести ценностей, которые ранее представлялись незыблемыми, делает мир быстротечным, а быстротечность мира стимулирует склонность людей к «одноразовости» и легкомысленному отношению к «здоровым» ценностям. Причина и следствие тесно переплетаются.
Вещи покупаются и выбрасываются для того, чтобы их заменили усовершенствованные эквиваленты. Этот процесс забвения старого и блиц-возникновения нового, которое моментально сменяется другим новым, происходит циклически, как и заголовки газет сегодняшних обязательно меняют и отменяют заголовки газет вчерашних, а топовые «горячие десятки» нынешние приходят на смену еще совсем недавним. В этом откладывании смерти нет ничего мистического и трансцендентного, оно не имеет ничего общего с направленным на спасение религиозным сознанием, но оно проникнуто некоей бытовой мифологией. Циркуляция вещей помогает отрешиться от одиночества, необратимости и смерти. Она выступает бессознательным утешением.
Для общества потребления характерен соблазн постоянной нехватки, стимулирующей бесконечность покупок. В эпоху гиперразвития рынка транснациональные корпорации и другие рыночные монстры стимулируют потребителя поддерживать гонку за покупками. Инициируется уходящий в бесконечность экономический рост, то есть сверхразвитие промышленности, реклама которой подстегивает рост потребления и дальнейший промышленный рост. Даже если потребности удовлетворены, система массмедиа «обнаруживает» в их носителе новые, требующие удовлетворения потребности, чтобы продукция находила сбыт, а потребителю мерещилось вдалеке нечто притягательное и непотребленное. Причинно-следственная цепь такая: наращиваются обороты производства и реклама производства — создаются новые потребности — человек потребляет результаты производства и тем самым способствует его дальнейшему наращиванию. Нет никакого преувеличения в следующей мысли: корпорации заинтересованы, чтобы люди покупали их продукцию, сразу же ее выбрасывали, а потом покупали вновь. Потребитель становится «перерабатывателем» все большего количества товаров. Капитализм основан на экспансии, для реализации которой необходимо непрерывное обновление потребностей как можно большего количества людей. Налицо бессмысленность расточительности, то есть растущих скоростей и объемов производства-сбыта, и их разрушительное влияние на общественную психологию, экологию и экономику. «Добавим, что “богатства” Земли конечны. Их бы не только открывать, что естественно было для экстенсивной индустриальной экономики, но и закрывать, оставлять для будущих поколений, а пока что — научиться бережно расходовать. Но мировой рынок требует сырья, перемалывает его в товары, которые тут же наполняют свалки, сбрасываются в океан»20. Общество потребления — общество избыточной нехватки, профицитного дефицита.
Потребкульт насыщает, но не удовлетворяет, не позволяет завершить метагештальт, поскольку предлагает бесконечную цепь гештальтов. Он сулит счастье, солидность, престиж, кайф, блаженство, статус, но не дает покоя, поскольку постоянно меняет критерии состояний, связанных с этими ценностями. Так, если сначала в качестве гарантии статуса он предлагает один объект, то позже статусным представляется другой. Потребкульт обещает, соблазняет, привлекает, но и обманывает.
Каждый новый модный товар (а модными становятся в основном только массовые товары, способные охватить широкую аудиторию) может представляться как конечная цель потребления, как панацея, которая удовлетворит актуальную потребность и прекратит дальнейшее потребление и производство. Однако впоследствии чары этого товара рассыпаются, поскольку он станет достоянием многих и поскольку производство вскоре предложит еще более новый и усовершенствованный гаджет, требующий индивидуального призвания, которое перейдет в социальное призвание, а оно в конечном счете своей массовостью (значит, неэксклюзивностью) разочарует людей в предмете, и это разочарование подогреется новыми моделями предмета. Соблазн замещается соблазном, фетиш — фетишем. Желание ведет не к удовлетворению, а к производству желания; консьюмеризм рождает желание желать. Новое на короткое время фетишизируется, затем его постигает дефетишизация, после чего в качестве фетиша выступает нечто иное, ставшее ненадолго новым и модным. Гонка за обновлениями указывает на ротационный характер потребительства.
Как отмечает В. И. Ильин, ремонт техники смещается в сторону замены целых модулей, эпоха «золотых рук» отходит21. Вообще, потребителю предлагается не какой-то отдельный товар, а целая система товаров и услуг, связанных между собой как функционально, так и символически. Например, при покупке автомобиля человек сталкивается с проблемой его страхования, хранения и ремонта, приобретения необходимых и просто желаемых аксессуаров. Покупка товара вовлекает потребителя в целую систему услуг и производственных отраслей, от которых нельзя отказаться, так как приобретение одних вещей требует приобретения других, поддерживающих первые в функциональном состоянии. Один приобретенный товар становится материалом и условием приобретения другого.
Потребительское сознание высокомерно по отношению к человеку, действующему согласно принципу «сделай сам» (стирающему грань между потребителем и производителем), поскольку индустрия побуждает даже по малейшему поводу обращаться к специалистам, которыми переполнен рынок. Она вселяет убежденность не просто в собственной некомпетентности потребителя, а в нормальности этой некомпетентности, которая должна проявлять себя везде — от приготовления еды и поддержания неотразимости своей внешности до удержания в порядке своих лужаек и автомобилей. Консьюмеризм наполнен презрением к самостоятельности в приготовлении еды, осуществлении дизайна квартиры или дачи, ремонте аппаратуры, пошиве одежды и т. д. Идентичность и ее упаковку призывают конструировать не самому, а с помощью специальных экспертов. Индустрия спешит на помощь при малейшей неполадке, и ее помощь выражается как в непосредственной ликвидации нарушения, так и в руководствах и рекомендациях экспертов. Так консьюмер становится зависимым от индустрии и верящим в нормальность и рациональность такой зависимости, которую зависимостью не считает. Его заставляют отдать свою повседневность в руки специалистов, стать «дисфункционалом повседневного бытия». Это выражается в рекламных слоганах типа: «Хочешь быть красивой — будь ей, а мы подскажем, как это сделать», «Хочешь жить красиво — и это возможно, мы покажем, как преобразовать свое жилье и где купить материал». Поскольку потребитель привыкает к тому, что его развлекают, у него возникает риск снижения креативности, поисковой активности и самостоятельности.
Практика потребления фастфуда не требует реализации принципа «сделай сам». ее развитие связано с темпоральностью времени мегаполиса, жизнь в котором характеризуется быстротой и отсутствием свободного времени, в том числе на подготовку еды. Фастфуд — еда, свойственная обществу, находящемуся «на бегу», пришедшая в Россию из США — сначала как один из символов Запада и западной цивилизации, с помощью которого можно телесно приобщиться к лучшей жизни, жизни цивилизованного мира, теперь, после утраты различения «своя-чужая еда», как символ глобального питания. Национальная кухня с ее «свойскостью» и традициями девальвируется наступлением американской культуры питания, которая является не просто унифицированной культурой питания, а дискурсивной практикой, вносящей вклад в унификацию мировоззрения и образа жизни человека и его разрыв с национальным наследием.
Потребление фастфуда дает возможность не обременять себя подготовкой еды, но негативно сказывается на здоровье человека из-за высокого содержания красителей, канцерогенов и прочих химических и генно-модифицированных добавок, из-за предельной отдаленности данного вида еды от природного содержания. Сегодня рынок предлагает множество как вредной, так и полезной для здоровья готовой пищевой продукции, что значительно облегчает повседневную жизнь людей. Но когда гастрономическая культура кардинально переориентируется на потребление готовой еды, стоит согласиться с мыслью И. В. Сохать, что разрушается связь женщины с ее архетипической сущностью хранительницы домашнего очага, с ее ответственностью за приготовление пищи, и практики приготовления пищи выводятся за пределы архитектоники повседневности.
В традиционной культуре у пищи было два автора — мужчина как ее добытчик и женщина как ее приготовитель. Сегодня авторство приняла на себя пищевая индустрия. Фастфуд, воздействуя на человека на первичном, витальном уровне, становится мощнейшей дисциплинарной практикой, интегрируя в организмы предмет дисциплины — приготовленную индустрией еду. Гастрономическая культура девальвируется фастфудом, так как упрощается функция застольного этикета — практики потребления фастфуда не требуют предметного наполнения пространства трапезы (упразднение посуды, замена ее на одноразовые симулякры), и вытесняется сама идея приема пищи как коммуникативного топоса в рамках «человек и его пища» и «человек, его пища и сотрапезники». Утрачивается семиотичность пищи, многообразие культурных значений. Фастфуд рассматривается как экстремально публичное пространство приема пищи, где все со всеми и одновременно каждый сам по себе. Эта практика не предполагает гастрономической рефлексии, которая как элемент гастрономической культуры выражается в формате кулинарной книги. В фастфуде гипертрофируется потребление пищи в одиночестве, на бегу, в качестве перекуса, где пища ассоциируется с топливом, поставляемым в функционализированную телесность. Трапеза теряет свою коммуникативную, культурную и трансцендентную значимость, редуцируясь до сугубо функционального воплощения животного или просто физиологического акта поедания пищи исключительно для утоления голода и поддержания физического состояния организма (потому пища максимально энергоемка). Может быть, отсюда из подчеркнутого культурой фастфуда изобилия возникает потакание невоздержанной телесности и неограниченному принципу наслаждения в виде гастрономических перверсий типа обжорства22.
Капиталистической системе необходимо постоянно обновлять потребности общества, чтобы поддерживать в нем постоянный покупательский спрос. Так она расширяет саму себя, используя механизмы моды и рекламы. Не имеющие достаточной ценности вещи представляются более ценными, чем действительно нужные вещи. Малополезным вещам придается облик полезности. Культивируется стремление к новизне, производству все новых гаджетов сопутствует производство рекламы этих гаджетов, которая говорит о необходимости их приобретения. Прав был А. Шопенгауэр, когда говорил, что внешнее богатство не компенсирует внутренней пустоты, и счастье человека в большей степени зависит от его свойств, а не от принадлежащего ему имущества и не от его представленности другим людям23. Так, уровни оценки достижений советской и современной цивилизации отличаются кардинально: когда-то люди радовались полету человека в космос, а теперь с неуместным вожделением относятся к появлению новой модели какого-либо гаджета — эти два стимула для вожделения просто несоизмеримы по своим величинам. «На фоне того, что значат для человека теплое жилье, чистая вода в кране, здоровая пища и спокойная совесть, мобильники и MP3-плееры — бирюльки»24.
Эпоха перепроизводства и ее потребностно-коммуникационная инфраструктура
В потребительском обществе господствует механизм инверсии, согласно которому желания сначала удовлетворяются, а только потом появляются. Причина и следствие меняются местами, ожидание удовлетворения потребности предшествует появлению самой потребности, метод решения проблемы возникает раньше самой проблемы. Система производства отправляет коммуникационные посылы потенциальным потребителям о том, что у них есть масса потребностей, о которых они даже и не думали. Потребитель вовлекается в коммуникативное пространство, вся инфраструктура которого сообщает, призывает, убеждает, внушает. Инфраструктура фиктивных потребностей и потребительский дискурс являются в большей мере продуктами системы производства.
До появления именно этого шампуня человек мог не знать, что с помощью шампуня можно не только мыть голову, но и делать волосы более презентабельными вследствие способности шампуня менять те или иные их качества. До появления именно этой зубной пасты он не знал, что она позволит не просто чистить зубы, но сделать улыбку более ослепительной. До появления именно этого пылесоса он не знал о существовании в его ковре вредных микроорганизмов, которым не страшны другие пылесосы. Возникновение этих вещей возвестило человеку о новых потребностях, которые, как оказалось, у него имеются, и убедило в том, что их неудовлетворение неправильно и кощунственно по отношению к себе и своим близким, а значит, должно вызывать вину и стыд. Когда-то каждый брился топорным способом, не задумываясь о сложности технологии бритья. Когда-то каждый мыл посуду руками, не помышляя о делегировании этой работы автомату. Когда-то каждый стирал самостоятельно, не зная о существовании стиральной машинки. Бритье, мытье и стирка не представлялись как проблемы и совокупности сложных навыков, а были возведены в автоматизм человеческого поведения, условный рефлекс как элемент повседневности. Но когда в частный мир ворвались электробритва, посудомоечная и стиральная машины и т. д., бытовая жизнь облегчилась, ибо они взяли на себя часть того, что человек был вынужден делать сам. Однако система новых гаджетов заставила потребителя забыть ранее имевшиеся навыки. Уровень бытовых знаний и навыков падает, теряется «бытовая специализация», которая теперь включает в себя не мастерство безопасно бриться, самостоятельно мыть посуду и стирать вещи, а всего лишь умение пользоваться гаджетами, которые готовы всю работу сделать за своего хозяина. И оказываясь в ситуации, лишенной привычных гаджетов, потребитель осознает себя бесполезным и бессильным. То, что ранее не казалось проблемным и требующим особых навыков, стало таким после прохождения курса социализации к гаджетам.
Если раньше основной проблемой было производство, то сейчас (особенно во времена обнищания целых стран, утраты ими покупательной способности и сжатия спроса) — сбыт произведенного товара. Недопроизводство сменилось перепроизводством, а реклама стала методом повышения спроса и смягчения кризиса перепроизводства. Когда товарная масса становится перепроизведена и, соответственно, профицитна, сам профицит, само перепроизводство превращается в товар, и наращивается тенденция перепотребления, то есть постоянной смены «отживших» свое гаджетов, механического накопления-выбрасывания, потребительского охвата не просто товара, а товарного избытка. Причем относительно действительно необходимых для человека качественных товаров о перепроизводстве говорить не приходится. Человек узнает о своих потребностях из рекламы и других сфер коммуникационного пространства.
Рынок связан не только с реальными, но и с фиктивными потребностями населения. Используя рекламу для создания фиктивных потребностей, он переворачивает с ног на голову классическую формулу «спрос рождает предложение», так как сам формирует спрос. Рыночные акторы не только подстраиваются к уже сформированному спросу, но и создают спрос. Вместе с тем рынок своим принципом достижения выгоды любой ценой и фиктивизацией потребностей людей множит китч-культуру и девальвирует ту же систему образования. Он инициирует поток быстро меняющихся потребностей путем формирования моды, что приводит к редукции человеческих ценностей до типичной потребительской гаджетомании, а также к ускорению процессов истощения планетарных ресурсов; ведь культура потребления требует потреблять как можно больше и как можно быстрее менять товары, следуя принципу «забудь о старых моделях, когда появились новые». Всеобщая либерализация ставит любые услуги на коммерческий поток, но не каждый вид услуг (образовательные, медицинские) терпит коммерциализацию. Все это наносит удар по общественной нравственности, профессионализму, здоровью и культуре в целом. Однако рыночных акторов таковое стечение обстоятельств не смущает, поскольку для них высшим приоритетом выступает накопление капитала любыми способами. Консьюмеризм как культурная тенденция, навязывая людям одинаковые потребности по принципу «удовлетворение потребности приводит к ее появлению», стремится интегрировать все слои населения в один — потребительский. Массовое производство вкупе с засильем рекламы создало массовое потребление, потребности и сами потребители стали детищами системы производства.
Индустрия потребления вовлекает человека в многочисленные социальные связи, которые как бы гарантируют его включенность в сообщество ему подобных, и самое страшное для него — быть исключенным из этого потребительского сообщества. Статусы, гаджеты, знаки дают человеку возможность фигурировать в данном сообществе, выступать внутри него «своим». Можно сказать, что они функционируют в качестве некоей индульгенции. Прибегая к услугам индустрии красоты (спа-салоны, фитнес-клубы, салоны красоты, солярии, клиники пластической хирургии), потребитель стремится взять под контроль свою внешность, а это стремление, в свою очередь, контролируется господствующими культурными трендами, создающими прямую корреляцию между внешностью и успешностью, статусностью. Доходы от продаж и услуг индустрии красоты неуклонно растут, так как растет потребность в этом институте, который стал трендом, социальным знаком.
Однако если общение с другими людьми фундировано исключительно потребительскими гаджетами и статусной позицией, вряд ли такая коммуникация имеет хотя бы отдаленную связь с эмпатийными проявлениями человеческой души, рождаемыми в живом общении. Предпочитая вещи людям, человек отдаляется от сообщества людей. Эта проблема усложняется, если индустрия потребления вовлекает человека в виртуальные социальные сообщества. Длительное пребывание в виртуальных сетях обычно сопряжено с упадком теплоты реальных человеческих отношений. Сегодня нетрудно найти человека, который настолько большое внимание придает Сети, что ему просто не хватает времени на общение с близкими, а проявление эмпатии при коммуникации для него становится все более трудным. Известно, что люди, поддерживающие нормальные, основанные на взаимоуважении и дружбе, отношения с другими, отличаются более высоким качеством и продолжительностью жизни, чем одинокие. Близкие эмпатийные контакты сейчас все больше заменяются вещевыми фетишами, а также виртуальной зрелищностью, образы которых наполняют восприятие человека и отвращают его от скуки в моменты физического одиночества, а также дают целый комплекс возможностей, которые человек не способен реализовать без виртуализации. Но гиперувлечение виртуальным миром вытесняет реальные отношения виртуальными отношениями; «жизнь» в Сети дает возможность реализовывать сетевую любовь, сетевую семью, даже сетовые убийство или самоубийство. Чрезмерная поглощенность виртуальной «жизнью» отвлекает от реальной жизни, меняет сущность личности, притупляет социальную ответственность, значимость чувств дружбы и любви, осознание важности заботы о Другом и моральные нормы в целом. Именно в последние годы ученые дали современному молодому человеку такую характеристику, как геймер. Причем геймер как антропологическое состояние понимается не только в смысле компьютерных игр и самореализации через виртуальное пространство, но и в смысле отношения к жизни как к игре.
Особого внимания заслуживает феномен сугубо потребительской безответственности, наблюдаемый в киберпространстве — различных форумах и социальных сетях. Виртуальное пространство позволяет создавать себе чуть ли не бесконечное количество идентичностей, множество которых унифицирует индивидуальную ценность каждой в отдельности. Их, эти «я», различные я-концепции, можно с одинаковой легкостью как создавать, так и уничтожать. Они зачастую имеют мало общего с самим человеком, их создавшим, не отражают его характер и не устанавливают его личность. Сетевая анонимность позволяет участникам той или иной дискуссии переходить на личности, обвинять друг друга, использовать крайне жесткие высказывания. Сокрытие за ником дает возможность оскорблять собеседников или писать откровенный бред, заниматься троллингом, не боясь никаких санкций. Оно дает состояние безрисковости. Пользуясь этой анонимностью, пишут настолько неприемлемые комментарии, которые просто стыдно было бы сказать от собственного лица. В конечном счете любой способен необоснованно ругаться, если знает, что его никто не вычислит. Интернет-анонимность граничит не только с безответственностью, но и с лицемерием. Анонимность отличается от подлинного общения тем, что ни к чему не обязывает и не взывает к ответственности. В виртуально-сетевом пространстве традиционные этические нормы и привычные для реальной жизни стандарты поведения девальвируются, виртуальность ослабляет морально-этическое содержание коммуникации. Чрезмерное использование анонимности и бесконтактности в общении способно менять характерологические особенности людей в сторону уменьшения моральной ответственности, солидарности, гуманности, сочувствия. Поэтому вполне актуальны разговоры о создании так называемого сетевого этикета (нетикета) — особенно в эпоху, когда обсценная лексика и «профессиональная» порнография стали частью массовой культуры. Хотя киберпространство отлично от физической реальности, и оно используется зачастую как бегство от повседневности с ее ограничениями и запретами, в нем тоже происходит коммуникация, а потому ему непозволительно выпадать из поля морально-этических обязательств.
Иногда представители высшего класса отличаются более низким культурным уровнем, чем выходцы из низов, что говорит о нецелесообразности придавать классу, статусу или уровню дохода критериальность, указывающую на уровень культурного развития человека. Подобную мысль находим в работе X. Ортеги-и-Гассета, согласно которой массы и меньшинства есть внутри любого класса25. По нашему мнению, не происхождение и не уровень материального благосостояния, а именно культурная среда, которой человек наиболее подвержен и частью которой является, выступает критерием отнесения его к массе или культурной элите.
Но вместе с тем среди материально обеспеченной прослойки общества — адептов гламура и потребительства — находятся люди, обладающие утонченным вкусом, которые коллекционируют хорошие и редкие книги или картины, что уже говорит о некоем положительном (в культурном смысле) аспекте потребительства. Часто они превращают свой дом в некий музей, со вкусом декорированный и наполненный коллекцией ценных книг или картин и старинными вещами. Причем для этого требуются не только серьезные финансовые затраты, но и экспертные в данной области знания и навыки. Хотя здесь возникает дискуссионный вопрос: а потребительство ли это?
Неуместно говорить о потребительстве в том случае, если ценитель высокого искусства действительно является ценителем, то есть понимает смысл этого искусства, пропускает его через себя и воодушевляется эстетической насыщенностью произведения. Он владеет необходимым интеллектуально-эстетическим уровнем, соответствующим уровню интересующего его высокого искусства, и инструментарием в виде системы раскодирования (понимания) произведения, всего его внутреннего богатства, включая закодированные в нем отсылки к тем или иным аспектам истории культуры или просто человеческого знания. В других же случаях человек приобретает эксклюзив, который остается им непонятым; основным мотивом такого приобретения опять же выступает статусность.
За прикрытием культурой часто проглядывает варварство и атрофия духовности. Человек, обладающий большим материальным состоянием, вовсе не обязательно наполнен духовным содержанием. Материальный капитал главенствует над культурным и, можно сказать, замещает собой последний, старается, оставаясь самим собой, предстать в виде культурного капитала, мимикрировать под него. Имеет смысл разграничивать понятия аутентичного и собственно потребительского восприятия явлений культуры и искусства. Имеет значение не ориентация на приобщение к высокой культуре как таковая, а специфика отношения человека к этой культуре; если последняя оказывается ценной только вследствие некоей интеллектуальной моды как средство возвышения статуса «ценителя» в глазах окружающих, целесообразно говорить именно о потребительстве. Статус «ценителя» обычно возвышается тем, что он готов за посредственное или вообще не обладающее культурной ценностью произведение заплатить необоснованно большие деньги. Потребляя высокое искусство, он далеко не всегда способен в действительности оценить его высоту (ибо мерилом символической ценности обычно выступает рыночная цена), а потребляя низкое искусство, он предпочитает придавать ему большое значение, ибо цена высока.
Консьюмер потребляет продукты искусства не потому, что находит в них художественную ценность, а потому, что модные тенденции указывают на их ценность, и сообщество потребителей (значимых персон) соглашается с этим указанием. Миллионер может приобрести картину известного художника не вследствие утонченного личного вкуса, а вследствие желания продемонстрировать наличие этого вкуса. Можно ведь поглощать произведения высокой культуры подобно поглощению еды и вменять себе в заслугу «приобщение» к высокому вкусу, посредством такого потребления презентируя свою духовную состоятельность и культурную самодостаточность. «Не до конца понятое, не почувствованное, но престижно присвоенное (я видел, слышал, приобрел и т. п.) по отношению, подчеркнем, к известному произведению есть не что иное, как отражение его популярности»26, В отличие от ценителя, консьюмер вовлекается в коммуникацию с высоким искусством демонстративно, и вместо собственного вкуса им управляет активность воспринимающего его поведение другого. Он оперирует объектом, исходя не из собственного смысла, а из смысла, значимого для других. Так он вовлекается в процесс коммуникативного соучастия с референтными лицами, в совместную демонстрацию смыслов. Имеет место не внутреннее индивидуальное оценивание, а некий внешне навеянный ценностный конвенционализм, соглашение с которым — билет, обеспечивающий вход в сообщество «подписавшихся под конвенцией» или удержание своего авторитета в случае уже осуществленного вхождения в такое сообщество.
Консьюмер склонен нести большие траты на актуальное искусство, так как оно называется актуальным, модным, а потому для интеграции в сообщество уважаемых требует потребления себя. Вкладывание денег в искусство стало формой са-мопредставления, презентации себя. Сегодня сформировался так называемый арт-рынок как глобальный институт, и новости о происходящих в арт-мире событиях печатаются в различных глэм-журналах и прочих СМИ, дающих представление об элитарном мировоззрении и стиле жизни, о способах само-презентации и коммуникации элит, о знаковой системе маркировки людей по признаку элитарности. Внимание финансово обеспеченных потребителей направляется на арт-рынок, он гипнотизирует их своим интернациональным статусом, и внимание каждого привлекается знанием того, что другие успешные потребители уже пользуются услугами данного рынка. Так внимание одних приковывается вниманием других (впрочем, относительно технических гаджетов происходит аналогичный процесс), создавая по цепочке всеобщее внимание. Из-за такой рекламы, ориентированной на референтность, предлагаемые арт-рынком продукты растут в цене, приобретая символический капитал. Новым художникам создает имена не столько экспертное сообщество искусствоведов, сколько система масс-медиа и коллекционеры, готовые приобретать картины по высоким ценам и тем самым повышающие своим авторитетом авторитетность художников и придающие их картинам прибавочную стоимость. Важнее становится мнение и покупательская практика известных коллекционеров, чем мнение специалистов в области искусства.
Д. Трамп описывает следующую ситуацию. Известный художник говорит своему другу, что за пару минут сможет заработать 25 тыс. долл. Он берет несколько ведер с краской и выплескивает ее на холст, а затем возвещает о готовности шедевра. Находится немало любителей живописи, которые не могут уловить разницы между настоящими картинами и подобными минутными поделками и готовы платить за последние большие суммы, особенно если на этих «шедеврах» указано имя модного художника. Часть современного искусства — большое надувательство27.
Развивается такой вид бизнеса, как арт-туризм — система путешествий за искусством, предполагающая посещение важных арт-мероприятий. Активно работают коммерческие галереи, ярмарки и аукционные дома, в том числе виртуальные, когда покупатели видят выставляемые произведения не в их реальном облике, а в цифровом обличье. Настоящий ценитель редко согласится на такую презентацию, так как она не сможет передать художественную специфику произведения в полном объеме. Но для консьюмера это менее важно, чем признаваемая другими ценность произведения. Если референтная группа ценность признает, необязательно самостоятельно подвергать произведение ее поиску. Если цена изначально высокая, предмет продажи уже обладает высокой ценностью, ибо деньги считаются неким показателем определения вкуса, и высокозатратное потребление становится маркером не только социально-экономической, но и культурно-вкусовой дифференциации. Потребление искусства становится поводом для ценового эпатажа, демонстрации состязательности, состоятельности, конкурентоспособности и осведомленности. Заложенные автором в произведение идеи и смыслы потребителю неинтересны28. Это напоминает анекдот, в котором богач, показывая друзьям старый, потрепанный, купленный им за баснословную сумму барабан, говорил, что это работа Страдивари. После слов друзей о том, что Страдивари делал только скрипки, покупатель отправился закатывать продавцу скандал за обман. Вернувшись, он с достоинством сообщил друзьям объяснение продавца — Страдивари только для лохов скрипки делал. Человек, проявляющий действительно утонченный вкус, а не безвкусное обжорство, осуществляемое для демонстративности посредством необоснованных денежных растрат, не поддается причислению к потребительскому слою.
Критерии художественной ценности, актуальные для традиционного искусства, малоприменимы в сегодняшнюю эпоху постмодерна с ее деконструкцией и релятивизацией ценностей, в том числе эстетических. Цены на произведения contemporary art (современное искусство) обычно необоснованно высоки, а четкая ценовая политика отсутствует; картины, даже не представляющие особой художественной ценности, продаются за миллионы долларов. Доходит до того, что унитаз известного художника выставляют как произведение искусства, а имя художника позволяет повышать цену на предмет, произведением искусства не являющийся, но выставляемый как таковой. Свою знаковость проявляет как объект продажи, так и имя автора.
Привлекательность арт-рынка состоит в его недоступности широким слоям населения, в его элитарности, статусе «вотчины исключительно для обеспеченных меньшинств, для VIP-ценителей». Потребитель готов платить огромные суммы за вещь, которая не выдержит проверку временем как в культурном (вскоре будет предана коллективной амнезии), так и в физическом (потеряет презентабельный вид, испортится временем) смысле. Он покупает не вещь, а принадлежность к элите, к закрытой для обычных людей социально-экономической группе, высоко оценивающей данную вещь, фетишизирующей ее в настоящем времени, но только в настоящем, ибо перед заинтересованным взором потребительского сообщества постоянно проходит множество произведений, каждое из которых обычно сиюминутно, одномоментно и обречено на скорое забвение. Периодически консьюмеры покупают не «новые», только вышедшие «из-под пера», а «старые» предметы искусства, если они принадлежали известным коллекционерам и тем самым приобрели весьма хороший бренд; покупка такого предмета — метод приближения к авторитетному коллекционеру, а сам предмет — даже не продукт высокого искусства, а знак, торговая марка. Вскоре прежние произведения арт-рынка забываются, внимание потребительских элит переносится на другие, и потребителю требуется совершать траты на что-то иное, получившее на короткое время особую актуальность, а прежние приобретения рассматривать как активы, которые можно перепродать, ибо они утратили свою символическую ценность. И даже если они обладают художественной ценностью, потребителю это ни о чем не говорит, ибо ценностью они должны обладать не сами по себе и не в глазах сообщества экспертов, а в глазах элит. Конечно, нельзя так сказать про каждого занимающегося приобретением продуктов искусства консьюмера, ибо некоторые из них ориентированы не на перепродажу, а на коллекционирование. Но «тренд быстро меняющихся трендов» (изменения которых никогда не выходят за пределы метатренда, то есть самой специфики потребительства), сиюминутности и быстрого устаревания свойственен культуре потребления в большей степени, чем тренд «устойчивой ценности». И так покупка предметов культуры превращается в перманентное потребление, в стиль жизни, то есть собственно настоящее потребительство. Окружающая произведение искусства аура престижности и статусности ценится выше самого произведения, затмевает собой и умаляет его настоящую ценность, и ценительство уступает место потребительству.
В густонаселенном районе, где каждого человека окружают тысячи людей и где отсутствует фактор личных знакомств, свой социальный статус можно обозначить через демонстративное потребление, через акт показного разрушения своего богатства, который подтверждает в глазах изумленной публики наличие этого богатства, а значит, и статуса, ибо в обществе потребления социальный статус и богатства неразрывно связаны. Публичная декларация финансового капитала путем его разрушения потребительскими тратами приводит к наращиванию так называемого символического капитала, и финансовое богатство перекодируется в символическое.
Именно стремление следовать моделям и идеалам, которые создают иллюзию различий и персонализации субъекта, свойственно современному обществу потребления. Утерянный человек стремится персонализироваться с помощью знаков, наборов отличий, модных вещей, визажистов, салонов красоты, эстетики ночных клубов и тусовок, мерседесов и т. д., которые не воссоздают индивидуальность, а разрушают ее «в тотальной анонимности, так как различие является по определению тем, что не имеет имени»29. По Ж. Бодрийяру, человек, сближаясь с моделью, входя в зависимость от нее, отказывается от всякого реального различия, от единичности, а сам процесс потребления — производство искусственно умноженных моделей. Эти модели индустриально производятся СМИ, и персональность каждого находит себя в следовании одним и тем же моделям (например, все девушки хотели быть похожими на Бриджит Бардо или Мэрилин Монро). Таким образом, скажем в продолжение мысли Бодрийяра, многие я-идеалы, персональности как проекты сходятся в единую точку, что уже не позволяет говорить об исключительности и отличии каждого от каждого.
С одной стороны, индивид принуждается к стандартам потребления, а с другой — к осуществлению индивидуального выбора, ограниченного этими стандартами. Так формируется явление «психоз амбивалентности», а сам поиск отличий любой ценой может превратиться в патологическое состояние, сопровождаемое навязчивыми идеями о различении и способах его подчеркивания во внешнем виде и поведенческих практиках.
Хотя потребление предлагает дифференцированность стилей жизни и огромный выбор гаджетов, хотя оно ассоциируется с многоцветной мозаикой, оно является массовой унифицирующей идеологией, характеризующейся узким проблемным полем (не включающим социально-политическую, эстетическую и вообще глобальную и глубокомысленную тематику и проблематику), стигматизацией альтернативных потреблению практик, идеологической стандартизацией. Потребитель свободен в выборе, но не в отказе от предлагаемой системы выбора. Перед ним вместо вопроса «Покупать или не покупать?» встает проблема выбора марки товара из всех конкурирующих марок. Он желает отличаться от других и считает реализацию потребительского поведения формой подчеркивания такого отличия. Ради усиления отличия он может вовлекаться в слишком эпатажные и девиантные формы потребления типа наркопотребления, когда функции наркотиков активизируются для удовлетворения требований, предъявляемых к предметам массового потребления. К этим функциям относятся гедонистическая, социализирующе-коммуникативная (ускорение и упрощение процессов включения в некоторые социальные группы), идентифицирующая (позволяет посредством символизации наркотиков выделиться в толпе, подчеркнуть свою исключительность и включенность в привилегированную группу), стилизирующая (оформление наркопотребления в качестве стиля жизни, drugs-lifestyle). Дискурс консьюмеризма не рассматривает наркопотребление как болезнь, зависимость и проявление социальной маргинализации. Он приписывает данному явлению совершенно иное отношение, чем то, которое заложено в дискурсе общественно-государственной нормализации, медицинской и административно-правовой стигматизации, определяющих статус той или иной группы. Наркотики могут рассматриваться как стилизующий аспект образа жизни30. Вместе с желанием отличаться потребитель испытывает желание быть похожим на других, на референтных персон. Проявляя схожесть, он вслед за большинством вовлекается в потребительские практики, а проявляя отличия, он потребляет не так, как большинство. Но в результате, несмотря на стремление отличаться, он все равно интегрируется во всеобщую унифицирующую поведенческую практику.
Советское общество имело настрой на предотвращение угроз, а постсоветское — на потребительскую солипсистскую близорукость по отношению к угрозам, на отказ их увидеть. К сожалению, в СССР не наблюдался баланс между ориентацией на минимизацию страданий, с одной стороны, и ориентацией на максимизацию наслаждений — с другой. Поэтому западная витрина усиливала в нас недовольство дефицитом потребительских товаров и чувство дефицита товарного наслаждения, а заодно этим гипнотическим воздействием ослабила рациональное мышление и способность видеть риски, которые конституировала капиталистическая реформа. Произошел сдвиг к «принципу наслаждения». На фоне роста разнообразия вещевого окружения отношения между людьми становятся все более однообразными, функциональными и бездуховными; здесь кроется дегуманизационный потенциал потребления. Предписанные контакты заменяют собой подлинные отношения между людьми.
Хотя между необходимым потреблением и потребительством (злоупотреблением) довольно значительная разница, четкую демаркационную линию между ними сложно провести. Безусловно, не стоит понимать описанного нами потребителя как некий идеальный образ, как чистую монету, отличающуюся исключительной пробой. «Чернь таковая, судя по всему, не существует, однако существует что-то от черни. Потому что чернь есть в телах и в душах, есть чернь в индивидах, в пролетариате, что-то от нее есть и в буржуазии, однако же в расширительном смысле имеются разные ее формы, энергии, несводимости»31. И хотя эти слова М. Фуко описывают не потребительскую массу, а чернь, которую французский мыслитель ставит не в культурологический, а в политический контекст, нам кажется идея Фуко достаточно близкой для кодификации культурного облика потребительской массы и потребителя как отдельного индивида. Хотя мы и пользуемся этими понятиями, верифицировать консьюмеризм, указывая пальцем на конкретных людей, далеко не всегда представляется возможным. Консьюмеризм в различных формах присущ разным людям независимо от их возраста, социального положения, уровня образования и материального достатка. Сегодня homo consumens (человек потребляющий) неуклонно вытесняет homo sapiens (человека разумного).
Проблема адаптации к культуре потребления
Культура потребления создает устойчивый идеал гедонистической направленности, согласно которому человек должен стремиться к роскоши, — иметь высокооплачиваемую работу, обладать дорогим автомобилем модной марки и при этом не напрягать себя интеллектуальным (и вообще каким-либо) трудом. «Развлекательные» умонастроения, гедонистические приоритеты порабощают субъекта, делают его одномерным. Реальные причины глобальных общественных явлений в политике, культуре и вообще во всей социальной жизни, как и сами эти явления, перестают людей интересовать; вместо них огромную долю внимания занимают симулякры, минимизирующие когнитивные усилия. Консьюмеры убеждены в том, что жизнь коротка, а потому ее не стоит тратить «попусту» — на политические баталии, на осуществление иллюзорных мечтаний и отстаивание гуманистических ценностей. Жизнь необходимо наполнять развлечениями, острыми ощущениями, азартом, экстримом, адреналином.
В чем-то данный идеал похож на знаменитую американскую мечту; возможно, воздействие Голливуда создало и у нас определенную ценность. По крайней мере, уважаемыми героями выступают персонажи массового искусства — тиражируемых фильмов, книг и т. д. Слияние культуры с развлечением, по мнению М. Хоркхаймера и Т. Адорно, приводит как к деградации культуры, так и к одухотворению развлечения32. То есть согласно такой подмене тезисов на место духовного становится развлекательное, высшее и низшее меняются местами.
Материальный гедонизм приводит к духовному аскетизму. Гедонизм разрушителен для нации своим потенциалом сладострастного безволия. Римская империя растратила свою мощь и патриотизм в лучах потребительского гламура, сладострастия и разврата. Едва ли можно придумать достойное оправдание тому факту, что повальный консьюмеризм ведет к утилитарному отношению к жизни в ущерб духовному, уничтожает в человеке его естественные здоровые потребности, связанные с духовным ростом и самоактуализацией, и разрушает нравственный монумент социального общежития. Прислушаемся к словам В. Непомнящего: «Говорят, время диктует, эпоха требует. Так отменяют понятия ответственности и совести. На самом деле ничего время и эпоха не диктует и не требует — ничего, кроме личного выбора и ответственности. Культуру и жизнь Отечества строят не “время” и “эпоха”, а живые и смертные люди с именами и фамилиями, строят в соответствии со своими понятиями и вкусами, своими идеалами и интересами. Каковы интересы, каковы идеалы — такова и жизнь, и культура. В поединке корысти и совести решают не обстоятельства, решает человек, его личный выбор…»33
Потребительская культура формирует гедониста, основная направленность которого — фрейдовский принцип наслаждения (а не реальности). Потребкульт не ограничивает человека, а направляет его жизнедеятельность на реализацию этого идеала, скорее говорит не о том, что делать нельзя, а о том, что делать надо. В этом смысле заметно отличие от фрейдовской теории, согласно которой культура несет в себе сумму ограничений, хотя это отличие незначительно.
Отмечается, что потребление может быть:
способом демонстрации социальной мобильности, осуществляемым показными и финансово затратными практиками потребительского поведения;
фактором (лифтом) социальной мобильности, когда индивид использует потребительские практики, принятые в статусной группе, чтобы стать идентифицированным с ней. Этими высокозатратными практиками он доказывает, что обладает и другими составляющими данного статуса, и посредством демонстративного статуса принимается в референтную группу на уровне реального статуса. У консьюмера нет достойного заработка, престижного жилья, но подобные проблемы могут решиться вследствие налаживания связей с высокостатусной группой при помощи демонстративности;
мотивацией социальной мобильности, когда потребление становится самоцелью, и изменение статуса необходимо для получения возможности широких потребительских благ34.
Второй и третий вариант обычно сильно затруднены. К их реализации стремится большинство потребителей, лишь немногие из которых достигают желаемого. Потребление по большей части сдерживает социальную мобильность.
Потребительский идеал «райской жизни» скорее представлен в виде статичного состояния, в то время как подлинный субъект должен постоянно развиваться в процессе жизни и не останавливаться на достигнутом. Потребительский идеал предполагает динамичную гонку за обновлениями, но эта динамика не отражает движения за здоровыми идеалами и не способствует саморазвитию. Идеал должен быть всегда недостижим, и это нормально. Своим существованием в сознании субъекта и внутренним содержанием он мотивирует человека к саморазвитию и самореализации, к стремлению превзойти самого себя, двигаться от актуального (наличного) «я» к потенциальному. Полное довольство самим собой — это помеха росту. Как культура не имеет предела совершенствования, так и человек не должен его иметь. Если же предположить, что субъект достиг этого идеала как конечной цели, его субъектные интенции также остановятся, атрофируются, поскольку они способны проявляться только при наличии препятствий, требующих преодоления. Как писал X. Ортега-и-Гассет, человеческое существование предполагает не пассивность, а борьбу с трудностями35, («человеческая жизнь расцветала лишь тогда, когда ее растущие возможности уравновешивались теми трудностями, что она испытывала»36, и мы однозначно согласимся со словами испанского философа. Существование прецедента достижения целей без борьбы порождает уверенность в возможности легкой жизни и стремление к ней. X. Ортега-и-Гассет, разделяя общество на меньшинство и массу, первых наделяет высокой требовательностью к себе, а вторым отказывает в этой требовательности — они лишены ориентиров и созидательности и нисколько этим не удручены37. По нашему мнению, требовательность к себе — один из аспектов саморазвития субъекта, стремящегося достичь чего-то большего. А поскольку настоящий субъект обладает способностью к саморазвитию, человек массы, современный консьюмер, не может быть нами определен как подлинный субъект своего жизненного пути.
Многие исследователи противопоставляют человека массы и подлинную личность. Например, А. В. Костина наделяет массу такими характеристиками, как инфантильность, несамостоятельность, размытость и подвижность представлений о мире, отсутствие внутренней детерминации, а в современном поколении (поколение 2000) видит равнодушие, вялость, апатию, социальную разобщенность и тотальный конформизм38. Хотя понятия «масса» и «потребительское сообщество» обычно различаются, между ними, в зависимости от специфики осмысления исследователями данных понятий, часто наблюдаются сходства на уровне отдельных качеств.
Идеал, определенный проект себя (связанный именно с саморазвитием) если и достижим в потенциальном и актуальном смысле, то после его достижения обязательно должен смениться другим идеалом. Тогда человек направляет свои усилия на реализацию уже чего-то другого, но также важного для него лично. Или это может быть не что-то другое, а более высокий уровень предыдущего. В первом случае идеалом может выступать умение свободно владеть английским языком. И когда человек овладевает им, он переключает внимание на другую область достижений; например, выучив английский, он ставит себе цель освоить какую-нибудь дополнительную специальность (хотя она вовсе может не быть связанной с языками и не требовать знаний английского). Во втором случае, получив диплом философа, человек не довольствуется достигнутым и поступает в аспирантуру на философскую специальность. Именно в постоянном наличии целей и идеалов, в стремлении к изменению себя и заключен смысл существования человека. Без них субъект лишается путей развития. «Но коль скоро присутствие “экзистирует” так, что в нем просто нет больше несостоявшегося, оно сразу стало уже-не-присутствием, — пишет М. Хайдеггер. — Отнятие бытийной недостачи означает уничтожение его бытия. Пока присутствие как сущее есть, оно своей “целости” никогда не достигло. Добудь оно ее однако, и добыча станет прямой утратой бытия-в-мире. Как сущее оно тогда никогда уже больше не узнаваемо»39.
В общем, человек всегда должен иметь образ будущего себя, некий проект «меня во времени», отличного от «меня сейчас». Это отличие, дистанция, разделяющая двух «меня», будет ознаменовать отсутствие целостности, так как по факту ее присутствия вообще мы должны признать, что нет тождественности между человеком нынешним и его образом будущего себя. А когда нет тождественности, нет и цельности. Но эта ацелостность, атождественность и есть в данном случае стимул, ведущий в будущее и освобождающий субъекта от конца собственной истории, от затвердевания в состоянии личностного безвременья. Здесь кроется диалектичность человеческого развития: обретая некую целостность, субъект должен ее потерять ради достижения целостности более высокого уровня. От сырого мяса к котлетам, от папируса к компьютеру, от воя к пению и так далее… субъект поднимается выше и выше, преодолевая одну ступеньку за другой, этаж за этажом, так и не достигая вершинного акме, потому что его нет. Но есть процесс, и в нем — в процессе, наполненном не пустотой, а протяженной во времени чередой реальных достижений, — кроется весь смысл.
Одной из отличительных особенностей человека от животного является стремление к развитию (ставить цели и достигать их, преодолевая тем самым самого себя — прежнего себя), и только зрелый человек способен переходить в свою новую, более высокую ипостась путем преодоления трудностей и препятствий на своем пути, тем самым переделывая самого себя. Человек без идеала — не субъект, не полноценная личность. Но закономерным образом встают две проблемы.
Первая заключается в разумном соотношении я-настоящего и я-идеального, посредством которого перед субъектом стоит действительная возможность путем приложения усилий, активности и самодетерминированности сократить эту дистанцию. Если высота требований культуры не соотносима с настоящими возможностями субъекта, то движение к данному идеалу становится бессмысленным, и возникает целесообразность понизить планку, изменить я-идеальное (стратегия зрелой личности, прекрасно понимающей и осознающей эту — может быть, не столь простую — истину). В другом случае, при нежелании или невозможности такого изменения человек зацикливается на недостижимом и уходит в невроз (стратегия незрелой личности). С одной стороны, культура создает возможность субъекту для самореализации путем преодоления трудностей, а с другой — превращает субъекта в невротика (если трудности слишком высоки). В случае преодоления трудностей не ради саморазвития, а ради реализации потребительской мечты стоит поставить под сомнение ценность процесса данного преодоления.
Другая проблема заключена в осознании себя субъектом своей жизни, который сам ставит перед собой цели, смыслы и идеалы, а не ориентируется только на потребкульт как на олицетворение референтного большинства. Вряд ли можно назвать в подлинном смысле субъектом человека, интериоризировавшего культурные представления о самом себе (реальном и должным) и принимающего их за свои, когда внешняя по отношению к человеку культура становится его внутренним цензором — инстанцией «Сверх-я»; подлинный субъект имеет свои смыслы и ценности, которые могут отличаться от смыслов и ценностей той или иной культурной общности. То есть субъект характеризуется умением не только достигать идеалы, но и самостоятельно их ставить перед собой, не растворяясь в требованиях моды и не растрачивая свои усилия на погоню только за материальными ценностями, забывая при этом о духовности. Это особенно трудно, так как идеалы китча и потребкульта, в отличие от идеалов высоких уровней культуры, в значительной степени воздействуют на общественное сознание и обладают большей проникающей способностью.
Конечно, трудно провести ясную грань между «своими» и навязанными извне ценностями. Постмодернизм, например, не приемлет существование такой границы, а знаменитый психологический принцип «внешнее через внутреннее» хотя и принимает существование «своих» ценностных ориентаций, но предполагает их изначальное возникновение на основе культурных норм и традиций, которые интериоризировались и модифицировались человеком. Данный принцип представляется нам более оптимистичным, чем воззрения постмодерна, и все-таки не прослеживается возможности четко разделить «свои» и внешнекультурные ценностные ориентации, поскольку культура в любом случае оказывает на каждого из нас свое воспитательное влияние и в той или иной степени закладывает в наше сознание определенные ценностные ориентации и модели поведения. Персональное и общественное, личное и культурное — враги, постоянно сталкивающиеся между собой в противостоянии, завершение которого находится вне поля видимости.
Естественно, в современных условиях далеко не каждый молодой человек способен достичь пресловутого потребительского гедонистического идеала, поскольку материальное благосостояние далеко не всегда соответствует его реализации. В таком случае — в чем и заключена аналогия с теорией Фрейда — формируется невротик, который стремится стать богатым и уважаемым в обществе, пытается во что бы то ни стало соответствовать данному идеалу, но у него это не получается: не может он позволить себе тратить в ресторанах и ночных клубах больше, чем зарабатывает. Внушенные потребности опережают имеющиеся возможности. Потребкульт в целом и рекламные технологии в частности предлагают социально-статусную идентичность, нелегитимную как с точки зрения нравственной культуры, так с позиции материальных возможностей реципиента. Когда недостаточно обеспеченные слои населения начинают идентифицировать себя с элитой, интериоризируя ее запросы и демонстрируя бесконечно завышенные потребительские амбиции, воспроизводится общественная зависимость от потребления, и происходит слом структуры сознания. Система потребностей не просто постоянно воспроизводится, а воспроизводится в нравственно-уродливой и практико-утопической форме. Поэтому улучшение благосостояния народа как потакание этой системе потребностей не спасает общество и его культуру. Потребитель хочет больше, чем может, знает, что хочет больше, чем может, и оказывается не в силах отказаться от своих преувеличенных желаний, ибо потребкульт из желаний делает необходимость; налицо классическая формула невроза, основанная на глубоком диссонансе между желаниями, у которых силами индустрии убраны всякие пределы, и скованными возможностями. Стоит предположить, что настоящим обществом изобилия было то, которое на ранних стадиях развития человечества занималось собирательством и охотой. Хотя жизнь тогда была сопряжена с серьезными опасностями, потребностная сфера тех людей отличалась скудостью (если исходить из современных критериев), а среда предлагала им большое количество ресурсов именно для их потребностей.
Реципиенту с помощью привлекательных виртуально созданных образов предлагается высокий потребительский стандарт, который представлен как обыденный и единственно достойный, но умалчивается его недостижимость. Стандарт потребления задают ведь не рядовые потребители (которые только его поддерживают и тиражируют), а те элитарные группы, уровня которых потребительская масса никогда не достигнет, как не достигнет уровня жизни обычного персонажа рекламы — сказочного героя, всегда счастливого и ничем не обремененного. Вообще, декларируемые стандарты потребления и соответствующие потребности несовместимы с жизненной реальностью как на индивидуальном, так и на национальном уровнях. И возникает ортодоксальное фрейдовское противоречие между принципом наслаждения и принципом реальности: первый требует одного, а второй ограничивает в достижении идеалов первого. Между воплощенной в реальность практикой и идеальным образом виртуально сконструированного стиля жизни наблюдается разрыв.
Человек был бы счастлив, если бы ощущал полную гармонию принципа реальности и принципа удовольствия, абсолютное соответствие возможностей и желаний, если бы он хотел только того, что способен получить, делал только то, что должен и хочет делать, и никогда не стремился к априори недостижимому. Но таковая ситуация реализуется только в далеких от настоящей жизни утопиях, и она совершенно неуместна в обществе, где господствуют потребительские тенденции, только подогревающие несоразмерность желаний и возможностей, а значит, и тяжелую депривацию. Ведь потребкульт формирует неоправданно высокий уровень социальных притязаний, не коррелирующий с благосостоянием широких масс людей. Этос потребления вступает в противоречие с реальным статусом потребителя.
Несоразмерность желаний и возможностей (как и сама культура потребления) нивелирует здравый смысл, рациональное сознание и нравственные ориентиры. При «необходимости» достижения идеала любой ценой и тотальном нежелании отсрочивания удовлетворения цена действительно становится любой; не совестно идти на подлости и преступления ради воплощения в реальность предмета маниакального навязчивого желания. Эгоистические кратковременные цели способны соединяться с противоправными в поведенческом смысле средствами. Потребитель превращается в наркомана, готового продать все ценное (и не только свое) за приобретение «по-настоящему ценного». Если во времена модерна экономика была призвана удовлетворять человеческие желания, которые считались константными, определенными и имеющими разумные пределы, то современная экономика наращивает желания, производит дурную бесконечность желаний и сама ввергается в эту бесконечность.
Поддержание марки, демонстрация статуса (которым не обладаешь), реализация принципа «пусть я голодный, но элегантно одетый» сводится к перераспределению средств в пользу статуса, в пользу фиктивности, а не в пользу нормальных человеческих потребностей. Обременительное для кармана, но выступающее объектом чужого внимания потребление (элегантность одежды и хождение по престижным клубам) удовлетворяется за счет неудовлетворения того, что сокрыто от чужих глаз (голод), за счет экономии на невидимом для других, но ощутимом для себя, за счет сокращения трат на недемонстративном покупательском поведении. Потребитель последние деньги может тратить на отдых в дорогом ночном клубе, жить впроголодь из-за стремления элегантно одеваться, экономить на питании ради распития дорогих французских вин и ужинов в престижных ресторанах, иметь неоплаченные коммунальные счета и устраивать шикарные вечеринки, брать неподъемные кредиты для покупки автомобиля высшего класса и растрачивать деньги, прожигая жизнь в угаре пресловутой гламурности. Так денежные средства перераспределяются в пользу демонстрации статусности, попытки введения в заблуждение окружающих путем частичного приобщения к стилю жизни элитарного слоя, чью материально-элитарную идентичность скопировать полностью не получается из-за отсутствия материально-элитарных возможностей, но получается купить несколько видимых окружающими вещей-символов более высокого социального слоя, пусть даже в кредит (подставное потребление).
«Сообщение» о своем статусе становится более важной потребностью, чем удовлетворение настоящих потребностей. Поэтому объем приобретаемых благ определяется не только реальной статусной и материальной идентичностью человека, но и тем, кем он хочет казаться. Связь между уровнем дохода и уровнем потребления не представляется прямолинейной. Бедняк может пытаться всеми силами войти в «потребительскую элиту», но и обеспеченный человек в процессе еще большего обогащения вполне может умерить потребительскую активность и перестать гнаться за соответствующими идеалами.
Потребность казаться — одна из основных фиктивных потребностей. Потребитель ее реализует именно таким виртуальным образом в том случае, есть он не способен реализовать потребность иметь. Соответственно, прослеживается «фиктивность второго порядка», связанная не со знаковостью некоего товара или путешествия, а со знаковостью товара или путешествия, которых не было. Потребление сместилось мимикрирующим под потребление представлением, симулякром потребления, виртуалией, симулякром симулякра. Индивид, не способный интегрироваться в общество консьюмеризма, интегрируется в виртуальное общество консьюмеризма и вместо реальных потребительских практик осуществляет виртуальное потребление (псевдопотребление, или потребление без потребления) и подменяет окружающую реальность виртуальной. Зачем покупать жвачку, если можно просто посмотреть по телевизору рекламу жевательной резинки и, включив воображение, представить себе ее вкус? Индустрия не реальной покупки реального товара, а приобретения иллюзии и впечатления встала на поток и охватила тех, кто не в состоянии приобрести товар вместо впечатления от него. В идеале же они стремятся стать тем, кем стараются казаться.
Высокий уровень притязаний у человека, не обогащенного большими возможностями реализации этих притязаний, создает убеждение в том, что предлагаемая ему работа не соответствует его квалификации, самолюбию и достоинству («либо жить на уровне высоких стандартов, либо вообще никак»). Преисполненный (зачастую необоснованным) высокомерием, он отказывается от непрестижной и низкооплачиваемой работы, даже если нет альтернативных вариантов, и самостоятельно обрекает себя на бедность вследствие безработицы или на паразитарное инфантильное иждивенчество.
Если обеспеченный потребитель, который позволяет себе не работать, зависит от вещей, от вещного фетишизма, то бедный потребитель зависит от материального не-достатка. В этом проявляется потребительская ловушка. И нет никакой экономической свободы… Потребление вообще не имеет отношения к свободе. Наоборот, оно является мягкой методологией нового порабощения и социального контроля, «ненавязчиво» предписывая человеку и обществу определенные поведенческие паттерны и культурные образцы.
Трансформация нравственных ценностей при господстве консьюмеризма
Культура потребления обладает мощным потенциалом, трансформирующим социальную нравственность. Рыночно-либеральная модель общественного устройства изменила тип человека с социального на экономического, даже аномического40. Его побуждения не сдерживаются нравственными нормами, он утратил чувство долга перед близким и ощущения близости и преемственности, он с трудом воспринимает значимость интересов других людей, у него атрофировано восприятие страданий другого и даже целых групп, он не заинтересован участвовать в общем деле, направленном на социальное благо. Количество таких «свободных» индивидов растет, происходит отчуждение целых групп от общества.
Дружба и любовь становятся не самоценностями, которые необходимо поддерживать, а потребляемыми вещами, которые должны приносить удовольствие и которые перестали требовать жертвенности; если они ее требуют, то сами ставятся под сомнение в качестве ценностей. Такой нормативный релятивизм весьма характерен для общества потребления, капиталистический уклад которого навязывает индивидуализм и дух конкуренции, атомизирующий, разъединяющий, а не объединяющий на совместные действия, подталкивающий к предательству товарищей ради себя любимого. Индивидуализация не триумфальное освобождение от коллективистских атавизмов прошлого, а вовлечение в темноту зачастую неоправданно повышенного самолюбия.
Атомизация, помимо прочего, способствует росту преступности. В постмодернистском мире утрачивается приоритет здоровой нравственности, расшатываются критерии отделения зла от добра, становится дозволенным все — особенно то, что ранее табуировалось. Возникает вопрос: «А судьи кто?» Никто не призван судить, потому всем под риторику о пришедшем времени изживания устаревшей, архаичной и недемократичной нравственности дозволяется почти любая мерзость.
Постмодерн релятивистским образом преодолевает оценочные иерархии, бинарные оппозиции высокого и низкого, уравнивает противоположности и различные модели описания, означивания и оценивания реальности41. Все ценностные ориентации и идентичности в своей совокупности составляют ризому — принципиально безъиерархичную и бесструктурную мировоззренческую среду, где ничто ни к чему не привязано, все превращено в аморфность тотальной равнозначности с потерей устойчивости понятий «нравственное», «красивое», «истинное». Соответственно, исчезают критерии оценивания тех или иных идей, поступков, форм самореализации. Смыслы, значения и условности подвергаются деконструкции, рождающей новые смыслы, которые, в свою очередь, тоже деконструируются. Четкая идентичность эстетических, этических и прочих форм объявляется диктаторской. Если мы по постмодернистски отказываемся от гносеологических (соотнесение истины и лжи), этических (добра и зла) и эстетических (красоты и безобразия) различений, то попсовый хит и «Stairway to heaven», творения Ф. М. Достоевского и А. Марининой теряют различия. Критерием их ценности становятся рыночные цены, доказывающие, что шедевры классической музыки и литературы значительно уступают попсе. Ценно то, что широко продается, на что есть сверхтиражируемый спрос. Ширпотребный китч успешно выдает себя за классику. Рыночный успех рассматривается критерием достоинства. Следовательно, малопродаваемый Достоевский не просто уравнен с многопродаваемой Марининой, а, более того, имеет меньшее достоинство. Прежнее искусство определялось мастерством и новизной, в основном оставаясь искусством вне рынка и широкого коммерческого тиражирования. «Современное искусство» практически не существует вне рынка и коммерции, а его ценность определяется обычно совсем не мастерством и принципиальной новизной. Рынок не поднимает широкую публику до уровня классического и просто высокохудожественного искусства, а это искусство методом его редуцирования приспосабливает к условиям, обеспечивающим широту продаж.
В мире рыночного фундаментализма различные вариации культуры и искусства приравниваются друг к другу, создавая усредненную личность, но человеческое общество, наоборот, отходит от состояния уравненности, «разбредается» по совершенно разным статусным позициям ввиду углубления разрыва между бедными и богатыми. Культурное релятивистское равенство оборачивается финансово-статусным неравенством.
Свободным человеком представляется человек бессознательный, влекомый не чувством должного, а желаниями. Вместо жестких норм и нравственных императивов человеческую активность стали направлять соблазны. «…Если в традиционном обществе ценности выстроены “вертикально” иерархически, то в современной ситуации ценности становятся просто рубрикаторами рынка массового спроса…»42 Если реальность сопротивляется проекту бескультуризации, начинаются бомбардировки реальности. Сформированный плюрализм как свобода мнений столкнулся с неразличением добра и зла, став тем самым проявлением не столько свободы, сколько упадка нравственности. Сама культура становится на рельсы неразличения добра и зла.
Возможно, постмодернизм стал привлекательным вследствие недавнего перенасыщения общества надоевшей догматичной идеологией, и на почве усталости от жесткой нормативности единого культурного кода возникла потребность в «свободе» от единства мыслей, норм и образов жизни. Вот постмодерн и предложил в качестве нормы отсутствие норм, принципиальную антинормативность, эпатаж, эстетику скандала (ток-шоу — наглядный пример), бессознательность, иррационализм и безответственность.
Эпохе потребления свойственны подвижность, неопределенность, текучесть, неаутентичность нравственных явлений. Любовь обесценивается в том числе потому, что для поддержания наполненных любовью отношений людям необходимо прикладывать много усилий, идти на жертвы и уступки, искать компромисс. Сегодня потребительский рынок предлагает массу заменителей любви, направляет либидо не к людям, а к вещам и не требует никакой жертвенности, никакого душевного напряжения, кроме определенных сумм денег. Любовь конвертируется в иной тип отношений, отношений с вещами. Однако даже если потребность в любви заглушается, сублимируется, ей трудно полностью исчезнуть. Хотя потребительство нивелирует потребность в любви и разжигает потребность в индивидуализации, между ними остается противоречие, проявляющее себя с той или иной силой. Человек одновременно ищет прочных и стабильных связей и отказывается от прочности, ответственности и обязательств в угоду своей независимости. Ему хочется от первой потребности оставить прочность и стабильность, но убрать обязательства, ответственность и притязания другого, чтобы одновременно удовлетворить вторую потребность, что обычно не получается.
Культура всегда старалась смягчить унизительную зависимость людей сугубо от материальных ценностей, и где эта зависимость укоренена, можно смело говорить о вопиющем недостатке культуры. Атомизация, людская разрозненность, укорененная в капиталистический принцип индивидуализма, является одним из фундаментальных признаков гибели культуры. Один человек в таком обществе утрачивает способность чувствовать вину за то, что он причинил боль и страдание другому, поскольку атомизация и индивидуализация противоречат нормальному ощущению единства с другим человеком, не позволяют рефлексивно моделировать состояние другого.
Во многих социологических исследованиях мы находим подтверждение тому, что для современной молодежи (и не только молодежи) наиболее значимыми личностными качествами являются утилитарно-прагматичные, среди которых нравственно-патриотическим не находится места (доброта, честность и сотрудничество не входят в список наиболее востребованных качеств), ценность самореализации сменяется ценностью демонстративного самоутверждения, а целевые установки сводятся к индивидуальному, а не общественному благу43. Кроме того, молодежь в последнее время выделяет ценностно значимым такой концепт, как наличие связей с нужными людьми, что косвенно указывает на большую веру в коррупцию, чем в собственные личностные качества и профессионализм. Ориентация на «легкий» заработок сопрягается с нивелированием критериев профессионализма и социального долга. Если та или иная культура не принимает в качестве ценности личностно-профессиональные особенности, она будет принимать иные ценности, которые, мягко говоря, не вписываются в рамки морали и закона. При снижении возвышенного и огрублении норм человеческого общежития возникает дефицит человечности.
Рынок культивирует выгоду любой ценой, поэтому понятие преданности находится за пределами рыночного мышления. Взрослые и дети в условиях рынка и рыночной инфраструктуры интериоризируют «шкалу ценностей», согласно которой все продается и все покупается, а если честь, совесть и преданность противоречат выгоде, о них предлагается забыть как о рудиментах прошлого и атрибутах неудачников. Потребительское отношение не запирается в рыночные рамки, а проникает во все стороны общественной жизни, равно как и рынок расширяет сам себя, утверждая свой сакральный императив «у всего есть цена» в совершенно разных практиках.
То, что ранее именовалось беспринципностью, стало называться раскрепощенностью и продвинутостью, а принципиальность и честность — архаичностью. Утверждается то, что сегодня называется «рациональностью предпринимательской деятельности»; рациональность избавляет эту деятельность от неудобных оков нравственности, ставит холодный расчет и главенство рассудка выше солидарности, сотрудничества и главенства сердца. Рациональное действие предполагает использование максимально эффективных средств для достижения цели с минимальными издержками, в том числе моральными, так как мораль в сфере бизнеса и «бизнес-ориентированного» мышления является вариантом серьезной издержки, бичом, бьющим по коммерческому успеху. Честь, совесть, достоинство, патриотизм, верность традициям, скромность, альтруизм, взаимопомощь, связь с предшествующими поколениями и другие духовные ценности рассматриваются как атавизмы и архаизмы, проявления тоталитарного мышления, неконкурентоспособности и варварства, свойственных закрытым обществам. Человеку становится свойственно оценивать все через призму экономической выгоды. Других людей консьюмер оценивает не по их благим делам, а по их благосостоянию. Рыночные схемы, конкуренция и прейскурант заменяют собой глубину души. Человек становится рыночным животным, а жизнь превращается в такую ценность, которую глупо тратить на высокие абстрактные идеи и социальные проекты.
Релятивизация социальных ценностей создает декадентские настроения, рациональный нигилизм и иллюзию комфортного существования человека вне выступающих от имени всего человечества императивов, вне «абсолютности императивов» и при абсолютности целеориентированного разума, который наделяется правом оценивать (и обесценивать) нравственность и нравственный образ жизни.
При разговоре о безнравственности потребительских тенденций вспоминается фильм «Изображая жертву», в котором приведен очень яркий по сути и манере преподнесения монолог следователя, отчаявшегося от окружающего его нормативного релятивизма. Ранее спокойный и хладнокровный сотрудник милиции буквально взорвался от негодования после допроса преступника, совершившего тяжкое преступление без всякого серьезного мотива, и при обильном использовании ненормативной лексики очень емко и кратко описал происходящие в обществе процессы декультуризации и нравственного падения. Этот крайне выразительный и живой монолог является не просто эскалацией сюжетного действия, а ядром фильма, основном моментом, к которому медленно но верно ведется киноповествование. Используемая ненормативная лексика служила индикатором глубокой вовлеченности человека в проблематику консьюмеризма, эмоционально-личностного проживания абсурда, сопряженного с современным падением нравов.
Культивирование идеала, согласно которому жить надо богато, а само материальное благосостояние должно приобретаться легко, без излишней напряженности и трудоголизма, является одной из причин преступности: человек стремится к воплощению данного идеала в соответствии с усвоенным сценарием — получить максимум, а сделать минимум. «Живи в кайф», — декларирует реклама. «Бери от жизни все», «Живи играючи», «Ведь вы этого достойны» — подобными фразами, во-первых, усыпляется всяческий мотив к труду (ведь я уже этого достоин), а во-вторых, прославляется самолюбие человека, объективно ничем не подкрепленное. Просто достоин и все. Так же, путем внедрения ценностей эгоизма, формируются потребительские установки. Но если я не работаю, потому что достоин большего — ведь в телевизоре так говорят, а там точно знают, — нужно найти где-то деньги, чтобы купить рекламируемый продукт; ведь я же его достоин. А где их найти? Остается только преступность. Идея «ты достоин» сегодня выступает как разрушительной, так и краеугольной. ее должна заменить иная идея, общественно полезная и созидающая.
Телевидение создает культуру насилия, показывает насилие как приемлемый тип жизни, посвящая ему большое время на экране. Эта культура скорее не заменяет, не компенсирует, а узаконивает и генерирует насилие. Продукция, в которой демонстрируется порнография, пытки, агонии и т. д., очень хорошо продается — индустрия просто огромная. Все это действительно возбуждает человека, избавляет его от скуки, но, говоря прежде всего о детском или подростковом сознании, цена за это бывает велика. Согласно фрейдовскому тезису, человек с радостью узнает о страданиях или смерти другого человека — с радостью потому, что это происходит с другим, а не с ним. И, возможно, фильмы типа «Лики смерти» и множество других — как документальных, так и художественных — выполняют компенсаторную роль, но однозначно их трансляция должна быть предельно дозированной и доступной только взрослым. Телевизионное насилие имеет негативное воздействие в основном тогда, когда зритель отличается моральной незрелостью; оно заполняет вакуум в его душе. Поэтому оно в большей степени воздействует на подростков и детей, у которых еще не успели сформироваться ценностные ориентации (хотя среди взрослых таковых тоже хватает). Так, А. Бандура в своих экспериментах пришел к выводу, что телевизионное насилие создает эффект заражения, который передается детям.
Этический релятивизм, утверждение отсутствия привилегированных этических точек зрения может рассматриваться как инструмент оправдания любого образа жизни, несмотря на то, что далеко не каждая система ценностей способна быть оправданной. Релятивизм оправдывает не великих, а посредственных, лишает их стыда за что бы то ни было. Играть позволительно далеко не любыми ценностями.
Трансляция подноготной звезд, их сексуальных похождений, интимных подробностей чьей-то личной жизни, биографических исповедей — это своего рода эксгибиционистское приглашение к социальному вуайеризму, ко взгляду в замочную скважину. Спрос на личные истории, стремление узнать как можно больше о частной жизни знаменитостей, возможно, компенсирует дефицит внутренней полноты самого потребителя, осмысленности его частной жизни. Звезды, да и рядовые консьюмеры стремятся реализовывать практики социального эксгибиционизма, привлекая к себе взгляды других людей — в том числе как наррациями о личной жизни, так и демонстрацией статусных аксессуаров. Эта практика сводится к формуле: «Чем более я успешен, тем больше людей на меня обращают внимание, берут с меня пример, а я становлюсь еще более успешным путем тиражирования визуального капитала (продажи своего изображения)». Визуальный капитал в первую очередь измеряется в количестве не денег, а собранных взглядов44. Имеет смысл говорить об особом жанре порнографии.
Один из самых ярких примеров культивирования десолидаризации и абсолютной безнравственности — телепередача «Слабое звено», в которой вовлеченные в интеллектуальную игру люди, являющиеся друг для друга конкурентами, методом голосования удаляют не столько тех, кто проявил интеллектуальную поверхностность и не смог ответить на поставленные вопросы, сколько, наоборот, наиболее сильных, а потому и наиболее конкурентоспособных. В результате победителем выходит далеко не самый умный и достойный, а зачастую даже самый посредственный. Он получает деньги, заработанные не только им, а всей командой, что утверждает идеологический концепт об отношении к команде и к каждому игроку не только как к конкурентам, но и как к средствам своего выигрыша. Победитель, как правило, отличился небольшим именно своим интеллектуальным выигрышем, но все равно стал победителем. Во время игры он кооперируется с другими участниками для выталкивания самых сильных, после чего старается перехитрить тех, с кем временно объединился. По условиям игры группа сначала выступает единым целым. Участники совместными усилиями зарабатывают выигрыш, который затем уносит кто-то один. Но и по условиям игры каждому надлежит использовать больше хитрость, нежели интеллект, для избавления от самых интеллектуально сильных соперников. Объединение, дружба выступают здесь временными, сугубо инструментальными явлениями, функциями, от которых следует отказаться, когда они сделали свое дело. Главный смысл игры — не ответить на максимальное количество вопросов, не проявить интеллектуальную глубину, а всего лишь суметь исключить тех, кто это сделал, вытеснить других, пока они не вытеснили тебя. Ресурсами для победы выступает не интеллект, а умение сделать подлость другому.
Передачами типа «Слабое звено», «Последний герой» и многими другими культивируются интриги, удары в спину и предательства. Причем эти поведенческие практики представляются нормативными и, соответственно, не предполагающими никакого стыда и угрызений совести за их осуществление. Человеку предлагается не стыдиться эффективно выстроенной подлости, приведшей к успеху, а гордиться ею. Такие передачи, ставя участника в условия борьбы всех против всех и переворачивая вверх дном ценность справедливости, восхваляют не просто принцип конкуренции, а принцип жесточайшей конкуренции, основанной на несправедливости и эгоизме. Социал-дарвинизм представляется как закон жизни, без которого ничего достичь не получится; «не подставишь ты, подставят тебя», «на благородство глупо отвечать благородством». Сами правила игры предлагают путь победы любой ценой, «хождение по головам» в качестве единственно верного вектора движения и создают модель реальности, в которой сильное звено неким «волшебным», противоречащим нормам честности и справедливости способом переводится в ранг слабого. Знания и эрудиция здесь имеют второстепенное значение, а хитрость, сговор и вообще готовность для выигрыша идти на любые подлости — первостепенное. Пропагандируется идея, что выигрыш требует использования любых средств. Можно сказать, участники игры своим поведением не только создают некую образцовую модель поведения для зрителя, предлагают ему переступить моральные барьеры и воспользоваться проверенным (а возможно, и единственно верным) способом достижения успеха, но и отражают уже сформировавшийся в индивидуалистическом обществе поведенческий паттерн. Соответственно, зрителю представлен как образец, так и зеркальное отражение самого себя, что подчеркивает жанр подобных шоу, выраженный в слове «реалити».
Многие голливудские кинематографические «произведения», которые скорее стоит относить к культурным эрзацам, не только нашли своих искушенных зрителей, но и закрутили маховик, создали отличный фундамент для появления исконно русского «искусства» подобного типа, которое разрушает культуру народа уже не извне, а изнутри. Дети включают телевизор и видят совсем не то, что можно смотреть детям. Китч не запрещается, а специально тиражируется; запрещается только детская порнография и критика действий правительства. Между тем в здоровом обществе СМИ должны тиражировать здоровый образ человека — инициативного, образованного, высококвалифицированного, любящего родину, законопослушного, нравственного и успешного в силу именно этих, а не противоположных им качеств.
Сейчас в России получили колоссальную популярность такие фильмы, как «Бригада», где в лице обаятельного бандита романтизируется не честный труд, а преступность и образ жизни «братков». Фильм воспевает дружбу, но она находит свое выражение в криминальном контексте, который ее возвышает над моральным ценностным полем. Фильм «Сонька — золотая ручка» также показывает главную героиню в качестве позитивного персонажа, симпатичного зрителю и заставляющего зрителя сопереживать воровке, когда она попадает в трудные для себя ситуации. В других культовых фильмах (например, «Брат», «Брат 2») восхваляется героизм, но ложный и неправильный, ставящий личную силу выше закона и ведущий к размыванию в общественном сознании настоящего образа героя. Главный персонаж -по сути человек, готовый убивать других не потому, что они преступники, а потому, что они «не наши». Или же основной персонаж таких фильмов, магнетизирующий зрительские симпатии, расправляется с действительно плохими парнями, но, следуя чувству справедливости, берет на себя функции адвоката, прокурора, присяжных заседателей, судьи, следователя и исполнителя приговоров, что легитимирует волюнтаризм в его крайних формах, принцип «сила есть справедливость». Лишенный нравственного измерения и наделенный инфантильным сознанием персонаж «Брата» стал по нелепому стечению обстоятельств национальным любимцем российской киноаудитории. У подростков, с интересом смотрящих эти фильмы, складывается соответствующее представление о том, как следует жить в этом мире.
Французский фильм «Враг государства № 1», отлично снятый и отлично показавший жизненный путь известного бандита, продемонстрировал главного героя в качестве персонажа, который просто обязан привлекать к себе зрительские симпатии. Позитивно относиться к главному герою предлагают создатели американского фильма «Кокаин», где судьба крупного наркоторговца, наконец-то пойманного и посаженного в тюрьму, наполнена трагизмом, выбивающим из зрителя слезу и вызывающим чувство жалости к главному герою. Если и можно снимать фильмы не про героев, а про антигероев, не стоит превращать их антигероизм в героизм. Это — преступление против нравственности. В соответствующей кинематографии главными персонажами выступают бесчестные люди; их аморализм позволяет им достигать верхов на социальной лестнице, в то время как честные рабочие показаны в виде бедных и неудачливых персонажей, достойных только осмеяния. Конечно, нельзя сказать так про все фильмы, снимаемые в последние десятилетия, но, как правило, произведения, где поднимаются темы любви к родине, чести, духовности, в меньшей степени рекламируются и получают меньшую популярность, существуя скорее только для поддержания принципа разнообразия.
Апология насилия в массовой культуре, основанные на насилии видеоигры и прочие «развлечения» все более стирают границы между киберреальностью и реальностью. Дети, насмотревшись соответствующих фильмов и наигравшись в подобные игры, смысл которых — убить и получить за это вознаграждение, начинают испытывать потребность в реальном, а не виртуальном насилии. Психика некоторых расшатывается так, что они всего лишь из-за плохого настроения расстреливают своих одноклассников или просто попавших под руку людей. В мировой прессе участились сообщения о таких случаях. Сейчас все больше и больше говорят о пропажах детей, о создании целых индустрий, в которых дети используются в качестве объекта надругательств. В художественном фильме «Хостел» показана ситуация, в которой люди платят большие деньги за «удовольствие» замучить и убить другого человека. Тенденции культуры ведут к тому, что маниакальность становится не жуткой и редкой патологией, а явлением, масштабы которого растут; само явление преподносится как нечто, требующее спокойного отношения. В целом происходит культурная инверсия. Достойные порицания ценности и поведенческие практики все более тиражируются, вовлекаются в демонстративность и становятся нормой, а их антиподы уходят в небытие. Пошлость, цинизм, криминальный романтизм и т. д. на телеканалах стали нормальными явлениями. Вышедшие несколько лет назад боевики и ужасы, ранее удивлявшие многих, сегодня воспринимаются как вполне безобидные, не вызывающие никаких эмоций фильмы, хотя в них насилие не обличалось и даже смаковалось. Однако на их место пришла самая настоящая трэш-кинематография, в которой садизм и убийства представлены намного более изощренно и реалистично. Эти фильмы («Азбука смерти», «Необратимость», «Человеческая многоножка») больны и антинравственны по сути. Недаром говорят, что по результатам творения человека можно оценить самого человека.
Сегодня стало некоей нормой вкладывать извращенную фантазию и безобразие души в творчество и называть его творчеством, искусством, а самозванцев от искусства — новаторами и гениями. После ознакомления с ним нормальный, здоровый человек (который будет смотреть такие фильмы только ради исследовательского интереса) не способен ответить на вопрос: как в следующем своем «творении» киносоздатели смогут представить мерзость еще более реалистично и более извращенно? У здорового человека не настолько «хорошо» работает воображение, чтобы сгенерировать варианты ответа на такой вопрос. На новом витке «развития» соответствующей кинематографии демонстрируется сверхреалистичность насилия, репрезентация которой едва ли могла прийти в голову «прошлому» зрителю. То, что раньше именовалось чернухой и жестью, теперь представляется почти безобидным проявлением девиантной фантазии по сравнению с проявлением поистине делинквентной фантазии современности. Чтобы не смешивать прежнюю медиажестокость с нынешней, последнюю мы не можем называть жестью и чернухой, хотя других, более подходящих терминов для ее наименования пока не придумано. Названий жанров выдумано много, но те, которые используются, носят слишком мягкий, ни к чему не обязывающий, а потому не отражающий суть медиаявлений характер. За так называемым новым искусством скрывается то, что пока не поименовано по достоинству. Сегодня императив приоритета морали над искусством важен как никогда. Впрочем, аморальное искусство едва ли является искусством. Во многих представляемых широкому вниманию произведениях вместо творческой оригинальности просматривается деструктивное и пошлое оригинальничанье, достойное быть названным настоящим медиасадизмом. Пошлость и вульгарность фильмов и телепередач достигла уровня пытки — пытки над нравственностью и духовностью.
Особую популярность получили вульгарные произведения авторов типа В. Ерофеева и В. Сорокина, в которых смакуется пошлость и матерщина. Публично испражняющиеся художники стали проявлением нового стиля, креатива и смелости. Духовное бесплодие и морально-нравственное вредительство выдаются за новаторство. «Буржуазная духовная продукция “для масс” воздействует на психологию человека, особенно на область подсознательного, пытается стимулировать низменные инстинкты, чтобы паразитировать на них. Воздействует она и на разум человека, искажая реальную картину мира. ее стараются делать красивой, привлекательной, эстетичной, забавной, порой ироничной, она выглядит поучительной, очень похожей на правду, она интригует зрителя, держит его в напряжении, она дает ложные ответы на вопросы, которые его остро волнуют, и вместе с тем уводит его от нежелательных вопросов в мир грез и иллюзий, она заполняет его свободное время. Словом, он оказывается пленником этой культуры, “заботливо” производимой для него капиталистами — владельцами сети средств массовых коммуникаций и их наемным персоналом»45. Хотя эти обращенные к американской культуре слова были взяты нами из слишком идеологизированной книги, вышедшей в далеком 1986 году, они стали актуальны и для российского общества.
Неприятие безобразного — важное условие как эволюции человека, так и поддержания здоровья общества. Массовое потребление аморальности С. Кара-Мурза представляет как особый срез общества потребления46, с чем трудно не согласиться; консьюмеризм и аморализм — вещи очень близкие. В эту эпоху аморальными становятся не только потребители, но и сами СМИ, которые навязывают потребительский вкус. Неважно, что является хорошим и плохим в действительности, а важно, что средства массовой информации представляют как хорошее и что — как плохое. Такие качества, как порядочность, доброта и альтруизм, для потребительства являются псевдокачествами, с помощью которых счастья и успеха не добиться. И когда новоявленная культура проповедует соответствующие идеалы, о порядочности, добре и альтруизме не просто забывают, а их даже подвергают осмеянию. Об обществе, где на смену этим качествам пришли их противоположности, смело можно говорить как о больном.
Когда происходит криминализация культуры, и преступное искусство (так называемый шансон, романтизирующие преступность и поэтизирующие образ преступника романы и кинофильмы) и образ жизни в целом входят в культуру без всякого сопротивления последней этой интервенции, стоит задуматься о неутешительном прогнозе относительно дальнейшего развития культуры, общества и человека. Оправдание искусством преступности легитимирует криминал, но и делегитимирует само искусство.
Поскольку телекитч пользуется спросом, создатели ток-шоу и прочих китчевых телематериалов клонируют свои телевизионные продукты (заворачивают в «новую обертку» для создания притягательного эффекта новизны) и представляют вниманию зрителей все больше и больше семантически, эстетически и аксиологически пустых телепередач. Это еще сильнее укореняет в зрителях потребность в просмотре этих передач — вот наиболее наглядный пример самовоспроизводства китча. Эта гегемония китча делает его культурой повседневности, а внутренняя пустота — культурой с пустым центром, телом без органов.
В советское время каждый вышедший фильм подвергался цензуре, но цензура осуществлялась так, чтобы фильм учил чему-то доброму — приоритету общественных интересов над личными, созидательному активизму и добросовестности в труде, направленности на создание семьи, социальной ответственности и т. д. В постсоветскую эпоху такая цензура исчезла, и многие фильмы, будучи поставленными на рельсы коммерческого успеха и интегрированными в господствующий тип культуры, стали выполнять свою социализирующую функцию совершенно иным образом. Если в СССР молодость представлялась в кино (и являлась в реальности) промежуточной стадией жизненного пути, на которой человек делает правильный выбор жизненной цели типа ориентированности на принесение пользы своей стране, сегодня она представляется как стиль жизни (вместо молодежной культуры есть молодежный стиль), как бесконечная стадия, характеризующаяся беззаботностью, бесцельностью, раскованностью, независимостью от обязательств, потребительном (а не созидательным) активизмом, стремлением к личному успеху в ущерб общественным интересам, доминированием деловых отношений над дружескими, стремлением налаживать социальные связи для личной выгоды. Если ранее в кино мир ценностей конструировался дихотомично, предлагалось разделение на общественно одобряемые и общественно порицаемые ценности, сегодня проявляет себя «моральная гибкость» как отсутствие дихотомии ценностных ориентаций и четко выстроенной системы пропагандируемых ценностей, в рамках которой происходила бы социализация молодежи47.
Массмедиа, по сравнению с родителями и учителями, оказывают более гибкое воспитательное воздействие. Здесь нет назидательности и навязчивости, формирование ценностных ориентаций и поведенческих моделей происходит опосредованно, через развлечение. Поэтому массмедийное воспитание обычно бывает более эффективным, чем школьно-родительское. К сожалению, в большинстве случаев оно не просто не соответствует «здоровой» модели воспитания, а принципиально ей противоречит, декларируя следующие принципы: деньги — единственная ценность; насилие — нормальное явление; сексуальная распущенность — проявление цивилизованности и современности; без наглости и хитрости прожить нельзя; рыночные конкуренция и соперничество — проявления естественности. Массмедиа формируют в ментальном пространстве реципиентов определенный образ реальности, характерные которому ценности и поведенческие модели реципиенты воплощают в жизнь, тем самым трансформируя реальность в соответствии с образом, сформированным системой массмедиа. Так ментальная реальность выкраивает по своему лекалу настоящую реальность. Подстраивая свою смысловую инфраструктуру под потребности реципиентов и удовлетворяя их, масс-медиа удовлетворяют те запросы, которые сами конституируют. Происходит замыкание порочного круга.
Бизнесу невыгодно вкладывать деньги, например, в высокохудожественный просветительский фильм, поскольку аудитория будет явно недостаточно широкой из-за предложения культурного кода, недоступного большинству48. Бизнес в соответствии с законом конкурентной борьбы выбирает то, что люди уже готовы воспринимать, то, для восприятия чего людей не нужно дополнительно мотивировать. Происходит игра на понижение. Заурядность обеспечивает кассовость. В условиях рынка культура и искусство редуцируются самим рынком. Мир искусства в наибольшей степени наполняется общедоступными поверхностными продуктами китча, в еще меньшей степени — произведениями «срединной» (мид-) культуры и в наименьшей степени — произведениями высокого искусства, которым присущи интеллектуальная и эстетическая глубина, индивидуальный облик и актуализация определенных социально актуальных тем; но все равно сохраняется необходимость удовлетворять утонченные вкусы, присущие небольшой в количественном плане прослойке общества. Такая «широта» культурного ассортимента необходима для всеобщего удовлетворения потребностей и формирования образа плюрализма. Рынок подстраивается под вкусы, но вместе с тем он тиражирует усредненность. Таким образом, он не только отражает культурные тенденции, но и создает их.
Сами кинематографические (и не только кинематографические) деятели вряд ли понимают всю серьезность ситуации. Они просто зарабатывают деньги, снимая то, что априори будут смотреть широкие слои населения. Они подстраиваются к культурной конъюнктуре, согласно которой модными и современными являются такие ценности, как гламур, гедонизм, китч, вещизм, эго-ориентированный прагматизм, секс как развлечение и т. д. Подстраиваясь к витающим ценностям, они тем самым тиражируют и укореняют эти ценности, ибо кинематограф также является рекламным полем, формирующим соответствующий (положительный или отрицательный) образ тех или иных ценностей и поведенческих практик. Так происходит процесс самовоспроизводства того, что губительно для культуры. Произошедшие со времен ликвидации СССР и характерной ему государственной идеологии идеологические, экономические и т. д. изменения оказали сильное влияние как на общественную, так и на молодежную культуру, а заодно на кинематографический дискурс, который стал транслировать совершенно другие ценности. Произошел переход от культа личности (точнее, культа партии) к культу наличности.
Однако непонимание не освобождает от ответственности. Если кинематографисты и другие инженеры (без)духовной сферы, временно отказавшись от рыночной конъюнктуры, станут создавать действительно воспроизводящие духовную культуру произведения, на первых порах они получат недостаточную коммерческую успешность. Но впоследствии, когда совокупными усилиями удастся переломить потребительскую культуру и желание зрителей видеть на экранах секс и насилие, фильмы «нового поколения» станут вполне коммерчески выгодны. Человек призван думать не только о собственном кармане, но и о специфике того вклада, который он своей деятельностью несет. В реальности же высокие устремления, связанные с будущим коллективным благом, подавляются сиюминутными личными целями. Отказаться от рыночных трендов «предприниматели от культуры и искусства» способны только при государственной поддержке. Проблема состоит в том, что медийный тренд на примитивизацию и вульгаризацию духовной жизни создан не только «невидимой рукой рынка», но и политической волей. Известно, что власть контролирует медийную сферу, не позволяя проникать в нее оппозиционному политическому нарративу49. И при этом телеэфир заполнен китчем. В общем, для одухотворения социума необходимы именно политические решения.
Один из аргументов защитников потребительства звучит примерно так: любому живому существу присуще индивидуалистическое и эгоистическое начало, а потому социал-дарвинизм — естественные закон природы. Однако социал-дарвинистам противопоставляют себя социобиологи, говорящие об «обреченности» человека на альтруизм, а корни сопротивления альтруизму усматривают в несовершенстве социальных условий, которые искажают природу человека и его представления о себе самом50. Любые однозначные утверждения о природе человека выглядят высокомерно; длительное развитие человеческой мысли в целом и науки в частности до сих пор не дало четкого ответа на этот основополагающий вопрос. Поэтому однозначность утверждений высвечивает нам в первую очередь их идеологичность, а не научность. Неизвестно достоверно, какая сторона в этом вопросе претендует на большую правоту. Но известно, что социал-дарвинизм как образ жизни уничтожает социальную форму этой жизни и противоречит самой идее социальности человека, которая традиционно считается природной основой представителя человеческого вида (недаром человек именуется в обязательном порядке существом социальным).
Более модно и презентабельно пользоваться личной машиной, а не общественным транспортом, платными и индивидуально ориентированными, а не бесплатными и невнимательными к отдельному индивиду образованием (выбирать своим детям школу) и медициной (самому выбирать врача и время приема). Сегодня доля бесплатного сектора продолжает снижаться, а отношение к нему и к пользующимся его услугами людям со стороны потребительской прослойки преимущественно негативное; данный сектор обладает низкой котировкой в иерархической системе статусных знаков и ассоциируется с зависимостью, а не со свободой. Следует добавить, что у потребителей, заинтересованных в частных образовательных и здравоохранительных учреждениях, обычно не возникает претензий к власти за низкое качество услуг, предоставляемых государственными учреждениями, а значит, нет недовольства, стимулирующего чиновников улучшать функционирование данных учреждений.
В обществе потребления маргинальными признаются разные формы зависимости людей друг от друга (в том числе инвалидов от своих близких и от государства), хотя именно взаимозависимость есть основа нравственности, и осознание у человека того, что он своими действиями причиняет кому-то вред или приносит добро, выступает глубоко нравственным явлением. Консьюмеризм негативно воспринимает социальные программы в отношении больных, инвалидов, малоимущих, поскольку потребительская прослойка рассматривает их в качестве бремени для себя как налогоплательщиков; социальные программы, отвечая требованиям бедных, ограничивают свободу тех, кто способен обойтись без этих программ и гордится независимостью от них. Потребители предпочитают воспринимать бедное население в качестве обузы, зависимых от власти и налогоплательщиков и неспособных осуществлять «социально приемлемое» поведение неудачников, которые сами виноваты в своих бедах. Они выступают объектом порицания, так как не могут без внешней (государственной) помощи достойно обеспечить себя, а значит, избежать государственной регламентации их доходов (и, соответственно, потребностей); эта помощь и регламентация означают утрату индивидуальной свободы и превращаются в символический акт, стигматизирующий человека как отверженного, в узаконенное признание слабости человека. Объявляя бедного чуть ли не недочеловеком, самостоятельно несущим вину за свои неудачи, по сути отбирают у него право быть объектом моральных обязательств со стороны других людей, а с других снимают вину и ответственность за состояние бедняков и делегитимируют необходимость им помогать. Сами бедняки представляются чем-то не менее ужасным, чем невзгоды и лишения, которые им приходится переживать. Бедняки (и в особенности бедняки третьих стран) становятся похожими на античных рабов, к которым вообще не применялся моральный закон. Единственная разница между современными бедными и античными рабами — последние были функциональной собственностью рабовладельцев, а первые сегодня все более принадлежат самим себе, поскольку почти никто в них не нуждается как в социальном капитале и трудовом резерве. Они стали ненужным, избыточным населением недочеловеков, а людей, проживающих в цивилизованных странах, научают относиться к ним именно так. Такое отношение создает социальные угрозы, так как разделяет общество на группы «достойных» и «недостойных». Всеобщая, а не адресная забота государства о людях, основанная на принципах справедливого перераспределения богатств, наоборот, скрепляет общество.
Сейчас статус избыточного населения получает все больше людей в разных странах. Если раньше когорта безработных представляла собой резервную армию, которая могла быть призвана на работу практически в любой момент, сегодня по мере расширения этой армии и ненужности имеющегося количества рабочих рук она из статуса резервной переходит в статус избыточной, и к ней приклеивается указывающее на ее деклассированность название underclass. Теперь они — не временные безработные, а помещенная на обочину социальной системы группа. Во времена глобализации и развития новых технологий необходимость в огромном количестве рабочих рук падает. Далеко не каждый человек нужен глобальному бизнесу, далеко не каждый потенциально способен быть источником прибыли, поэтому большинство приобретают статус избыточных людей, несущих в себе не прибыль, а издержки. Футурологический прогноз идеологов коммунизма о том, что антигуманная эксплуатация труда станет усиливаться, оправдался не вполне. Вместе с усилением трудовой эксплуатации появилась тенденция антигуманной неэксплуатации, выбрасывания целых категорий людей за рамки трудовой сферы. По нашему мнению, признаками больного общества является как растущее количество бедняков, с одной стороны, так и наличие сверхобеспеченных гламурных консьюмеров — с другой.
Вместе с бедняками порицается и вызывает страх альтернативный потребительскому стиль жизни и альтернативный вариант социального жизнеустройства, который обычно представляется как обязательно основанный на всеобщей бедности и всеобщей зависимости от власти. Даже если социальная доля бедных количественно высока, в зараженном потребительством обществе они все равно осуждаются — и не только теми, кто их превосходит и стоит значительно ближе к реализации консьюмеристских идеалов, но и самими собой за неуспех и аутсайдерство, так как данный тип общества рождает невротика; ведь ценности недостижимы, но все равно остаются ценностями, а совокупное общественное богатство невысоко, и благ на всех не хватает.
Взращенное в 90-е годы XX века потребительство, основанное на индивидуализме и вещизме, усугубило социально-культурный регресс. Изменение структуры ценностей и потребностей ведет к трансформации системы социальной жизни. Создание новых ценностей типа вещизма и мещанства привело к изменению культуры отношения к себе, людям, обществу и стране. Потребности и ценностные ориентации, корреспондирующие с культурой потребления, объявлялись нормальными, естественными и природно обусловленными. Противоречащие потребительству советские ценности стали представляться, соответственно, неестественными, ненормальными и антиприродными.
Однако потребности — продукты не только природы, но и господствующего типа культуры. Инфраструктура потребностей обусловлена социокультурно. Какова культура общества, таковы и доминирующие в нем потребности, ценности и поведенческие практики. Животное хочет того, что ему необходимо, а человеку кажется необходимым то, что он хочет. Причем «хочет» — продукт не только естественный, но и социокультурный. «Нормальная» культура подавляет биологические потребности и желания индивидуалистического волюнтаризма, чем обеспечивает сохранение общества и человека. Если культура, наоборот, создает почву для их развития, она перестает быть культурой в полноценном смысле слова. Подмена главных культурных смыслов подменяет культуру в целом, выхолащивает из нее нравственность.
Сегодня необходим проект воспитания народа, основанный на объективной информатизации общества, отказе от манипуляций и ценностей потребительской культуры. Не нужны характерные для СССР битье по воробьям свободы и инакомыслия из идеологических пушек, идеологические ограничения и стремление к мировоззренческому единообразию. Просто нужен кардинальный пересмотр дискурсов, исходящих от официальных СМИ, и создание культурно-воспитательного медийного тренда, воспитывающего гуманизм, нравственность, чувство солидарности и другие социально полезные ценности, несовместимые с культами потребительства, насилия и индивидуализма. На путях рынка этого, как и других социально полезных необходимостей, достигнуть невозможно. Значит, стоит отказаться от рынка, который сам не является социально полезной необходимостью, метаценностью, ради достижения которого все средства хороши. Спасение от «морального одичания» зависит от государственной политики, от тенденций в образовании, литературе, живописи, театре, музыке, кинематографе и многих других сфер жизни, которые должны обеспечивать не духовный регресс, а, напротив, прогресс и самореализацию каждого.
Социальная деконсолидация в эпоху потребления
В обществах, где преобладает относительное равенство, был зафиксирован низкий уровень имущественного расслоения, безработицы, преступности, самоубийств, наркомании и психических расстройств. Им свойственен высокий уровень нравственной культуры и образования, доступность медицины и образования и высокий показатель научных изобретений. Даже в послевоенном, почти разрушенном СССР не было безработицы, какая наблюдалась в капиталистических странах даже в период их мирного существования. Люди не были так разобщены, они больше доверяли друг другу.
Согласно З. Бауману, городская жизнь требует владения сложным искусством «нейтрализации» влияния физической близости, которая способна повлечь за собой духовную перегрузку и навязать слишком обременительные моральные обязательства. Обособленность как средство обезопасить себя отделяет людей друг от друга в духовном плане; желание безопасности рождает одиночество, а вызванное отгороженностью одиночество усиливает стремление к безопасности. Для мегаполиса с его толчеей характерна универсальная отчужденность людей, взаимное общественное невнимание, которое позволяет защищать свою приватность, но и обеспечивает социальный разрыв, снижает уровень социального сочувствия и готовности помочь51. Физическая плотность мегаполиса, да еще с укоренившейся культурой потребления не обеспечивает моральную плотность, а формирует взаимное отталкивание людей. Как заметили психологи, в общественном месте у человека возникает феномен неприятия личной ответственности; так, если кому-то требуется помощь, многочисленные прохожие пройдут мимо него, думая, что ему поможет кто-то другой, что в таком густонаселенном пространстве просто не может не найтись тот, кто откликнется на зов.
При господстве характерного для мегаполиса всеобщего невнимания и невмешательства исчезают как дружба и сочувствие, так и острая вражда, которая была присуща прежним обществам, где люди были соединены многочисленными социальными скрепами и давали незамедлительный коллективный (групповой, общинный) ответ на проявление какой-либо угрозы члену их коллектива, носившему признаки всеобщей идентичности, так называемой мы-идентичности. Теперь всеобщей (скрепляющей) идентичности нет, а вместе с ней исчезли коллективные ответы на деяния, ранее квалифицировавшиеся как зло, которое необходимо умерить всеобщими силами.
Ушли времена, когда людей защищала моральная близость, и наступила эпоха возникновения технико-архитектурной защиты от моральной отдаленности, которая самим своим существованием профилактирует появление моральной близости. Возникает явление легкой социальности, которая, с одной стороны, не вызывает агрессии к другому индивиду как к «чужому», а с другой — делает восприятие людей сугубо функциональным и рыночным52. Глубина городских отношений утрачивается, традиционные общественные связи разрываются, сами отношения формализуются и обезличиваются, одиночество выступает условием усиления потребительского поведения.
Рост сетевых связей в современном обществе во многом возникает благодаря распаду традиционных связей, которые характеризовались значительно большей прочностью. Согласно данным, одинокие люди тратят на одежду, продукты питания, лекарства, средства по уходу, походы в рестораны и развлечения на 20–30 % больше, чем семейные (возможно, в том числе поэтому пропаганда холостяцкого образа жизни так активна); в России на шесть человек семейных встречается один одинокий, а в столице одинок каждый третий53. Конечно, под ослаблением социальных связей далеко не всегда следует понимать одиночество. В основном имеется в виду переход к достаточно поверхностным отношениям.
Общественному невниманию, связанному как с системами и стратагемами разобщающей индивидуальной защиты и гетерогенностью городского пространства (низкий уровень солидарности не только между всеми горожанами, но и между членами отдельных социальных групп и субкультур), так и с усиленным вниманием к предметам потребления, недалеко до полного пренебрежения интересами других, до крайней формы солипсизма. Потребительский мир во многом отличен от хайдеггеровского совместного бытия-в-мире, когда мир (мир присутствия как совместный-мир) есть всегда уже тот, который человек делит с другими, когда бытие-в есть со-бытие с другими, а внутримирное по-себе-бытие есть соприсутствие54.
В общинных (или просто небольших, где каждый знаком с каждым) социальных системах преступность обычно ниже, чем в мегаполисах с характерной для них минимизацией близких и глубоких социальных связей. У преступника, проживающего в «общине», актуализируется чувство стыда перед многочисленными знакомыми с ним людьми, которые осудят его деяние и мнение которых значимо для него. Наличие этой референтной группы осуществляет мягкий контроль над человеком, которого нет в современном мегаполисном пространстве.
Крупный город современного типа воспроизводит потребительские практики еще и потому, что у него исчезли многие прежние элементы городского пространства, по своей природе непотребительские или даже антипотребительские. В СССР города были организованы в соответствии с соображениями социальной полезности, а современные мегаполисы с их инфраструктурой отражают цель рыночной пользы, прибыли. Инфраструктура и пространство нынешних городов, подстегивая потребительские практики как способ самопрезентации, трансформируют ценностные ориентации, поведенческие практики и образ жизни общества и человека. К городскому «потребительски ориентированному» пространству относятся:
плотность городского населения и коммуникационно-информационных процессов как почва для моды, подражания и возможности примеривания любых идентичностей, которые часто обладают разными аксессуарами (например, стиль одежды), требующими реализации обширного покупательского поведения;
формирование с помощью Интернета собственных открытых коммуникативных структур (на фоне усиливающейся коммуникации растет коммуникативная фрагментация и появляются «точечные» субкультурные дискурсы), развитый рынок технических средств информатизации и коммуникации;
строительство жилья, которое маркируется статусом — элитарное или трущобное;
всеохватывающая реклама — разная по содержанию и по средствам размещения, но достигающая синергетического эффекта по повышению значимости досуговой деятельности в жизни реципиента-горожанина и формированию новых потребностей;
широкий институт СМИ, тиражирующих потребительские ценности и в основном предпочитающих качественной аналитике и глубокому психологизму художественных образов шаблонные идеи и примитивные характеры медийных персон;
наличие гипермаркетов, мест реализации развлечений и прочих социально индифферентных социальных пространств (обеспечивающие встречи всех со всеми);
интенсивность и вариативность коммерции;
деловая насыщенность;
внедрение международных (преимущественно западных) потребительских практик и образов жизни;
институт публичных персон — трендсеттеров (трансляторов модных трендов);
сопряженная с деиндустриализацией новая профессиональная среда, объединяющая рекламных агентов, пиарщиков, имиджмейкеров, маркетологов и других профессионалов в сфере обслуживания, преобразования не материальных объектов, а психологии людей.
Все эти аспекты недостаточно развиты в немегаполисной местности, а некоторые из них вовсе отсутствуют. Города превратились в потребительские пространства. Они развиваются благодаря скорости оборота потребительских средств.
Города отвернулись от демонстрации своей инаковости, выраженной в предметах и сооружениях, которые указывают на индивидуально-городскую историю, и повернулись к созданию альтернативного дизайна. Город состоит не столько из культурных памятников и вещей, несущих в себе «городской дух», сколько из многочисленных рекламных плакатов, вывесок и пр., которые в совокупности делают города одинаковыми внешне и одинаково ослабившими свою идентичность и память о собственной истории. Города отказались от ранее актуальной военной функции, выражавшейся в наличии крепостей, и лояльно отнеслись к строительству развлекательных учреждений, гипермаркетов и торговых центров. Более того, процессы глобализации стандартизируют городские пространства, делают малоотличимыми друг от друга городские кварталы.
Если традиционные культуры, как правило, осуществляли сплочение людей, то потребительство актуализирует удовлетворение только своих, индивидуальных потребностей, что способствует эгоизации человека и разрушает былое межперсональное единство на разных уровнях — от семейных до конфессиональных, от малых групп до больших.
Потребительство способствует сокращению рождаемости; консьюмеризм не приемлет семейных ценностей, а придерживается индивидуализма, согласно которому жить надо в кайф и жить для себя, а не для семьи или детей. И даже в странах с высоким уровнем дохода населения, но в которых господствуют потребительские ценности, наблюдается демографический спад, поскольку потребительская культура делает свое дело в том числе там, где у людей есть материальная возможность обеспечивать детей. Недаром отмечается, что по социально-демографическим характеристикам транжиры-шопперы, вкладывающие огромные деньги в брендовый символизм, — обычно неженатые/незамужние молодые люди или молодые семейные пары без детей55. Малодетность вовсе не обязательно связана с повышенной смертностью или с низким уровнем благосостояния.
Ячейкой общества всегда являлась семья, но теперь, с постепенной утратой социальности, ее легитимность ставится под сомнение, несмотря на то, что лишь семья способна быть общественной ячейкой; один человек, в отличие от семьи, не может продолжать род, а потому необходим социальный скреп в виде семьи. К тому же семья — это особый социальный мир, позволяющий скрыться от проблем повседневности, решить их всеобщими усилиями членов семьи, мир заботы, уюта, человеческого тепла и любви. Сейчас, в посткризисное время, уровень материального комфорта падает и на Западе. Однако индивидуализм диктует правило, согласно которому ячейка общества — индивид.
Для повышения рождаемости в стране необходимо реализовать множество мер различного уровня. Так, нужно обеспечить большое количество бесплатных мест в детских дошкольных и школьных учреждениях. Важно качественно повысить доплаты за рождение детей. Необходимо создать условия, при которых связанные с рождением детей перерывы в профессиональной деятельности женщин не повлияют негативно на их материальный достаток; тогда пойдет на убыль уровень отвлеченности женщин от семьи в пользу карьеры, а также снизится возраст материнства (сегодня он растет). Важно объявить борьбу потребительским идеологическим тенденциям, которые воспевают жизнь для себя любимого, представляют детей в качестве ненужной обузы и отвращают от обзаведения потомством, ведь нарушено не только количественное (демографическое) воспроизводство, но и качественное (культурное). Если ранее люди видели смысл жизни в своих детях, теперь они детей расценивают как барьер для реализации смысла жизни, сводимого преимущественно к развлечениям. Если ранее в СМИ культивировался идеальный образ женщины как матери, а мужчины как отца, теперь идеальным образом обоих стал бесполый консьюмер. Мир культуры подавил многие социально вредные проявления человека, а мир потребительской культуры подавляет инстинкт воспроизводства жизни, подменяя его искусственно сконструированным «инстинктом гедонизма». Наконец, необходимо бросить все силы на повышение уровня народного благосостояния, снижение безработицы и обеспечение уверенности в завтрашнем дне. Решения о рождении детей люди принимают под воздействием самых разных аспектов реальности, и меры как экономической, так и культурной политики — всего лишь одни из таких аспектов. Сама же депопуляция — не первопричина кризисов и проблем, а скорее ответ людей на серьезные проблемы, с которыми они столкнулись. Нельзя ожидать высокой рождаемости, если, по данным С. Кара-Мурзы, в 2003 году даже в Москве 50% опрошенных первой жизненной проблемой назвали страх за свое будущее и будущее своих детей, а в Северной Осетии такой страх представили как первую проблему 60%56. Одним только увеличением доплат побороть этот страх не получится.
Сегодня все менее наблюдается позитивная консолидация молодежи, основанная на солидарности, сотрудничестве и руководстве общественно полезными целями. Развиваются инфантилизм, индивидуализм и эгоизм. Прислушаемся к Г. Дебору: в условиях избыточного потребления исчезает взрослый как хозяин собственной жизни, а молодость как фактор изменения существующего перестает быть свойством молодежи57.
Наблюдаемые сегодня во всех сферах социальной жизни непредсказуемость дальнейшего вектора общественного движения и зыбкость социальных норм только подстегивают фатализм, недоверие, безответственность, агрессию, спад интереса к политике и вообще всему надповседневному, а также убеждение в бесполезности как самостоятельной, так и коллективной борьбы за улучшение тех или иных аспектов мира, политики и общества. В известном трудно найти методы борьбы с неизвестным, с неопределенностью. Эта непредсказуемость, поливариантность и мощь изменений мирового масштаба выражаются в глобальных процессах типа:
утрачивания государствами своей суверенности и политической силы в наступившую эпоху глобализации с характерными для нее централизацией и мобильностью огромных капиталов и их влияния на политические решения во многих странах;
экологических бедствий;
международного терроризма, который, руководствуясь непонятной логикой, не оставляет шансов предугадать, по кому он ударит в следующий раз;
вседозволенности и гиперразвития транснациональных корпораций, часть которых обладает бюджетом, значительно превышающим бюджет некоторых стран (и потому влияние правительств этих стран ослабевает);
давления национальной власти на общество, ее волюнтаризма, произвола правоохранительных органов и бесправия широких социальных слоев;
безработицы и падения влияния институтов, призванных отстаивать права трудящихся;
экономических кризисов;
роста нищеты;
неспособности экономических, политических и социальных наук давать точные предсказания, которые утвердили бы определенность или хотя бы вероятностность дальнейшего состояния общества и сфер человеческой деятельности;
быстрой смены конъюнктуры рынка, требований и условий труда, которая бьет по идее долгосрочности, стабильности жизни и упроченности личных обязательств;
увеличения количества мигрантов, которые далеко не всегда считаются с нормами жизни и даже законами принимающей их страны;
роста безнравственности и преступности;
аварий и катастроф;
военных угроз.
Список проявляемых сегодня и кажущихся неуправляемыми масштабных процессов весьма велик. С такими мощными тенденциями отдельный человек не способен совладать, и у него возникает мнение, что они неуправляемы в принципе или по крайней мере неуправляемы снизу, а потому борьба с ними есть борьба с ветряными мельницами. Порядок утрачивает право на существование, теряет основательность его характеризующее гармоничное сочетание определенным способом пригнанных одна к другой частей. Возникает замкнутый круг: люди своим бездействием и невмешательством упрочивают рост нестабильности, а последний, в свою очередь, укрепляет индивидуализм и деконсолидацию. Человек в обществе индивидов принимает интраполитические решения, то есть решения, касающиеся его личной жизни и управления собой ради самоустройства в существующих и не поддающихся изменению масштабных условиях, и сознательно или бессознательно отказывается от членства в объединяющем людей политическом целом, которое принимало бы общеполитические решения.
Социальная консолидированность нивелируется. Автономия индивида ставится выше моральных обязательств и социальных скрепов. Исчезает чувство ответственности не только за другого, но и за себя. Отношения приобретают поверхностный, недолговечный и прерывистый характер.
Даже акции протеста все менее массовы, а если и предполагают большое количество вовлеченных в них людей, то говорить следует о каком-то возмутившем широкие слои (обычно единичном) поводе, а не о глубоком объединяющем эффекте, фундированном сильным чувством солидарности, сопричастности и взаимопомощи. Профсоюзное движение скатывается к сугубо формальному существованию.
Политическая оппозиция настолько разобщена, что инвестировать чаяния в ее силу и мощь не представляется возможным. Сегодня одной из главных проблем выступает не фрагментированностъ политических предпочтений и трудность политически активных людей договориться друг с другом, а спад протестной активности как таковой и утрата идеологических и политических установок. Потребкульт, учитывая его аполитичность и центрированность на личном, не приемлет соответствующие установки в качестве важных элементов сознания. Он упрочивает дефицитарность социального субъекта политической жизни и политических преобразований. Как отмечает Г. Л. Тульчинский, при дисперсности, бесструктурности и «размазанности» общества, отсутствии в нем социально-экономических и политических связей и отношений, направленных на реализацию интересов разных социальных сил,, при неосознанности самих этих интересов, политическая активность приобретает деструктивный характер. Выборы теряют реальный политический смысл, амбициозные самозванцы превращают партии в группировки, а власть не ставит перед собой задачи консолидации общества58.
Отказ от участия в политической жизни — широкое явление, охватывающее как достаточно обеспеченную потребительскую прослойку, так и бедные слои населения, предпочитающие приобщению к протестным движениям приобщение к консьюмеризму. Значительная часть социума превращается в «политическое болото». Потребкульт является не единственной, но крайне значимой причиной деполитизации общества.
Людей уже не интересуют глобальные проекты. Для их реализации необходимы коллективные действия, которые отсутствуют не только потому, что люди потеряли веру в коллективизм, но и потому, что они потеряли веру в проекты. Социальное проектирование сменилось приземленным индивидуальным прагматизмом. Консолидация на основе общих интересов и проблем не представляется методом реализации собственных (индивидуальных) интересов, а, скорее наоборот, видится как условие ограничения персональной свободы и потеря личного времени. Особенно такое видение утверждается, когда люди смотрят на богатые образцы (среди которых бывают их близкие) и понимают, что успешные потребители достигли социально-экономических высот благодаря личной предприимчивости, а не коммунализму. Как отмечает П. Линке, начиная с перестроечного времени молодые люди сосредоточили внимание на точечных проектах, мелких вещах, соответствующих уровню «здесь и сейчас», отвернувшись от «мегамышления», увлечения утопией и разными грандиозными конструкциями, свойственными более старшему поколению59.
Практически ни одна проблема не представляется как общая, требующая внимания, мобилизации сил каждого и создания крупной активной общности для противодействия. Люди потеряли интерес к состоянию социально значимых систем, вне которых жизнь невозможна. Поэтому на противоречащие друг другу или реальности заявления политиков они перестали обращать внимание. Большинство проявляют пассивность перед лицом серьезных угроз и неготовность к каким-либо формам объединения60. Тем более сами угрозы осознаются людьми по-разному, различным образом ранжируются по значимости и потому не создают единой, монолитной и непротиворечивой симптоматики тревожности, характерной для каждого; эта «разбросанность» тревоги также влияет на отсутствие социальной интеграции и мобилизации, которая обычно вызывается сильным всеобщим страхом. «Неопределенность наших дней является могущественной индивидуализирующей силой. Она разделяет, вместо того чтобы объединять, и поскольку невозможно сказать, кто может выйти вперед в этой ситуации, идея “общности интересов” оказывается все более туманной, а в конце концов — даже непостижимой. Сегодняшние страхи, беспокойства и печали устроены так, что страдать приходится в одиночку. Они не добавляются к другим, не аккумулируются в “общее дело”, не имеют “естественного адреса”. Это лишает позицию солидарности ее прежнего статуса рациональной тактики и предполагает жизненную стратегию, совершенно отличную от той, что вела к созданию организаций, воинственно защищавших права рабочего класса»61.
Понятия социальной борьбы, предотвращения общественных угроз, патриотизма, социального целеполагания и всеобщего объединения не просто утратили серьезность в глазах людей, а давно стали подвергаться остракизму. Идею общих интересов и восстановления социальной справедливости замещает индивидуализация и тенденция, выраженная в попытке не коллективного, а индивидуального, атомарного и бесконфликтного проникновения, буквально просачивания в эшелон более высокого класса, в элитарную прослойку.
Культурную гегемонию одержал культурно-исторический тип, называемый мещанством. Он ненавидит культуру производства (например, советскую культуру). Он противоположен творчеству, прогрессу, верности идеалам и активности социального порыва. Для него неприемлемы никакие движимые социальными идеалами активные действия. Его суть, как метко заметил С. Г. Кара-Мурза, — «самодержавие собственности»62.
Потребительская прослойка напоминает бодрийяровскую массу, представляющую собой зону холода, у которой нет социальной энергии, и ее холод имеет возможность поглощать любую активность. Масса уничтожает знаки и смысл, которые впитывает в себя. Своей пассивностью она нейтрализует все призывы по отношению к себе — как государственнические, так революционные63. Однако общество и страна жизнеспособны, когда каждый чувствует себя защитником и строителем целого и связан с каждым другим узами ответственности и горизонтальной солидарности. Зачастую сама власть отказывается поддерживать социальную связность или стремится это делать, одновременно максимально отдаляясь от людей и тем самым подрывая доверие к себе и коллективизму.
Чувство собственной неспособности повлиять на происходящее вокруг связано с ощущением несправедливости, что в целом подрывает психику и физическое здоровье. Жить с ощущением несправедливости и одновременным пониманием своего бессилия — значит находиться в состоянии длительного и опасного по последствиям повседневного стресса (в 2009 году сочетание этих состояний было характерно для каждого пятого россиянина, и лишь 4% никогда их не испытывали)64. Для психики потребителя более комфортен примерно следующий (конечно, условно сформулированный) принцип: если «мы» не можем влиять на серьезность происходящего, если каждый из нас не защищен общим «мы», проще отказаться как от понятия «мы» и лежащей в его основе солидарности, так и от осознания серьезности происходящих в стране или в мире тенденций, ибо вместо «мы» и глобальных процессов есть «я» и мои личные интересы. Происходит вытеснение общественного из реальности. Сознание становится не реалистическим, а аутистическим, проявляющим эскапизм по отношению к угрожающим сообщениям (вытесняющим их) и предпочитающим скрываться под панцирем индивидуализма, под щитом гаджетомышления и гаджето-центрированности. Аутистическое мышление создает не соответствующие реальности, а приятные представления, даже если они совершенно не сообразуются с реальностью. Согласно А. Азимову, слово «идиос» по-гречески означает «частный, личный», и в Древней Греции человека, который не интересовался общественно-политическими проблемами, а ограничивался только личными вопросами, называли идиотом65. Идиот — тот, кто живет таким образом, будто внешнего мира не существует.
Сегодня выбор нового вкуса чипсов молодежь интересует больше, чем выборы во власть. Индустрия развлечений приобщает интерес массы не к актуальным вещам современности, не к злободневным проблемам, а, наоборот, к абсолютно ненужной информации, внимание к которой не требует никакого напряжения от реципиента и заглушает в нем голос критического ос-мыслителя действительности. Сознание или усыпляется примитивным развлекающим китчем, ликвидирующим интерес к действительно важным проблемам. Или же оно пробуждается более интеллектуально и эстетически высокими формами воздействия, но это пробуждение происходит для засорения сознания, направления его в сторону неверного понимания происходящих в стране и мире событий, искажения реальности, снижения мировоззренчески-методологической зрелости реципиентов.
Не желая воспринимать сигналы об угрозах, потребитель просто отключает систему восприятия угроз. Человек помещает себя в некое культурно-психологическое Зазеркалье. Общественное и индивидуальное максимально отдаляются друг от друга. В результате любые призывы к общественным действиям типа отстаивания своих прав вызывают скептическую улыбку и становятся похожими на глас вопиющего в пустыне. Культура потребления тривиализирует и дегероизирует человеческую жизнь.
Сплочение происходит на уровне небольших родственных общностей, в то время как идентификация с большими общностями нестабильна, а политические идентичности вообще отторгаются на периферию потребительского интереса. В целом социальная коммуникабельность утрачивается. Только самые близкие вызывают чувство доверия, микросоциальные сети взаимодействия остаются главными ресурсами выживания, а малые группы — структурами обеспечения средств защиты от различных опасностей. Конституируется опора исключительно на себя, семью и некоторых близких66.
Коллектив сужается до семьи или до индивида. Наряду с индивидуальным (точнее — индивидуалистичным) чувством, остается чувство связи с семьей, но чувства связи с родиной и обществом серьезно ослабевают. Семья воспринимается не как ячейка общества, а как убежище. Формирующиеся на основе родственных и дружеских связей социальные сети не доходят до уровня гражданских инициатив по защите общественных интересов. Поэтому если микросоциальные сети и оказывают посильную жизненную поддержку входящим в них людям, эта поддержка, естественно, не меняет существующий порядок, а лишь позволяет к нему приспосабливаться, в чем заключается ее принципиальная неполнота. Представляется существование взаимообусловливающей силы между сплочением в семьи и малые группы и отдалением на более масштабном — общесоциальном — уровне. Все это указывает на недостаток общественных качеств, позволяющих организовать действия не на выработку и реализацию какого-то надличностного проекта, а хотя бы на защиту элементарных прав и свобод, которые, впрочем, потребителям не кажутся ущемленными вследствие их деполитизированности и сфокусированности на личном микромире.
Надличностные проекты и причастность к чему-то великому перестали быть смыслом жизни, уступив место миниличностным проектам, причастности к эгоистическому минимализму, кентаврическому слиянию индивида с принадлежащими ему гаждетами, проекту гаджетоантропности. Исчезли глобальные социальные нарративы, притягивающие всеобщее внимание, актуализирующие всеобщую активность и направляющие ее в единое, строго определенное русло.
В. В. Петухов в 2004 г. писал, основываясь на результатах социологического исследования: «С одной стороны, сформировалось поколение людей, которое уже ничего не ждет от властей и готово действовать, что называется, на свой страх и риск. С другой стороны, происходит индивидуализация массовых установок, в условиях которой говорить о какой бы то ни было солидарности, совместных действиях, осознании общности групповых интересов не приходится. Это, безусловно, находит свое отражение в политической жизни страны, в идеологическом и политическом структурировании современного российского общества»67. Тенденция десолидаризации в последние годы только усилилась.
Принцип «своя рубашка всегда ближе к телу» переходит всякие разумные и нравственные границы. Человек крайне трагично относится к потере своих игрушек, но абсолютно индифферентно — например, к расхищению национальных богатств его страны, которые находятся за рамками его мышления и ценностного восприятия. Культура потребления взращивает социальную апатию, граничащую с аутизмом. Благодаря ей какие-либо серьезные проблемы страны и общества в глазах людей предстают как мелочи, недостойные внимания. Когда перед ними рушатся целые системы хозяйствования, они воспринимают этот процесс как мелочь, не задумываясь о том, что от данных систем зависит их личное благосостояние. Когда же происходят неполадки в их личной жизни, консьюмеры воспринимают их невротично-апокалиптически. Они превращаются в детей, узкие интересы и ограниченная масштабность мышления которых не распространяются за пределы своего микромира (песочницы и игрушек). Наблюдается тенденция занижения до минимума ранга серьезных социальных проблем и завышения до максимума личных неурядиц. Людей волнует не глобальная проблематика, а лишь те проблемы, которые становятся на их личном пути и служат барьером для реализации их личных целей. Редко люди задумываются о том, что эти проблемы зачастую имеют глубокие корни, растущие не из местечкового локального аспекта, а из функционирования масштабных систем, и потому выбрасывают накопленную агрессию совсем не на тот объект, который заслуживает справедливого гнева. Скорее всего, именно поэтому массы придают большее значение сводкам о локальной («на местах») преступности, а сообщения о коррумпированности какого-нибудь крупного чиновника привлекают меньше внимания; возможно, не возникает понимания того, как наказание крупного государственного функционера, жертвы которого неконкретны и анонимны, может обезопасить людей от гнетущей повседневности, вызванной угрозой обычной уличной преступности, способной обратиться против каждого и избрать для себя абсолютно конкретную жертву. Люди, наполненные апатией и равнодушием к серьезным проблемам и, напротив, сверхчутким вниманием к личным проблемам, не могут создавать здоровое общество, готовое к каким-либо инновационным прорывам. Они в своем малодушии и неведении отпускают от себя бытие, дистанцируясь от него, теряют всякую возможность влиять на его ход, позволяют бытию ускользать от их влияния, предпочитают бытию быт, микромир индивидуализма. Присутствие в мире разменивается на присутствие в микромире.
Консьюмер может безучастно, с большой долей равнодушия, смотреть на разрушение инфраструктуры своей страны. У него не вызывают яростный протест ни разрушение сельского хозяйства, ни ликвидация огромных промышленных секторов, ни остановка финансирования науки, ни многие другие деструктивные инициативы. Помимо череды разрушений, каждое из которых стало угрозой для страны и общества, взращенная социальная апатия пополнила собой список угроз. Нечувствительность к проблемам общества, страны и мира — одна из метапроблем и социальных метаугроз, характерных для эпохи потребления. Она способна актуализировать множество других угроз.
Угрозы, воспринимаемые как барьеры для реализации личных интересов, периодически мотивируют людей на индивидуальные действия, а угрозы социальные обычно не сопряжены с мотивацией к активности. Уместно предположить, что потребительские заботы представляют собой некую форму компенсации за отсутствие властных полномочий и за властное угнетение. Они не приносят свободы в системе властных отношений, но создают удовлетворяющий симулякр свободы и автономии в системе частного выбора продуктов, гаджетов, мест отдыха и т. д. Естественно, потребитель благодаря функционирующей психологической защите склонен рассматривать этот симулякр не как симулякр, а как истинную свободу действий.
Засилье развлекательных телешоу погружает народ в поле развлечений, в матрицу, находясь внутри которой, люди перестают задумываться о делах насущных, по-настоящему важных и серьезных. Им уже не нужна истина вещей, теперь для них главное — это состояние счастья, получаемое от просмотра низкопробных телешоу и юмористических телепередач, юмор которых весьма далек от интеллектуализма. Весь этот китч парализует протестную волю народа. Гламуризация массмедиа забалтывает, пропевает и затанцовывает реально актуальное и социально проблемное. Человеку хочется быть счастливым, и он отвлекается от гнетущей реальности, погружается в чудесный мир, созданный СМИ, и обретает счастье. Именно этого и добивается власть — политической импотенции масс, их пассивности в делах управления страной. Политика СМИ, пиар и реклама обволакивают реципиента паутиной требований, предложений, претензий, ложных и неложных потребностей.
Для этого постмодернистского эдема есть все: IP-технологии, виртуалия, телесные практики и т. д. Нет теперь больших проектов, на которые власть мобилизовала бы массы; единственный большой проект — это сама власть. Да и вообще, в современном мире, для которого характерен стремительный прирост знаний и научно-технический прогресс, больше нет места кардинальным изменениям в области политики; новые гаджеты, стимулирующие все большее потребление, переносят идею перемен с политической арены на арену быта, в лоно повседневности, где последняя модель сотового телефона — самая совершенная и самая крутая — важнее всего остального. Эпоха хронических открытий не только обогащает сферу быта, но и засоряет производством гаджетов и фиктивных потребностей, которые отвлекают внимание от глобальных вещей и уводят в микромир домашних стен.
Потребительство предлагает решать проблему контроля над жизнью путем аутореферентности, сводимой к многочисленным покупкам и вовлечению в рынок услуг. Причем потребительское внимание настолько сузилось, что его предметом стаза не личная жизнь в целом, а некая ее однодневная часть, и жизнь превратилась в кратковременный цикл. Лонгитюдное видение жизненных перспектив сменилось короткими индивидуальными проектами (short individual project) с характерными им планами исключительно на короткое время. Жизнь в кратком времени сугубо индивидуального бытия является барьером для поддержания межпоколенных и вообще социальных связей и возможного объединения с другими людьми ради достижения более или менее протяженных во времени стратегических целей.
Из коммунистического дискурса исходит идея, что частная собственность отдаляет людей, так как осознание своей собственности сопряжено с осознанием ее непринадлежности кому-то другому. Эта мысль особо актуальна для изучения именно потребительского общества, где связь человека с вещами приобрела черты сакральности, а связь с другими людьми понизила свое значение; здесь имеется в виду солидарная связь с другими, а не та, которая, выступая инструментальной ценностью, позволяет воплощать в реальность эгоистические интересы одного человека за счет интересов другого. Сакрализация владения вещами обострила отказ другим в доступе к этим вещам, а вместе с тем и ослабила связующую людей нить. Конечно, на основе этой мысли было бы по меньшей мере неразумно призывать к отказу от частной собственности, от которой отказаться в полной мере невозможно, ибо человек по природе своей — существо как социальное, так и индивидуальное, которому свойственно свои потребности ставить выше потребностей другого. Однако, не впадая в крайности, следует заметить необходимость отказа не от частного, а от его сакрализации, абсолютизации, происходящей в ущерб ценности коллективного.
В обществе, где укоренены ценности плеонексии (с греч. pleo — «больше» и echei — «иметь»), стяжательства, эгоизма, алчности, личной выгоды (в том числе за счет других людей), индивидуализма и обладания, мало кто хочет жить согласно ценностям солидарности. Во-первых, в таком окружении становится крайне проблематично выжить и чего-то добиться с помощью социально утверждающих ценностей. Во-вторых, «общественник» представляется другим в качестве аутсайдера, маргинала, каковым быть почти никто не желает, то есть по-настоящему человечные, общественно созидающие ценностные ориентации получают статус пороков, достойных осмеяния. Для избегания риска стать отверженным каждый приспосабливается к большинству и тем самым множит потребительские стратагемы. Парадокс заключается в том, что при господстве индивидуализма каждый такой приспособленец к большинству антагонистичен этому большинству и себе подобным.
Крысы считаются одними из самых социальных животных. Основа их живучести заключена в их социальной сплоченности. Их сообщество, можно сказать, напоминает единый организм, в котором нет эгоистического индивидуализма. Авторы книги «Проект “Россия” пишут о проведенных над крысами экспериментах, цель которых — разрушение социальных связей путем внедрения безнравственности. Сильная крупная особь долго морится голодом, после чего к ней в клетку бросают мертвую крысу. После некоторого замешательства она все-таки пожирает тело своего собрата. Потом в клетку попадает еле живая особь, и первая ее также съедает, руководствуясь рациональной позицией «она все равно умрет, а я должна выжить». Планка безнравственности растет. И когда в клетку попадает крысенок, наша особь, нравственность которой уже расшатана двумя первыми инцидентами, поедает этого крысенка, следуя принципу «выживает сильнейший». В общем, уровень безнравственности с каждым новым разом повышался, и на принятие решения уходило все меньше времени. В результате отношение крысы к своим соотечественникам существенно изменилось. Она перестала колебаться — жрать или не жрать собрата, — и ее действия наполнились решительностью. Затем ее выпустили в родное крысиное сообщество. Но это уже была другая крыса, у которой прежнее нравственное отношение к собратьям сменилось на логику эгоизма. Однако окружающие особи не знали об этом и продолжали ей доверять как своей. Вскоре эта крыса вместо поиска пищи для себя и для сообщества стала воспринимать представителей данного сообщества в качестве пищи и тайком начинала их пожирать. Крысы впоследствии уходили с этого места, словно боялись стать такими же, как эта трансформировавшаяся особь, словно боялись впитать ее безнравственную модель поведения, разрушить механизм социальной защиты и превратить сообщество в поле борьбы всех против всех.
Аналог такой крысы в человеческом обличье рассуждает: 1) не ограблю лежащего пьяного, это сделает кто-то другой, так пусть лучше буду я, тем более он все равно пропьет, а мне деньги нужней; 2) раз денег всем не хватает, пусть выживает сильнейший. Бизнесмен мыслит: 1) если не понижу зарплату работникам, разорюсь я, и они потеряют работу; 2) если я часть работников не уволю, как я, так и они потеряем работу; 3) думая о судьбе других, разорюсь, так что пусть они сами о себе думают, а я буду заниматься торговлей вредных для здоровья людей продуктов. Политик мыслит: 1) не буду много обещать — меня не выберут, а лучше оказаться в числе избранных, чем в числе масс, тем более мои конкуренты тоже много обещают невыполнимого, так что я не хуже их; 2) если не буду торговать местами в свою партию, деньги на выборы не получу, и их получат мои конкуренты, а выборы все равно состоятся; 3) если я откажусь участвовать в лоббировании закона, легитимирующего грабеж общества, этот закон протолкнут другие, так пусть лучше это будет сделано через меня. Или такой вариант: 1) политику предлагают взятку в виде благодарности за легальную, но ускоренную работу; 2) затем предлагают пролоббировать финансирование школы через бюджет, а с выделенной суммы взять откат -«не ты, так другой возьмет, а ты денег заработаешь и близким пользу принесешь»; 3) затем предлагают сделать то же самое, но не со школой, а с больницей68.
В. И. Ленин так формулировал принцип прежнего капиталистического общества: либо ты грабишь другого, либо он — тебя, либо ты работаешь на другого, либо он — на тебя, либо ты рабовладелец, либо раб, угождая и потворствуя такой власти, человек сохраняет свое местечко и возможность пополнить ряды буржуа69. Этот принцип является актуальным и сегодня, применительно к современным обществам. Согласно А. Турену, втягивание населения в рыночную экономику, которая характеризуется отказом от регулирования и контроля экономической деятельности, приводит к дезинтеграции всех форм социальной организации и распространению индивидуализма. Социальные нормы заменяются экономическими механизмами и стремлением к прибыли70. Прагматизм и расчетливость способны объединить некоторых людей или даже группы, чьи меркантильные интересы временно совпадают, но они не могут служить объединяющей основой на всенародном уровне и выступать вдохновляющими идеями, скрепляющими социум. Вообще, в потребительском обществе доминируют не идеи и идеалы, а меркантильные интересы, вовлекаемые в мощную конкурентную борьбу, вытесняющую возможность диалога и сотрудничества.
Человек, в отличие от крысы, способен с легкостью становиться на далекий от социального созидания путь, даже если он не помещен в жесткие условия типа «или я — или меня». Но он часто пытается убеждать себя в наличии этих условий, чтобы иметь возможность для оправдания утраты нравственного поведения. И если предположить, что все члены общества станут такими же порочными, как эта крысиная особь, если ее стиль жизни впоследствии станет принятым общественным большинством, само общество превратится в поле битвы всех против всех, в пространство социального каннибализма и в конце концов полностью разрушится. При доведенном до состояния рассыпающегося песка обществе не остается места для социальных конструкций. Такой риск характерен для гипер(пост)капиталистического потребительского общества, общества без тормозов, где нравственность как социальный фундамент заменяется утилитарной и прагматичной логикой. Процесс социального измельчания, индивидуализации и деконсолидации влечет за собой утрату коллективных памяти, воли и разума, в свою очередь влияющую на различные системы социальной жизни. Происходит тотальная социальная фрагментаризация. В обществе, где данные процессы усилятся до максимально возможного состояния, будет невозможна даже гражданская война, поскольку само общество превратится в перманентную гражданскую войну, в ее новый тип.
Больному, распавшемуся на индивидуализированные части обществу свойственно вести борьбу с самим собой. Залогом социального единства людей выступает духовная жизнь общества, наличие именно общественных моральных ценностей. Когда их нет, возникает внеморальное единство. Конечно, основанные на взаимопомощи процессы интеграции тоже происходят, но их количество и качество снижаются в индивидуализированном обществе потребления. Помимо них, вследствие морального спада идут также процессы криминальной интеграции. Чувства солидарности и товарищества представляются неадекватными современности и рудиментарными, а на их место возводится принцип индивидуализма. Товарищество было системой связей, характерной для СССР и пронизывающей общество в целом. Сейчас оно ушло с социально-культурной сцены. Остались бесконечно дробящиеся меньшинства, но нет единого в своей истории и судьбе народа.
Любые проблемы мира, в том числе и экологическая, вызывают у прагматика-гедониста вопрос «Что я от этого получу?», который демонстрирует верх меркантилизма и безответственности и глухоту ко всему, что выходит за рамки индивидуальных потребностей. Вместо общечеловеческих ценностей наблюдается наступательное воздействие социальной дезинтеграции, аномии и отхода от какой бы то ни было объединяющей национальной идеи, в результате чего утрачивает ценность патриотизм, чувство личной причастности к судьбе страны и ее народа.
«В сегодняшней России, в отражающей ее жизнь литературе, в системе воспитания исчезли положительные герои. Не стало не столько героев-защитников, сколько самого объекта защиты, ибо с исчезновением общенациональной идеи весь некогда единый народ России распался на множество частных лиц»71. Спасаться предлагается в одиночку, а спектр планирования и целеполагания не выходит за пределы «я». Даже при росте населения существование общества может быть под угрозой, если оно охвачено потребительством; важность проблемы измеряется качественными, а не количественными показателями. Поэтому сам термин «общество потребления» весьма условен.
Общество не поддается редуцированию до простой совокупности индивидов, а является совокупностью связей между ними. Когда потребление начинает играть доминирующую роль в обществе и общественных отношениях, оно приводит к трансформации специфики этих отношений. Общество и культура являются продуктами деятельности человека, равно как и человек с его принципами, взглядами и ценностными ориентациями есть общественно-культурный продукт. Совокупность потребительски ориентированных индивидов, утратившая общественное, утратившая необходимые для связи друг друга скрепы, способна продуцировать индивидов «по образу и подобию своему» — таких же асоциальных и ориентированных на потребление. Асоциальность и индивидуализм потребительства выступают объединяющими индивидов ценностями, но не скрепляющими их между собой.
Скрепляющая людей община ушла в прошлое, а право научного интереса переходит к населению как малосвязанной совокупности индивидов. Люди (рабочие, интеллигенция и т. д.) в России есть, а сообществ (или классов), объединенных общим (классовым) сознанием, нет. Интеллигенция и рабочие деклассировались и люмпенизировались еще в годы перестройки. В результате обеднения и потери социального престижа они потеряли уверенность в своей нужности для общества и страны, утратили объединяющее их классовое (и профессиональное) сознание, а также минимальную возможность участвовать в управлении предприятиями и вообще в социально-политической жизни. Ценности, ранее собирающие их в профессиональную общность, исчезли, и произошел сдвиг от коллективизма к индивидуализму. Безработица привела к дисквалификации и потере связей с профессиональным сообществом, что также ослабило классовое сознание и усилило атомизацию.
При нарастании критического объема социопатического потребительства общество как система взаимосвязей не выдерживает данной тенденции. Социальные единство или «собранность» сменяются внутренним единством индивида, происходит перевоплощение человека общинного в свободного индивида. Пришло время социологам задуматься, не утратила ли их наука в современных условиях объект своего изучения, не исчез ли он с появлением новой формации, которая нивелирует общественное, в которой вместо общества фигурирует население и господствует индивид — «необщественный человек». Потребительское общество — это мир одинокого в своей индивидуальности консьюмера-солипсиста. Потребительское общество — «общество», отрицающее свою социальную суть и возможность своего именно социального существования. Оно из-за деконсолидированности представляет собой кучу песка, совокупность индивидов как целое, которое меньше суммы своих частей, в то время как здоровое общество, объединенное национальной идеей, проектом и многочисленными социальными связями, является совокупностью, где целое больше суммы своих частей.
Также есть смысл культурологам, вектор исследовательского интереса которых направлен на осмысление современных культурных тенденций, задуматься о прочности позиций рассматриваемого объекта, так как культуру потребления следует считать культурой бескультурья. Культура потребления по характеру своего охвата социальна (как и любая культура), а по своему внутреннему содержанию антисоциальна. Отказавшись от советской культуры, Россия не обрела иной — высокой, нравственной, эстетически насыщенной и жизнеспособной. Культура в подлинном смысле этого слова как объединяет людей в общество, так и делает их людьми. Потребкульт данные функции не выполняет.
Согласно психоанализу, каждый человек — противник культуры, лишающей его своей природы. Имеет место следующая причинно-следственная зависимость: чем выше уровень культуры, тем больше степень невротизации, так как каждая ступень культурного развития «сопряжена с установлением новых ограничений внутреннего (морального) или внешнего (правового) порядка, новых запретов, сужающих сферу дозволенного, новых препятствий на пути к удовлетворению инстинктов»72. Культура приводит к возрастанию массы лишений, но не потребительская культура. Она, в чем и кроется ее принципиальное отличие от «культуры вообще», не запрещает, а разрешает, не лишает, а соблазняет, не ограничивает, а сподвигает, не морализирует, а деморализирует.
Одни исследователи акцентируют внимание на достижениях плановой модели экономики, в то время как другие отдают предпочтение свободному рынку. Однако как тот, так и другой вариант являются крайностями, вбирающими в себя больше недостатков, чем достоинств. Настолько же несостоятельно противопоставление социалистическо-коллективистского принципа «общество выше личности» и капиталистическо-индивидуалистского «личность выше общества», так как личное благо призвано находиться в гармонии с общественным, и свобода личности должна быть связана ответственностью перед обществом.
Общество диктует правила и нормы личности, предписывает правила взаимодействия, но и личности определяют вектор развития общества. Ценность бытия и сознания, личной свободы и неприкосновенности отдельного человека неоспорима, но им недозволительно перерождаться в игнорирование аналогичных ценностей других людей.
Свобода каждой личности ограничена свободой другой личности. Абсолютная свобода невозможна, поскольку человек — существо социальное, а полная свобода всех ведет к нормативно-поведенческому хаосу и волюнтаризму (в свою очередь, силой ограничивающему свободу других), который находится в антагонизме с личной безопасностью, с социальностью как таковой.
Абсолютная свобода — это автономия от всего, в том числе от культуры, которая, ограничивая некоторые естественные желания и наклонности человека, противоречащие самой возможности социального сожительства, дает безопасность и богатейшую основу для совместного существования. Освобождение свободы привело бы к тотальной десоциализации, противоречащей потребностям человека как общественного существа, к одиночеству и вместе с тем к утрате личной безопасности. Полная свобода сделала бы невозможной совместную жизнь людей, так как исчезли бы социальные скрепы, а доведенная до абсолюта приватность человека превратилась бы в отсутствие приватности, поскольку каждый чувствовал бы свободу проникать в личную жизнь каждого.
Индивидуализм и основанная на нем либеральная идеология имеют заслуги борьбы против рабства и тоталитаризма за господство права и личной свободы. Но наблюдаемая сегодня экспансия индивидуализма, которая стала проявлением культурного мэйнстрима, выливается в тиражирование и укоренение эгоизма. Массированная атака индивидуалистических ценностей не создала осознание людьми ценностей свободы и ответственности, личного достоинства и пр., а конституировала некое инверсивное понимание свободы (без ответственности), десолидаризацию и усиление конфликтности, социал-дарвинизм и другие явления, свойственные культуре потребления. Однако человек, живущий в обществе, призван не только использовать свою жизнь исключительно для личного блага, но и своей деятельностью укреплять социальную систему, быть общественно полезным.
Современная борьба индивидуализма кардинально отлична от предыдущей как характером ее ведения, так и характером преследуемых ценностей. Борьба за гуманистические идеалы, совершаемая под флагом либерального индивидуализма, сегодня переросла из практики героических выступлений в сферу рекламной идеологизации и потребительской коммуникации (потеряла свой героизм), а объект борьбы с ценностей гуманизма сменился на ценности консьюмеризма.
Примечательно то, что прошлые высокие идеалы при сильном акцентировании необходимости победы индивидуализма над коллективизмом с легкостью оборачиваются своими эрзацами. При победе индивидуализма он из цели превращается в проблему, поскольку далеко не всегда индивидуализм сводится к защите свободы личности от тоталитаризма и к достижению гуманистических идеалов. К тому же тоталитаризм вовсе не обязательно выстраивается на прочных основах коллективизма; современность показывает возможность тоталитаризма, фундированного именно индивидуализмом. Впадение в крайность индивидуализма или коллективизма рождает фантомы, которые изначально не предполагались в качестве целей.
Частное заинтересовано в своей безопасности, обеспечение которой требует (путем установления норм, правил и законов) некоторых ограничений частных свобод, противоречащих принципам совместного существования людей. А эти ограничения, в свою очередь, склонны вызывать неприязнь со стороны частных интересов. Ненависть к несвободе компенсируется страхом перед одиночеством и опасностью. Поэтому возникает непреодолимое противоречие между двумя кандидатами на роль высшего приоритета: прав и свобод личности, с одной стороны, и национальной (социальной) безопасности и общественного благополучия — с другой. По нашему мнению, эти ценности являются одинаково значимыми, а потому нельзя превозносить приоритетность одной за счет другой. Все-таки общее благо призвано не уничтожать личную свободу, а накладывать на нее разумные ограничения. Столкновение частных воль, свободы и необходимости, независимости и солидарности, личных устремлений и социальной целесообразности — антагонизм, априори неразрешимый, но необходимый, поскольку уклон в одну сторону уничтожает сам антагонизм, но цена такого уничтожения слишком высока для общества или для индивида. Таким же вечным антагонизмом выступает проблема выбора между типами культуры — гомогенным и гетерогенным. Гетерогенная культура присущим ей плюрализмом мнений относительно разных сторон жизни, разнообразием различных идеологем и авторитетов делит человечество на враждующие сообщества, разжигает взаимную вражду, но предоставляет человеку широкое поле для самореализации. Однако единообразие предпочтений, свойственное гомогенной культуре, не инициируя вражды и потому закладывая фундамент относительно мирной социальной жизни, тотализирует личность.
В идеальном плане как личная свобода, так коллективная безопасность и социальное взаимодействие должны реализовываться в примерно одинаковой форме, уравновешивать друг друга, хотя борьба между ними и представляет собой игру с нулевой суммой, диктуемой принципом «или-или». Наконец, выраженный в крайне эгоистической форме волюнтаризм, коррупция, государственное или олигархическое давление есть преступление как перед обществом, так и перед отдельным человеком. Не бывает преступлений перед личностью, не оказывающих негативного влияния на общественный уклад, равно как и наоборот.
Общество призвано быть объединенным социально центрированной целью, ибо разъединенный, атомизированный социум становится массой, лишенной общего вектора движения, а значит, социально-государственной силы и социального развития. Но данная объединенность, фундированная на иерархии ценностей, отвечающей потребностям развития здорового общества, должна сосуществовать с правом и свободой отдельной личности.
Безличностный коллективизм и безколлективная личностность являются крайними точками, требующими своего преодоления в некой срединной координате. Впадание в крайность первой даже ради построения совершенного общества унифицирует человеческую инаковость, приносит личность в жертву, а фанатичная акцептация на второй атомизирует общество. Третирование личностной автономии, с одной стороны, и коллективного единства — с другой, суть крайности, альтернативой для которых является не противопоставление личности природе и обществу, а представление гармонии взаимодействия «я — другой», не конфликтность, а диалогичность. Человеку надлежит сохранять как уникальную субъектность, так и общесоциальную духовность. Как человек существует для общества, так и общество существует для человека. В этом заключен принцип единства индивидуального и социального.
Отношение консьюмеризма к труду, досугу и системе кредитования, практики антипотребления
Потребность в демонстративной праздности подчеркивает дистанцирование от труда как непопулярного, неблагородного и даже унизительного вида деятельности, а также дистанцирование от групп, вынужденных заниматься трудом, и вместе с тем от людей, полагающихся на социальное обеспечение. С точки зрения консьюмеризма, человек, вынужденный тяжело трудиться (в первую очередь на малооплачиваемой работе), и тем более человек, живущий на пособия и льготы, — несостоявшийся, неразумный, неудачливый и т. д. К льготникам и малоимущим, помимо названных представлений, консьюмеризмом еще прибавляется обвинение в социальном паразитизме.
Место таких ценностей, как бережливость и любовь к труду, заняла расточительность. Потребкульт нарушает баланс между производством и потреблением, высмеивая одно и абсолютизируя другое. Соответствующий характер массмедиа (прежде всего дискурс рекламы) диктует, что для обеспечения хорошей жизни ничего не надо делать, не нужно совершать инвестиции в будущее сейчас, чтобы будущее характеризовалось материальной обеспеченностью, не стоит откладывать потребление ради инвестиций в будущее. Этот дискурс создает нереализуемые утопии. Труд выступает средством получения потребительских благ для загипнотизированных модой и рекламой людей, которые не имеют достаточного количества финансов для воплощения этого желания, а потому вынуждены трудиться. Антиценностью стала тяжесть труда, а передовой ценностью — материальное вознаграждение. Самоопределение в труде, реализация знаний и способностей через труд и профессиональное развитие как мотивы и ценности потеряли свою значимость. Другая же часть консьюмеристски настроенной прослойки, наоборот, не испытывает никакого уважения к труду, считая его низким и недостойным занятием, а человека, отмеченного необходимостью труда, предпочитает водворять на социальную периферию, где жизнь представляется менее осмысленной и менее достойной. Труд, равно как и приверженность обычаям и высоким социальным идеалам, идеологией потребления подвергается символическому насилию, критикуется и высмеивается. Под трудом понимается не редко встречаемый «труд в удовольствие», а носящий вынужденный характер труд, который необходим в борьбе с бедностью, который маркирует низкий социальный статус рабочего и обязывает подчиняться трудовой этике и соответствующим предписаниям.
Консьюмер стремится к самовоплощению в области, находящейся по ту сторону труда, но по эту сторону вещей. В обществе «психопатологии изобилия» уважением пользуются не трудящиеся и не нонконформисты-вольнодумцы, а те, кто приближен к политической или экономической элите. Впрочем, политика и экономика настолько связаны и переплетены, что приближенность к политической элите зачастую априори знаменует приближенность к экономической, равно как и наоборот. Человеку физического труда, как и свободному мыслителю, в таком обществе места нет. Обаяние шикарности сместило обаяние труда, а заодно рабочего класса как представителя труда и интеллигенции как представителя духовной культуры. Эти два сообщества составляют социальный каркас, зачастую консолидирующий общество, а их разрушение ведет к социальной деконсолидации. Вакантное место есть для популярного телеведущего, диджея, поп-звезды, пиарщика, имиджмейкера, спичрайтера, чиновника и провластного олигарха, банкира, деятеля шоу-бизнеса, популиста, разменивающего свободу слова на свободу дорого продавать свое слово.
Сегодня наиболее высокую зарплату получают те, кто не вовлечен в структуру производительного общественно полезного труда; они вовлечены в сферу услуг, которые, в свою очередь, носят сомнительный характер по части своей социальной полезности. Люди, занимающиеся производительным трудом, получают значительно меньшую зарплату. Это явление подтверждает грандиозную социальную инверсию, в соответствии с которой белое и черное меняются местами. Такая подмена происходит не просто на ментальном уровне, в сфере ценностей, а на ценностно-практическом уровне, затрагивая область как мыслимого, так и реального, саму структуру социальных, культурных и экономических отношений. Престиж рабочих профессий и профессионального честного труда как более широкого явления упал в массовом сознании во времена перестройки и до сих пор теперь уже благодаря эстетике потребительского гламура остается минимальным. Производительный труд утратил как материальный, так и символический статус. Он едва вписывается в поле социального уважения, и потому субъекты труда (деятельности, ценность которой для страны и общества неоспорима) теряют самоуважение. Лишь небольшое число родителей желают, чтобы их ребенок стал, например, ученым. Шкала престижа превратилась в собственную карикатуру. Все это указывает на серьезный кризис.
Вузовский преподаватель или создатель настоящих произведений высокого искусства не имеет шансов привлечь к себе внимание, сравнимое с тем, какое притягивают к себе представители этих потреб-профессий. Труд властителя потребительских дум априори непроизводителен, а во многих случаях даже вреден. Но он занял почетное и престижное место, поскольку: 1) все большее значение получают индустрия развлечений и область искусственного создания потребностей; 2) перестал работать выражающий социальную справедливость меритократический принцип «каждому по труду», то есть утвержденное соответствие результата выполненного общественно полезного труда (и размера имеющегося у сотрудника культурно-профессионального капитала) размеру заработной платы и социальному статусу. Для консьюмера верны антиэтичные принципы «успех любой ценой» и «стыдно быть бедным».
Как в прошлые эпохи досуг (наличие свободного времени) был символом роскоши и социального статуса, так и сейчас он является особой ценностью. Но сегодня досуг — это не просто свободное, а заполненное потребительскими практиками время, которое обеспечивает избыточное потребление, выходящее далеко за границы повседневных потребностей. Избыточное потребление — своеобразное указание на свободу от труда, символ высокого социального статуса человека, его причастности к сакральному «сообществу потребления». Объем потребления — маркер социальной (классовой, статусной) дифференциации. Сами же потребительские практики поддерживают социальное и материальное неравенство.
Конкуренция за потребителя выражается в борьбе как за его материальные ресурсы, так и за его свободное время, а потому «демонстративный досуг» — не столько непродуктивная трата времени, сколько элемент производственного цикла, опосредованный внешней целью, предписывающей необходимость или даже социальную обязанность потреблять. Значение приобретает не только досуг как наслаждение, а в большей степени досуг как средство заполнения потреблением непроизводственного времени, свобода досуга ассоциируется со свободой потребительского выбора73. Поэтому удовлетворенность проведением свободного времени сопряжена с возможностями осуществления потребительского поведения.
Инфраструктура консьюмеристского пространства (СМИ, мода, реклама и т. д.) задает форму социокультурной организации досуговой деятельности, определенные стандарты досуговой культуры. Сам консьюмеристский тренд конструирует соответствующие его природе представления о приоритетных формах досуговой деятельности, влияет на формирование предрасположенности к выбору досуговых практик, поскольку вкусы порождаются в рамках существующих условий. Индивидуальный и институциальный выборы становятся почти неразличимы, так как досуговые предпочтения неотделимы от социокультурных условий, структурирующих способы проведения свободного времени и жизни в целом, варианты самоосуществления и самореализации. Поэтому социокультурный подход представляется перспективным для изучения данных явлений.
Конечно, нецелесообразно постулировать тотальность влияния консьюмеристской инфраструктуры на выбор, ибо она сохраняет свободу выбора, но все-таки с более или менее высокой степенью успешности берет руководство выбором на себя, мягко подталкивая реципиента. Ранее бытовала точка зрения, что свобода возможна только в тех условиях, где у людей имеется свободное время от вынужденного многочасового труда. Теперь у человека отбирает часть его свободы не только труд, но и тренд, диктующий специфику проведения досуга. Только этот отъем свободы осуществляется мягким, маркетинговым образом, и время, предназначенное для свободного провождения, заполняется soft-директивами потребительской культуры. Потребкульт организует определенным образом свободное время трудящихся, чем оказывает на них сильное идеологическое воздействие. Он под флагом свободы выбирать осуществляет soft-регламентацию образа жизни в интересах крупного капитала, не желающего оставлять в покое рабочих даже в свободное от труда время и стремящегося присваивать себе не только их труд, но и досуг.
Следует предположить, что эксплуатация вышла за границы труда и охватила сферу досуга. Реализуемые в досуге потребительские практики придают ему образ полезности и содержательности. В досуге, а не в труде и даже не столько в самом досуге, а в широком диапазоне досуговых потребительских практик и досуговой мобильности формируется идентичность потребителя. Вне потребления досуг представляется не настолько ценным, ибо ценный досуг — это свобода потреблять и тратить на потребление максимум временных и других ресурсов. На почве этой тенденции развивается целая индустрия, предлагающая широкую сферу развлечений и разных досуговых услуг и заодно еще более подстегивающая укоренение приоритета потребительского досуга.
Успех в западной культуре является краеугольным камнем, к которому каждый должен стремиться. А предметы потребления подчеркивают успешность человека. Ему представляется, что успех и личная ценность (в том числе самоуважение) невозможны без дорогих гаджетов, равно как и достойная вечеринка — без конкретного вида алкоголя, гармония в семье — без сока «Моя семья», красота — без конкретной марки парфюма; все эти товары неотделимы от человеческих качеств, переплетены с ними.
Однако фетишизация успеха оборачивается такими побочными явлениями, как нехватка времени на общение с близкими и на самореализацию (не в профессиональном смысле), постоянный стресс в конкурентной гонке за успехом, ведь в ней участвуют многие и тем самым «тянут» за собой любящего сравнивать себя с другими потребителя, отсутствие интереса к глубокому постижению действительности (скольжение по поверхности), упадок культуры в общем и культуры чтения в частности. Досуг как сфера, освобожденная от жестко структурированных трудовых процессов, предоставляет человеку потенциальную возможность личностного развития в самом широком смысле. Досуг становится условием развития человеческого потенциала, производством человеком самого себя в качестве духовной личности.
Характер культурно-досуговой деятельности является одним из важных показателей как благополучия населения, так и уровня его культурного развития. В обществе потребления досуг стандартизируется, теряет интеллектуально-духовную глубину и национальное (региональное, местное) своеобразие. Досуг экономизируется, демонстративно потребляется, формируя идентичность человека, которая не выходит за рамки консьюмеризма. К сожалению, сегодня на самообразование и духовно насыщенный досуг люди (в особенности молодежь) отводят все меньше времени. Досуг перестает рассматриваться как средство раскрытия внутренних ресурсов личности и наращивания культурного капитала, превращаясь по большей части в демонстративное времяпровождение. Его развивающий потенциал падает, уступая место «демонстративному» потенциалу.
Если раньше наш народ квалифицировался как «самый читающий», теперь культура чтения освободила место развлечениям, многие из которых носят откровенно аддиктивный характер. У большинства молодежи восхищенно загораются глаза не от новой прочитанной книги, а от купленных гаджетов, приносящих сомнительную пользу. Литературоцентричность сменилась гаджетоцентричностью. Сама аудиовизуальная интернет-культура сокращает чтение за счет увеличения смотрения. То, что следует за эпохой книгопечатания, хотя и знаменует собой значительный прорыв в области коммуникативистики, одновременно редуцирует способность к вниманию и сосредоточению (книга больше, чем телевидение, требует наличия этих способностей) и снижает способность к интеллектуальной мобилизации и пониманию, так как дает человеку привыкнуть к легкому, не требующему волевых усилий способу восприятия информации. Книги апеллируют к разуму, телеэфир — к чувствам. Поэтому именно культура чтения развивает, а телевизионная культура с ее обедненным языком и антиинтеллектуальными ток-шоу заставляет психические свойства реципиента регрессировать. Она предлагает больше чувствовать и эмоционально заряжаться, чем думать. Само по себе упрощение восприятия информации следует считать благом, но негатив этой стороны прогресса проявляется в том, что сознание, интеллект и воля перестают напрягаться. По-настоящему адекватно воспринимать информацию способен тот, кто имеет «книжный» опыт, развивающий волю, интеллект, абстрактно-логическое мышление, воображение и т. д. Без чтения невозможно развитие ни человека, ни народа. При столкновении с когнитивным барьером «неначитанное» потребительское медиасознание впадает в ступор или просто бросается в поиски готового рецепта, вместо того чтобы внимательно и глубоко проанализировать сложившуюся ситуацию.
Н. Стариков отмечает, что в советское время культура чтения проявляла себя намного лучше, чем при современной всеобщей грамотности, и приводит следующие данные: в 1913 году неграмотными были 27% призывников, а в 1941 году таковых почти не было, к 1934 году в связи с введением всеобщего обязательного начального обучения 98% детей учились, к 1939 году грамотными были 89% населения СССР74. Невнимание к библиотекам объясняется взятием на себя «библиотечной» функции Интернетом, но такое объяснение неполно: имеют серьезное значение еще и культурные доминанты современного общества. Сегодня наблюдается спад посещаемости не только библиотек, но и музеев, выставок, театров. Да и сами театральные постановки, фильмы, музыка и литература теряют свое качество, в угоду коммерческим интересам претерпевают эстетическое, нравственное и интеллектуальное обеднение, с помощью которого происходит подстройка продуктов культуры под массовые вкусы и, с другой стороны, дальнейшее укоренение этих вкусов. Система досуга обедняется.
Падает культурно-интеллектуальный уровень не только студенчества (оно превращается в стаденчество — от слова «стадо»), но и общества в целом. Из 1600 опрошенных в 2011 году респондентов 30% (28% в 2007 году) были убеждены во вращении Солнца вокруг Земли, а 20% (14% в 2007 году) считали, что полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц75. Согласно данным международного исследования PISA на 2009 год, по уровню читательской грамотности подростков Россия занимает 41–43-е места. 27% российских школьников не имеют минимального уровня читательской грамотности, 29% -математической грамотности, 22% — естественно-научной76. У современных школьников наблюдается снижение учебной мотивации, интереса к познанию, любопытства и любознательности. «Почемучки» уступили место консьюмерам, наполненным безразличием к интеллектуальному и духовному развитию.
Приведем данные из статьи А. П. Запесоцкого. Свыше 93% жителей России не могут назвать ни одного современного ученого. О Д. Лихачеве и Ж. Алферове слышали около 1% россиян. Если люди пока понимают, почему день сменяет ночь, то мало кто способен объяснить причины смены времен года. Сегодняшний школьный отличник не дотягивает до хорошиста 1980-х годов, и в среднем из российских школ выходят недоучки и невежды. К простейшим формам научной работы под руководством педагога готовы всего 30% старшеклассников, а другие 70% в лучшем случае могут пересказать полученную из учебника или от учителя информацию. Тесты психологов свидетельствуют о резком падении мотивации школьников к труду и дисциплине, исчезает сострадание, коллективизм и взаимопомощь, а на их место приходят черствость, жестокость, стремление к личному успеху даже путем подавления окружающих, воспеваемая телевидением убогая философия денег как главной ценности. Среди основных причин всего этого А. П. Запесоцкий называет коммерциализацию как осуществленную органами управления образованием фальсификацию целей деятельности педагогических коллективов. В педагогике цель является системообразующей, так как через нее обусловливается системное единство задач, содержания, условий, форм и методов воспитания; педагогическая цель сменилась на предпринимательскую, что привело к утрате образованием системности и хаотизации обучения. Созданная в 1990-е годы ультралиберальная версия капитализма в корне противоречит интересам России и общества77. «Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, — воспитали страну идиотов. Если Россия и дальше будет двигаться этим курсом, то еще лет через десять не останется и тех, кто сегодня хотя бы изредка берет в руки книгу. И мы получим страну, которой будет легче править, у которой будет легче высасывать природные богатства. Но будущего у этой страны нет!»78
Вузовская подготовка теряет как глубокое научно-профессиональное, так и нравственно-воспитательное содержание. В результате из вузов выходят выпускники с недостаточно сформированными как профессиональной, так и моральной позициями. Обычно это потребители с несформированными профессиональными знаниями, умениями, навыками и ответственностью, но сформированными высокими амбициями. Они не способны послужить средством не только инновационного социального развития, но и даже социальной стагнации. С такими кадрами общество будет падать вниз вместо движения вверх, по лестнице декларируемой чиновниками, но отнюдь не реализуемой модернизации. Сама сложившаяся система не позволяет взрастить морально зрелых и высококвалифицированных специалистов, аморальность же и падение квалификации не приведут ни к возрождению экономики, ни к конституированию высокой культуры, ни к утверждению каких-либо иных социально ценных прорывов.
А. Фурсенко в свое время заявил о том, что образование должно готовить квалифицированного потребителя. Его завет реализуется с лихвой. Сегодняшнее образование деградирует настолько, что перестает производить даже квалифицированного потребителя, взращивая просто потребителя, наделенного неоправданной амбициозностью, сверхвысокими ожиданиями и сверхограниченным кругозором. Делая ставку на низкий уровень образования, власть решает свои тактические проблемы (необразованными людьми ведь управлять проще), но роет сама себе и обществу яму, если исходить из контекста стратегических проблем. Недостаток квалифицированных кадров в конечном итоге обернется полным крахом во всех структурах социального развития, и никакая модернизация не будет возможна. Страна, не производящая интеллектуальный капитал, вынуждена будет его покупать (возможно, за важные ресурсы или территорию) за границей. Она и ее инфраструктура обречены на упадок при сохранении тенденций реформирования образования, которые только ухудшают систему подготовки студентов и подстегивают потребительские тенденции79.
Находясь в потребительской гонке, человек стремится больше зарабатывать, а при возрастании трудового времени уменьшается свободное время, которое представляется консьюмеризмом одним из показателей статусности индивида и необходимым условием для реализации потребительских практик. Бюджет растет, а время на его трату уменьшается. Финансовый ресурс ограничивает временной ресурс, что стоит квалифицировать как парадокс и ловушку консьюмеризма, который ценит досуг, но обесценивает труд, хотя они обычно сосуществуют вместе, в единой и неразрывной связке.
Тем более сегодня практически во всем мире происходит сокращение государственных и корпоративных «издержек» на трудящихся. Место постоянного наемного рабочего занимает трудящийся предприниматель, который, сталкиваясь с ситуацией «свободы и самостоятельности», сам заботится о своем образовании, квалификационном уровне (повышении квалификации), медицинском страховании и т. д. Трудовая самореализация и профессиональный рост становятся не возможностью, а необходимостью, обеспечиваемой за счет самого работника. В случае ее нереализации он теряет конкурентоспособность, ибо уровень защиты рабочих со стороны руководства постепенно снижается, а уровень требований к их трудовой самореализации повышается в условиях научно-технического прогресса, диктующего умение держаться «на плаву» высокой квалификации, когда прежние знания и умения устаревают, и работнику для поддержания своего профессионализма нужно постоянно повышать квалификацию. Он не единожды приспосабливается к меняющейся ситуации, ему приходится «вбрасывать» себя в процесс перманентного приспособления к ней. Только в этом случае он сможет продавать свою рабочую силу. Творчество, мобильность, ориентировочная гибкость и умение учиться позволяют быстро реагировать на изменения условий, прогнозировать дальнейший тренд смены трендов и включаться в новые ситуации. Вместо защиты приходит автономность и «свобода», ибо безработица растет, все большее число людей впадают в состояние неконкурентоспособности, и гарантии занятости обеспечивает сам рабочий. Ему приходится в ущерб своему здоровью отказываться от отпусков по болезни. Усиливаются чувства потери опоры, тревоги и бессмысленности существования, под прессом требований принудительной профессиональной самореализации актуализируются внутриличностные и межличностные конфликты80. Руководству выгодно не обучать сотрудников, а брать на работу уже обученных.
К своему труду советский труженик, в отличие от современного потребителя, относился не как к проклятию, а как к лично и социально значимой необходимости, как к сфере построения смыслов, и у него не прослеживалось никакого презрения к трудовой деятельности. Консьюмер свой труд не сопрягает ни с каким национальным благом и общественной пользой. Более того, он редко и с нежеланием признает, что его потребительское благо обеспечено трудом (в том числе чужим) и вообще системой производства, что благо жизни является результатом производственной деятельности. Для него ее обычно не существует, и потому сознание и мировосприятие потребителя по большей части мифологичны, узки и внеисторичны, мир сжимается до временного локуса под названием «сегодня» и до сущностного локуса под названием «я». Потребительское благо воспринимается как первозданная вещь в себе, ниоткуда не возникшая и никуда не исчезающая, а его обладатель — чуть ли не как помазанник некоей мистической реальности, избранный. Здесь кроются отличия специфик восприятия груда, в том числе тяжелого, одинаково свойственного обоим общественным устройствам. В советском обществе тяжелый труд был на виду, он интегрировался в социальную жизнь, стремился быть увиденным, прочувствованным и оцененным. Он был фактором, должным вызывать уважение к человеку, его осуществляющему. В потребительском обществе он, существуя, прячет свое существование, находит себе место вне поля видимости консьюмеристского взгляда и вне поля опыта консьюмеристской чувственности.
Потребительской культуре трудно возникнуть и воплотиться в реальную практику в стране, где недостает производства, поскольку потребление следует за производством, а не наоборот. Этот тезис работает при условии, что данная страна не эксплуатирует никакие другие, превращая их в сырьевые базы, в средства обеспечения собственного благополучия. При обостренном товарном дефиците потребительству просто не на чем сформироваться, так как именно товарный профицит способен стать твердой основой для формирования данного типа культуры. Однако потребительство, сформированное на товарном многообразии, неся в себе высокомерное отношение к производительному труду, бьет по национальной экономике нежеланием легиона консьюмеров быть вовлеченными в сферу производительного труда. Соответственно, используя производство, потребление борется с ним. Такая ситуация приводит не к ликвидации производства вследствие реализации принципа «если никто не хочет производить, то производить некому», а к перенаправлению национальной ориентации на иностранную продукцию; то есть сами предпочитают покупать, делегируя обязанность производить кому-то другому (самый яркий пример — США). Отсюда следует сделать вывод, что потребление паразитирует на производстве и на производящих субъектах.
Современный капитализм столкнулся со следующей проблемой. Руководители крупных корпораций заинтересованы в том, чтобы максимально понизить доходы рабочих, но производительность их труда оставить прежней. В таком случае теряются производственные издержки, а производимый продукт становится более конкурентоспособным (растет прибыль и падает цена товара). С другой стороны, снижение уровня доходов трудящихся ведет к снижению уровня их потребления, и перед корпорациями встает проблема поддержания массового потребления производимых ими товаров. Дилемму снижения доходов и потребления сняли с помощью решения вопроса «Как снизить уровень заработной платы трудящихся и одновременно сохранить и даже увеличить производство и потребление?». Инструментом решения актуальной дилеммы послужила культура консьюмеризма, которая психологически соблазняет модными брендами и вовлекает в круговорот потребления «во что бы то ни стало» даже самых малообеспеченных людей. Занимающие далеко не последнее место в обществе потребления реклама и маркетинг, актуализируя в человеке все новые потребности и заставляя его покупать все новые товары без сопоставления их стоимости с уровнем личного дохода, актуализировали явление массовой кредитомании, которое, способствуя увеличению потребления, стало одной из причин наступления экономического кризиса.
Ради стимулирования массовых покупок производимых и экспортируемых продуктов американцев стаз и отучать от стратегии накопления средств, позволяющей «завтра жить за счет сегодня», и приучать к кредитомании, позволяющей «жить сегодня за счет завтра». Для среднего американца нормально жить в долг. Кредиты берут почти на все: на автомобиль, дом, обучение, вплоть до всяких мелких гаджетов. В результате началась массовая кредитомания, в которой загипнотизированные пропагандой высоких потребительских стандартов люди видели средство достижения потребительских мечтаний. Система кредита позволила поддерживать массовое потребление. Падкие на соблазны консьюмеры избрали стратегию жизни в долг. Банки, потеряв осторожность, вовлеклись в неразборчивую выдачу кредитов; кредитовались как более или менее состоятельные и платежеспособные люди, так и те, чье материальное положение не гарантировало возврата займа в дальнейшем. Банковская система перестала заботиться о гарантированности возвращения долгов по кредитам, и последние стали выдаваться недостаточно платежеспособным лицам. Кредиты было позволительно брать даже тем, кто уже имеет кредитные долги. В конце концов многие заемщики оказались не в состоянии вернуть долги. Так стала углубляться спекулятивная экономика, сворачивание которой вследствие колоссальных невозвратов ознаменовало приход экономического кризиса, который по сути является не только экономическим, но и культурным. Главенство потребления над производством (когда ресурсов потребляется больше, чем производится) с неизбежностью приводит к невозможности отдать кредиты, причем в масштабе не одного человека, а целого общества. Была выстроена модель виртуальной спекулятивной экономики, оторванной от реального хозяйства.
Вообще, система кредита достаточно парадоксальна, так как она предлагает получать, не заработав, предлагает потреблению опередить производство; так что кредитование стоит назвать одним из детищ эпохи потребления, фактором детерминации потребительского поведения. В условиях, когда кредит, позволяющий приобрести престижные вещи, взять просто, скромность представляется широким кругам как что-то нерациональное и архаичное. Кредитомания — сугубо капиталистическое изобретение, которое, путая причину и следствие (производство и потребление), искажает время. Вещь, взятая в кредит, убегает во времени от своего владельца, а владелец, соответственно, не будучи полноценным владельцем, отстает от вещи. Ответ на вопрос «Зачем человек опережает или присваивает время посредством кредита и коллекционирования?» лежит в плоскости той же самой статусности и престижности. Во многих случаях символические манипуляции со временем следует рассматривать как основу некоторых потребностей. По Ж. Бодрийяру, кредит — феномен, указывающий на потребление, которое предшествует производству. Кредит позволяет приобретать и потреблять вещи, еще не заработав их. Покупка в кредит символизирует стремление опередить время, а коллекционирование старинных вещей означает фиксацию и присвоение времени, своеобразную трансцендентность81. Кредит является не только способом приобретения рекламируемого продукта, а сам выступает объектом рекламы.
Переход от жизни на сбережения к жизни в кредит увеличивает зависимость человека или семьи от источников дохода на уровне «здесь и сейчас», требует иметь не только хорошо оплачиваемую работу, но и гарантию надежности, гарантию того, что человека не ждет увольнение или профессиональное понижение. А если это долгосрочный кредит, данная гарантия просто необходима; вызывает горькую иронию ипотека, скажем, на 50 лет. Как шутят, ипотека на полвека — вот и нету человека. Кредит захватывает будущее заемщика, дисциплинирует его экономическую деятельность, которая подпадает под жесткие требования рентабельности, сталкиваясь с необходимостью вырабатывать прибыль в обязательном порядке выше ставки кредитного процента.
С ростом инфляции культура накопительства себя дискредитирует, поскольку деньги, хранимые дома или в банке, постепенно обесцениваются, и потребительская расточительность, в том числе проявляемая в кредитомании, является вполне адекватной реакцией на падение достоинства накопленных средств. Однако адекватной реакцией является умеренное расточительство, которое все-таки позволяет думать если не на год вперед, то хотя бы о завтрашнем дне, и не заставляет человека бросаться в символическую потребительскую гонку, а лишь стимулирует приобретать действительно необходимые, функциональные вещи. Оправдание расточительства, опирающееся на идею инфляции и бессмысленности накопления, представляется поверхностным, поскольку сам по себе рост инфляции, а также материальная поляризация являются следствием все того же рынка и потребительской культуры, непосредственно с ним связанной. Активы для будущего отходят в сторону перед волной блитц-кредитов, кредитов «здесь и сейчас». Человек, который копит деньги перед покупкой, свои активы может использовать для выгодных инвестиций, пока не соберет достаточную сумму для осуществления покупки. Человек, который берет покупку в кредит, получает в виде аванса сбережения (инвестиции) других людей.
Молодые семьи берут массу мелких кредитов, вся совокупность которых из-за мелочности каждого представляется супругам вполне посильной. Однако впоследствии они понимают свою ошибку, когда осознают неспособность оплачивать все, что обязались оплачивать. Тогда семья начинает переживать кризис, который не всегда находит конструктивное разрешение. К еще большим долгам приводит ситуация, когда консьюмеру трудно остановиться, когда он наращивает кредиты, забывая о текущих долгах. Легкость получения кредита, а также повсеместная реклама соблазнительно выглядящих товаров и услуг формируют желание продолжать брать кредиты и затушевывают принцип реальности, выражаемый в рациональном осмыслении сложившейся ситуации и собственных возможностей по погашению долгов. Одновременно маркетологи находят различные методы привлечения клиентов к взятию новых кредитов. Они используют красивые слоганы типа «вы можете купить прямо сейчас» (отсылка к сиюминутности), «вы можете себе это позволить» (отсылка к могуществу), «вы будете контролировать процесс» (отсылка к реализации потребности в контроле — одной из самых актуальных человеческих потребностей). Кредитные карточки бесплатно разбрасываются по почтовым ящикам, и это создает эффект близости сомнительного счастья, удержания его в руках как в прямом, так и в переносном смысле. К тому же из пластика делают не просто кредитные карты, а посредством дизайна (и сопутствующей ему рекламы) изготавливают золотые и платиновые карты, подчеркивающие статус владельца и формирующие желание стать обладателем карты. Красивый дизайн и gold-статус символизируют престиж, что имеет важное значение для потребителей. Инфраструктура кредитных карт основана на неравенстве, на приоритетности одних перед другими, что также вовлекает потребителей в гонку за статус. Некоторые карты предполагают разные формы приоритетного обслуживания: наличие скидок, юридическую и страховую поддержку за рубежом, консьерж-сервис и прочее.
Компании, предлагающие ссуду, рекламируют свои услуги типично софистическим методом: мол, ссуды наделяют потребителя покупательной способностью, которая создает спрос, который, в свою очередь, способствует экономическому росту и росту уровня жизни всей нации. На самом деле такая причинно-следственная цепочка совершенно неуместна. В результате подобных провокаций, психологической слабости и мнительности реципиента у него актуализируется потребность в лихорадочной трате денег, после чего накапливается рекордная величина долгов. Эти долги служат значимым фактором риска, опасность которого проявит себя во всей красе, если вдруг счастливый обладатель долгов потеряет стабильный доход. Случаи банкротства, соответственно, увеличиваются. Кредитные организации продолжают толкать своих клиентов к денежному краху. Как отмечается, количество денежных накоплений американцев стремится чуть ли не к нулю, каждый год более миллиона американцев заявляют о своем банкротстве; это число превышает ежегодное количество выпускников колледжей. В среднем их долг равняется 22-кратному размеру их месячного дохода82.
Ипотека и кредит сопряжены с большой переплатой, а не с экономической свободой, как вещает реклама. В результате человек уже не позволяет себе потребительскую гонку, поскольку для выплаты кредита нужно много работать, тем самым урезая свое свободное время, и много экономить. А если благополучие семьи, взявшей в кредит квартиру или автомобиль, зависит от рабочего места, люди становятся более меркантильными и циничными, они утрачивают ценность взаимопомощи и превращаются в обывателей. Они, будучи конформистами, никому и ничему не оппонируют, не отстаивают никаких прав, а, уткнувшись в землю, продолжают все более упорно работать на себя, боясь, что в случае вступления в баталии они потеряют все непосильным трудом нажитое. Им есть что терять. Когда таких конформистов становится слишком много, властные структуры начинают позволять себе практически любой волюнтаризм, поскольку видят, что общество послушно и вряд ли станет протестовать против тех или иных правительственных действий. Недаром отмечается, что развитие системы потребительского кредитования стало одной из основ социального контроля, ибо заемщик менее склонен к риску и стабилен в трудовых отношениях83. Поэтому систему кредитования следует рассматривать как еще одну форму социального контроля. Власть имущим интересно, чтобы энергия людей принимала русло не оппозиционной активности, а работы для выплачивания по взятому на квартиру ипотечному кредиту и чтобы эти выплаты красной нитью проходили через всю жизнь.
Средний класс также в значительной степени отличается конформизмом, несмотря на заверения многих либерально настроенных авторов, усматривающих в среднем классе оппозиционную политическую активность. Он видит большую армию бедных, которая пугает его, отталкивает от себя, разбивает наполняющие его желания перемен, и за гарантию непополнения рядов бедняков он готов хранить покладистое молчание и проявлять покорность. Рабочие и представители среднего класса обладают некоторыми гарантиями, им есть что терять, помимо своих цепей. Поэтому они остаются на стороне выстроенной системы и не солидаризуются с отверженными. Будучи отторгнутыми от элиты, они не становятся своими для андеркласса, духовно отдаляются от него, стараясь сблизиться с не принимающей их элитой, угодить ей. Глядя на бедняков, богатый потребитель предпочитает мириться со всем происходящим, ибо бедность для него — светский вариант инфернальности, которая способна поглотить всякого представителя среднего класса за сопротивление системе. Зрелище бедноты своим гипнотизмом сковывает протестные инициативы.
Система кредитования сопряжена с высоким процентом по кредитам не только вследствие своей внутренней специфики, но и потому, что сегодня многие учреждения, в которых работает потенциальный заемщик, не предоставляют справку о его реальных доходах. Проблема уклонения от уплаты налогов остается актуальной, и потому сохраняется система так называемых серых расчетов, основанная на различении фактической и официальной зарплаты. Когда в справке 2-НДФЛ указана недостаточно высокая сумма трудовых доходов заемщика, банк отказывает ему в кредите. В итоге заемщик обращается в кредитные учреждения, которые не выдвигают жестких требований к его доходам, стажу, кредитной истории и т. д., но предоставляют кредит под значительно более высокий процент, чем организации, руководимые жесткими требованиями к названным кредитным «аксессуарам» заемщика. В общем, систему кредитования следует рассматривать как один из факторов активизации потребительских тенденций. Приведем цитату Н. Маньковской: «Симулякр — своего рода алиби, свидетельствующее о нехватке, дефиците натуры и культуры… Потребление опережает производство, деньги замещаются кредитом — симулякром собственности. Вещи становятся все более хрупкими, эфемерными, иллюзорными, их поколения меняются быстрее, чем поколения людей… И если человек вкладывает в вещь то, что ему не хватает, то множащиеся вещи — знаки фрустрации — свидетельствуют о росте человеческой нехватки…»84
Некоторые аналитики говорят, будто культура потребления является показателем высокого уровня общественного благосостояния. Это утверждение в корне неверно. Культура потребления требует от человека недоесть, но последние деньги отдать за какую-нибудь модную безделушку или поход в модный клуб, предварительно еще заняв денег у чуть более обеспеченного или просто умеющего рационально пользоваться деньгами товарища. Так что в мире потребительских кредитов уровень трат необязательно является критерием уровня доходов.
Надо заметить, что кредит бывает выгоден и полезен, когда его объем невелик, кредит предоставляется под небольшие проценты, заемщику действительно необходимо в короткие сроки приобрести некий товар, и он способен выплатить не всю сумму сразу, а только по частям. Проценты в таком случае следует рассматривать в качестве средства оплаты оказанной услуги и возможного риска, который несет кредитор. Однако если кредит становится формой зависимости, о его выгодности и полезности говорить не приходится.
Неудивительно, что именно сейчас, во время эскалации потребительства, в качестве ответа на него появляются различные антиконсьюмерские явления в сфере искусства. В мире возникают различные общественные движения и организации, призывающие к умеренности в жизни. Члены этих организаций более осознанно относятся к своим покупкам и к своей жизнедеятельности. Они предпочитают приобретать самое необходимое, принципиально отказываются от гонки за модой и новинками от известных брендов, носят простую одежду, имеют недорогие и небольшие автомобили с эффективным расходом топлива.
На почве осознания опасностей потребления возникло явление дауншифтинга (от англ, downshift — включать пониженную передачу или сбавить обороты), означающего сбрасывание потребительской скорости, избирание осторожного, осознанного, вдумчивого движения, которое приносит меньше плодов, но и отнимает меньше времени, нервов и сил. Дауншифтер — человек, отказывающийся от успешной, но полной стрессов работы в пользу более ресурсосберегающей деятельности, которая позволяет самореализовываться и саморазвиваться не только в профессиональном смысле. Для таких людей работа — не способ достижения американской мечты, а доход — не самоцель, а скорее просто средство выживания и поддержания более или менее нормального материального состояния. Основные же их приоритеты, как правило, выходят за рамки потребительской культуры.
Хотя дауншифтинг не характеризует какую-то конкретную профессиональную область и социальный статус, его среду часто наполняют бывшие топ-менеджеры, уставшие от гонки за мнимыми образцами, пресытившиеся потребительскими ценностями, изменившие ценностные ориентации с успеха в карьере на гармонию в семье или просто ощутившие проблемы со здоровьем, а вместе с этим необходимость «сбавить обороты». Они стремятся понизить уровень рабочей нагрузки, перейти на менее оплачиваемую, но характеризующуся меньшей трудоемкостью и стрессогенностью должность, заняться волонтерской деятельностью и т. д.
По уровню реализуемости выделяется легкий и глубокий дауншифтинг. В первом случае предполагается сочетание не слишком ресурсозатратного труда с другими жизненно важными ценностями согласно принципу «меньше работать и меньше потреблять». Второй, в отличие от первого, характеризуется максимальным и радикальным изменением рода деятельности (отказ от карьеры), места жительства и т. д., а также разрывом с бывшим окружением. Смена места жительства как отход от богатства, престижности и урбанизированности региона в место, где проще вести антипотребительский образ жизни, нашла свое наименование в термине «гоашифтинг». Иногда переезд в место с более низким уровнем жизни (если он не сопровождается другими антипотребительскими практиками) представляет собой не глубокий отход, а стремление сохранить свой высокий социальный статус на фоне нового окружения.
Дауншифтинг возник в обеспеченных странах в результате разочарования в потребительских идеалах и убежденности, что занятость — какой бы интенсивной она ни была — все равно не обеспечит удовлетворение всех потребностей, а только послужит преградой для некоторых из них, в частности свободного времени, самоактуализации, общественной деятельности и т. д. Исторические корни дауншифтинга уходят в культуру хиппи. В России появилось синонимичное дауншифтингу понятие — «ушельство» (иногда используют термины «беспонтовство» и «экопоселенчество»),
В едином смысловом поле вместе с дауншифтингом находится такое современное явление, как фрилансерство, означающее свободный заработок. Фрилансер сглаживает границу между досугом и трудом, создает «занятость под себя», то есть вовлекается в гибкий индивидуализированный график работы, отличный от традиционного стандартизированного графика «пять дней в неделю по девять часов». Но фрилансерство далеко не всегда характеризуется свободой действий и минимальной загруженностью, какие свойственны дауншифтингу; фрилансер может очень много работать, выполняя различные заказы.
На Западе возникают целые движения, позиционирующие себя в качестве антипотребительских. Антипотребительская идеология не отличается целостностью. ее носителями являются представители различных идеологических ориентаций — экологи, леворадикалы, религиозные деятели, антиглобалисты (которые сами подразделяются на множество различных субкультур и идеологических течений) и т. д. А. В. Овруцкий выделяет шесть направлений антипотребительской практики: 1) радикализм; 2) практика «помех» (порча рекламы или ее деконструкция в сторону антирекламы, веб-атаки и компьютерные взломы, эпатажные акции в гипермаркетах и т. д.); 3) практики «добровольной простоты» (личное отстранение от потребительского поведения, выраженное в уменьшении рабочего времени ради увеличения времени на общение с близкими и на общественную помощь, стремлении покупать одежду кустарного производства и питаться продуктами органического и местного происхождения); 4) фругализм (традиционный образ жизни, характеризующийся сдержанностью, выступлениями за исключающий деньги экономический бартер, сокращением трат за счет использования старой одежды, вторичного сырья и т. д., отказом от дорогостоящих привычек, поиском оптимальных («скидочных») способов покупки, диетами и вегетарианством); 5) защита прав потребителей (практики приведения к единому знаменателю взаимоотношений между производителем и продавцом, с одной стороны, и потребителем — с другой; права потребителя представляются приоритетными); 6) ограничение потребления определенными общественными нормами — экологическими, инвайронменталистскими (практика поддержания здоровой окружающей среды, здорового питания, безопасности утилизации веществ и товаров)85. Конечно, антипотребительски настроенные группы активистов не поддаются строгому классифицированию, поскольку каждая из них может использовать совершенно разные практики, направленные против культуры консьюмеризма. Само по себе движение антиконсьюмеризма представляется довольно слабым, поскольку оно не получило широкий количественный размах, а каждый его участник, как и любой член общества, в той или иной степени все равно вовлечен в практики потребительства.
Данное движение включает в себя по большей части молодежь. И преимущественно эта же прослойка населения поддерживает потребительский бум. Поэтому молодежь нельзя однозначно идентифицировать ни как потребительскую, ни как антипотребительскую социальную группу. Хотя при взгляде на современную молодежь и на саму специфику консьюмеризма целесообразнее сделать вывод, что молодые люди склоняются скорее к потребительскому стилю мышления и поведения, нежели к антипотребительскому. Данная культура быстрой сменой торговых марок, появлением новых гаджетов и постоянным их усовершенствованием соответствует именно молодежной психологии, ориентированной на поиск идентичности, риск, эпатаж и новизну. В гипертехнологическую эпоху господствуют тенденции той культуры, которой придается характеристика «молодые учат пожилых». Соответственно, основной целевой группой, которой предлагаются постоянные обновления, выступает именно молодежь.
Потребительский ретретизм, то есть уход от консьюмеристского стиля жизни, является девиантным явлением для соответствующего типа культуры. Он характеризуется стремлением ко внешне простой, но внутренне богатой жизни; основан на личностной неудовлетворенности потребительской жизнью, ее темпом, доминированием ценностей вещизма, карьеры и трудовой деятельности над всеми другими видами деятельности, социально-экономическими проблемами. Мотивами ретретизма выступает также нежелание быть частью сложившейся системы, отказ от внесения своего вклада в индустрию потребительского закабаления и загрязнения окружающей среды, стремление дышать свежим воздухом и питаться здоровой пищей (вплоть до вегетарианства и максимального ограничения рациона), находиться в тишине и в согласии с природой, перейти на ведение деревенского хозяйства (в некоторых случаях с частичным сохранением привычного для мегаполиса бытового комфорта, а иногда — с отказом от всех достижений цивилизации), жить простой жизнью, не обремененной фиктивными потребностями и плодами цивилизации. Иногда люди уезжают не просто из мегаполисной инфраструктуры потребления в сельскую традиционно-культурную местность, но и из экономически развитой страны в развивающуюся. В редких случаях ретретисты живут так, что деньги им совершенно не требуются; вместо них акцент ставится на бартере и взаимопомощи. В не менее редких случаях люди практикуют домашние медицину и образование детей86. Так или иначе, уход от консьюмеризма — новая и альтернативная поведенческая стратегия существования в современном мире.
В употреблении понятий «ретретизм», «дауншифтинг», «добровольная простота» и прочих, лежащих с вышеназванными в едином смысловом поле, не наблюдается терминологической чистоты. Как в обыденном, так и в научном языке они часто синонимируются. Уход от потребительства не поддается строгой типологизации, так как его характеризуют совершенно разные практики и стили жизни с различным уровнем погружения в антиконсьюмеризм — от легкой вовлеченности в «естественность» до абсолютной маргинализации, вопрос о полезности/вредности которой остается открытым.
Л. И. Чинакова выделяет три моральные установки человека, связанные с удовлетворением его потребностей: 1) аскетизм, 2) гедонизм, 3) гармоничное развитие личности87. Заметим, соглашаясь с Л. И. Чинаковой, что аскетизм и гедонизм как два противоположных полюса, как две крайности идут вразрез с гармоничным развитием личности, и последнее с ними несовместимо. Вообще, спор о том, что же гармонично для личностного развития и необходимо для человека — аскеза или гедонизм, — начался еще в Древней Греции. Так, эпикурейцы проповедовали наслаждение, а киники, наоборот, считали стремление к роскоши и богатству пороком. Лично более импонируя кинической философии, мы все-таки в данном вопросе придерживаемся срединной позиции, согласно которой мера должна соблюдаться во всем. Как беспредельный гедонизм, так и ожесточенный аскетизм малополезны для внутренней гармонии человека. Согласно А. Шопенгауэру, нужда ведет к печали из-за акцентирования внимания на тревожной заботе о своем существовании и отсутствии досуга, а излишества приводят к скуке и неспособности с пользой для себя переносить досуг, то есть свободное существование88. Одни деградируют вследствие истощения, а другие — вследствие пресыщения.
Потребление и экологический кризис
Потребительский образ жизни ведет к хищническому расточению ресурсов, которые, как известно, ограничены. Внутренняя псевдопотребность потреблять приводит к ускорению оборота товаров. Современная технократическая потребительская цивилизация ненасытна в принципе, а потому антиприродна и антибиосферна. Она расточает ресурсы так, что превращается во врага биосферы и природы, а заодно в паразита-самоубийцу, если рассматривать данное явление в глобальном (планетарном) смысле. Сам научно-технический прогресс трансформируется в орудие убийства. По замечанию А. Н. Чумакова, глобальные изменения и общечеловеческие проблемы — результат многовековых количественных и качественных трансформаций как в общественном развитии, так и в системе «общество — природа»; причины их появления укоренены в истории становления современной цивилизации, которая породила обширный кризис индустриального общества и технократически ориентированной культуры89.
Как отметил Д. И. Дубровский, объем воспроизводимых планетой за один год ресурсов человечество потребляет за 9 месяцев, но маховик потребительства продолжает раскручиваться: больше потреблять, чтобы больше производить, чтобы еще больше потреблять90. На протяжении веков человечество повышало с помощью научно-тенического прогресса (НТП) производительность труда и объем производимой продукции, не заботясь о цене этого роста, которая стала наиболее ощутимой именно в последнее время. У природы берется максимум любой ценой, путем использования ресурсозатратной и разрушающей природную среду техносферы, которая, вступив в антагонистическое противоречие с окружающей средой, стала детонатором гибели человечества91. Поэтому вполне оправданы прогнозы ученых о грядущей экологической катастрофе. Объеденная планета на безумное потребление может серьезно отреагировать в попытке привлечь внимание жадного человека-потребителя, который, вооружившись идеей антропоцентризма, пренебрегая экологией и превращая природу из вещи-в-себе в вещь-исключительно-для-себя, перестал быть человеком разумным и принялся лихорадочным использованием ресурсов опережать жизнеспособность экосистемы. Природа стала представляться как ареал, оказывающий сопротивление целенаправленной деятельности человека, а задачи науки и технологий свелись к поиску путей преодоления этого сопротивления. Проективно-конструктивное отношение к миру, воплощенное в попытке контроля человеком окружающей его среды, ее преобразования, привела не только к освобождению человека от природы, но и к возникновению антагонизма «антропность — природность». Человек как часть природы противостоит природе, избрав самого себя в качестве меры всех вещей. Сегодня человеческая деятельность по преобразованию природы перешла допустимые для природы пределы.
В эпоху современности, которую недаром называют обществом риска92, научно-технический прогресс обернулся множеством побочных эффектов. Это безработица, техногенные аварии, дефицит ресурсов, загрязнение окружающей среды, озоновые дыры, генномодифицированные или просто вредные продукты питания и т. д. Это атомные, химические, технологические, генетические, экологические и прочие угрозы и гиперугрозы. Это целый комплекс серьезных проблем, ответственность за которые непереложима на богов, Бога или Природу. Они порождают опасения относительно будущего и желание застраховать себя в настоящем от возможных опасностей, но риск и неопределенность проникают в социальную жизнь все сильнее, отодвигая в сторону любые гарантии. Сама реальность превращается в неопределенность, к которой все менее применимы прогнозы, расчеты меры возможных рисков, калькуляция их последствий и процедуры профилактики опасностей. Эти процедуры и меры безопасности оказываются менее современными, чем порождаемые эпохой опасности. Не существует строго определенных структур, гарантирующих совладание с наихудшими из возможных бедствий. На вызовы современности приходят малоэффективные ответы, а некоторые их них порождают еще более масштабные вызовы.
НТП демонстрирует свою изнанку, обратную сторону выгод от прогресса. Поэтому некоторые лекарства становятся страшнее болезни. Методология контроля за исчадиями прогресса все более и более отстает от самого прогресса. В мире посредством НТП и соответствующего типа культуры увеличивается разрыв между ограниченным мышлением о рисках и воплощенной в поведении этикой, с одной стороны, и самими рисками — с другой. Человечество создает новую сверхсложную технику, своей деятельностью осуществляет технический прогресс, но само в части прогнозирования и предотвращения исходящих от техносферы опасностей не прогрессирует; опасности развиваются быстрее сознания человека. Человеческое сознание не поспевает за прогрессом. Опасности техносферы растут быстрее, чем человек умнеет. Катастрофы, ранее считавшиеся невозможными, мыслившиеся в качестве отдаленных от реальности интеллектуальных конструкций антиутопистов, сегодня становятся все более реалистичными. Каждое поколение призвано преодолевать проблемы своего времени, но каждое новое поколение наследует проблемы прошлого и создает свои; поэтому эпитет «угрозы своего времени» потерял смысл. Следует ожидать не просто масштабных последствий эгоистической деятельности концернов и корпораций (сигналы об этих последствиях корпорации стараются заглушить), а глобальных последствий. Особый характер рисковости эпохи заключен в возможности уничтожения всего живого на планете посредством принятия и исполнения соответствующих решений. Природные катаклизмы ведь могут вызвать борьбу за ресурсы и особо разрушительные войны, мощный военный потенциал которых также является дитём прогресса. Так что проблема экологической безопасности тесно связана с проблемой военных, социальных, национальных конфликтов. Да и сама по себе экологическая угроза сегодня перерастает какие-либо барьеры, например национально-государственные.
Появление все новых и новых гаджетов влечет за собой упрочение экологических рисков. Такие гаджеты, как кулеры с чистой водой, фильтры, воздухоочистители и т. д., — изобретения, всего лишь компенсирующие утрату, которую влекут другие изобретения. Но эта компенсация не равнозначна и, соответственно, не создает баланс между приобретением и утратой. В последние годы все чаще находят в обычной водопроводной воде разные химикаты, и поэтому возрастает общественная потребность в покупке так называемой чистой питьевой воды, которая стоит значительно дороже водопроводной. Темпы роста заражения природной среды значительно опережают темпы ее восстановления. Нет никакого основания для доказательства тезиса о том, что прогресс избавит нас от побочных результатов своих прежних достижений и выйдет на качественно новый уровень, обеспечив человечество новыми технологиями, позволяющими одновременно сохранить прогрессивные тенденции, потребление и окружающую среду. Этот прогресс теряет свое привилегированное положение, и он должен его потерять и десакрализироваться ради спасения человечества. Необходим выход науки и практики на более рефлексивный уровень, чтобы минимизировать свою отстраненность от последствий собственной деятельности; это особо актуально в мире, который характеризуется ростом побочных незапланированных последствий, возникающих как результат функционирования науки и технологий. Отношение к науке также должно измениться. Сегодня наука стала мыслиться не как экспертная область наложения запретов на ту или иную деятельность и предупреждения о последствиях, а как инструмент увеличения благ, которые требуется увеличивать вслед за растущими потребностями.
Техносфера, это проявление искусственного, расширяясь все дальше и дальше, наступает на естественное и тем самым вытесняет человека как такового. Наступление на природу вообще сопряжено с наступлением на нравственную природу человека. Технократизм (конечно, не только он) знаменует начало постчеловеческой эпохи, в которой от человека и природы остается все меньше и меньше. Человеческое сознание не поспевает за прогрессом. Опасности техносферы растут быстрее, чем человек умнеет. Мало того, сознание становится аутистичным, дерационализированным и дегуманизированным. Оно отстраняется от осмысления опасностей и рисков, закрывается от них, проявляет эскапизм. По мнению С. Г. Кара-Мурзы, основой дефекта сознания служит механистический детерминизм, редуцирующий мироздание до часового механизма, в котором все предопределено, а потому любые проблемы поправимы, и опасаться нечего. Если мир — часовой механизм, все обратимо и предсказуемо, и нет повода для опасений. Идея свободы уничтожила ответственность, идея прогресса — память, а идея всесильности человека — необходимость серьезного предвидения угроз93. Помимо этого, основой дефекта сознания выступает потребкульт, который не просто отвлекает от осмысления возможностей преодоления рисков, а вообще не позволяет их увидеть, предвосхитить даже в условиях их реального присутствия. Для тех, кто способен прогнозировать серьезные риски и опасности, «уготовлено» неверие в коллективные усилия, в возможность путем личной инициативы убедить других людей в необходимости изменений и с их помощью реализовать эти изменения на практике.
Соответственно, актуализируются три основные проблемы, требующие решения в ближайшее время: 1) экологическая ситуация, связанная с колоссальным загрязнением природной среды; 2) конечность природных ресурсов; 3) расточительство, свойственное культуре потребления. Все эти проблемы взаимосвязаны, что значительно затрудняет их решение. Во-первых, необходим поиск новых производственных технологий, с помощью которых появилась бы возможность безопасно использовать энергию (вовлечение чистых источников энергии). Это послужило бы сохранению экологии не в ущерб экономике. Во-вторых, важна интенсивная разработка принципиально новых технологий, которые бы обеспечили не просто безопасность для окружающей среды, но и разумное использование ресурсов (вовлечение возобновляемых источников энергии). Ведь экономика наиболее устойчива при минимальном расходовании невозобновляемых ресурсов и их замещении возобновляемыми. В-третьих, крайне необходимо активное воздействие на культурные ценности для их трансформации с потребительских на экономные94.
Человек долгое время вел борьбу с природой, породившей и кормившей его. Возомнив себя венцом творения, этот единственный из всех детей природы бунтарь счел свое отделение от природы необходимым фактором прогресса человечества. Сейчас, в эпоху «переразвитого мира», несмотря на очевидную ошибочность такого убеждения, процесс отдаления человека от природы происходит еще большими темпами. Человек разумный породил человека потребляющего. Природа вытеснялась и продолжает вытесняться. Подчиняя природу себе, как бы антропологизируя ее, человек тем самым увеличивает риски для антропности. Подчиняя природу, он аннигилирует среду, без которой существовать не может. Уничтожая природу, он уничтожает себя. Если человек и природа не едины, то по крайней мере они не отдалимы друг от друга. И человек в природе нуждается намного больше, чем природа — в нем. Наконец, благополучие человека и природы тесно связаны. Человек существует потому, что существует природа, но не наоборот.
Ранее люди сами производили необходимые вещи, прилагая к этому процессу огромные усилия. Потом производство стало стандартизированным, и люди уже перестали осознавать трудности в создании вещи, а сами вещи начали воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Недаром часть современных потребителей ведет себя так, будто не понимает, что не все такие, как они, что массы людей трудятся, чтобы обеспечить их возможностью потреблять. Производственно-торговая деятельность отделялась от сезонности и приближалась к линейной темпоральности и точной хроноструктуре. Коммерция и промышленность заняли статус основных сфер деятельности, а торговые связи между сообществами стали обычным делом. Началась эпоха глобализации, когда общества сближаются посредством постоянных контактов. Это сближение дает возможность идти в ногу со временем, приобретая новые предметы и технологии, созданные в других обществах, но вместе с тем делает народы зависимыми от общей политико-экономической ситуации в мире. Сейчас наметилась тенденция экологической зависимости и проявления общей экологической проблемности в мире.
Логика рынка, на которой в том числе зиждется научно-технический прогресс, решает задачи, выгодные определенному субъекту и носящие сиюминутное значение, тем самым создающие огромные проблемы другим субъектам, а возможно, и самому инициатору решения этих задач в долгосрочной перспективе. Он не задумывается о том, что добавление нитратов в агропосадки ради уничтожения мешающих их росту микробов приведет к попаданию нитратов в грунтовые воды, а это повлечет за собой необходимость выделения значительных средств на строительство и более интенсивное использование водоочистительных сооружений. НТП создал много решений проблем, но и конституировал массу новых проблем — еще более глобальных, чем прежние. Рациональность и оптимальное планирование каждого отдельного актора приводят к «производственному хаосу».
Именно в XX веке ярмарка тщеславия достигла апогея. Хотя это время и было отмечено огромным количеством научных открытий, данный скачок обошелся очень дорого как человечеству, так и природе. «Разумное» и требующее минимум издержек решение сиюминутных проблем привело к появлению еще более значимых проблем: площадь создаваемых человеком пустынь растет, озоновый слой истончается, много видов животных, птиц и растений исчезло. А производство гаджетов, ценность которых крайне сомнительна, только растет и требует для самосохранения все новых ресурсов. Экономический рост, устремленный в бесконечность, для планеты враждебен. К тому же он удовлетворяет те потребности, которые сам создает, и процесс удовлетворения не успевает за процессом создания. Поэтому он не делает людей более счастливыми. «Громкие голоса экологов о бесперспективности столь увлекательного мирового соперничества за количество и качество потребления тонут в потребительски ориентированном водовороте перемалывания, природы, человеческих сил и территорий. Рутинная повседневность жизни, перемежающаяся катаклизмами, войнами, революциями, поглощает все призывы об осторожности в обращении с огнем безраздельно растущего перепотребления на полюсе изобилия (на Западе, да и на развитом Востоке) и тлеющим костром недопотребления на полюсе бедности и выживания (на Юге)»95.
Человечеству надлежит снова осознать себя частью природы, переосмыслить свои взаимоотношения с природой, найти новые ресурсы для жизни или создать новые технологии переработки ресурсов. Необходим активный поиск путей достижения коэволюции природы и человечества. Пока же у нас нет оснований ждать милости от природы, учитывая то, что мы с ней делаем. Утратив связь с природой и предпочтя обособленность от нее вместо гармонии с ней, человек, биологически оставаясь природным существом, на деятельностном уровне превратился в антиприродное существо.
Реклама как метатенденция потребительского общества
Именно в потребительском капиталистическом обществе актуализируется проблематика моды и рекламы, так как в данных социально-культурных и экономических условиях они приобретают максимальный потенциал воздействия на человека и общество и, соответственно, еще большего укоренения потребительских тенденций96.
Реклама сегодня стала неотъемлемой частью бытия человека и общества. ее можно встретить не только на телевидении и радио, а буквально везде — на крупных и мелких баннерах, на различных сайтах, на столбах, ограждениях и асфальте, внутри зданий и транспортных средств и на них, в метро и на автобусных остановках и т. д. Реклама — дискурс, обладающий огромной диффузной возможностью, способный проникать внутрь других дискурсов и социально-культурных практик, обогащать своим присутствием как медиа-, так и архитектурное и прочее пространство, просвечивать через них, изменять их символическое наполнение в угоду своим целям, мягко намекать, манипулировать и призывать. Где есть антропное бытие, там возникает возможность поместить рекламу. Являясь элементом виртуального пространства, реклама воздействует на практику преобразования реципиентом своего материального пространства и себя.
Многие исследователи сходятся во мнении, что реклама создает новые, преимущественно деструктивные, образцы поведения, ценностные ориентации и формы идентичности и в конечном счете стимулирует потребительские тенденции, своими виртуальными мирами образов и брендов предлагая некую индивидуализацию стиля жизни потребителей. Реклама, как и вся инфраструктура консьюмеризма, формирует определенную семиосферу, указывает как на функциональные, так и на символические ресурсы товаров, предлагая посредством их потребления приобщиться к референтной группе. Эта семиосфера с ее ценностями замещает собой действительно социально значимые ценности типа любви, дружбы, верности, честности, и зачастую легитимирует совершенно иные ценностные ориентации, даже противоположные названным. Рекламная семиосфера формирует мировоззрение, задает нормативы жизнедеятельности. Символика вещей заменяет желаемые потребителем ценности, которые на самом деле отсутствуют в рекламируемом предмете. Имиджи и бренды как составляющие рекламной (и потребительской в целом) семиосферы представляют собой некую прибавочную стоимость, символ желаемых ценностей, а не саму ценность97. Далее рассмотрим некоторые методы манипулятивного влияния рекламы на реципиента, особенности нравственного содержания рекламы и роль рекламы в обществе потребления.
Иногда продвигаемые вещи полностью антропологизируются или им придается какое-либо человеческое качество. Известна реклама, где Б. Уиллис говорит об одном из коммерческих банков: «Он такой же, как и я, только банк». Таким образом, в сознании реципиентов отождествляются понятия: «известный актер Б. Уиллис» и «банк “Траст”». В результате такого отождествления положительные эмоции, которые связаны с образом Б. Уиллиса, проецируются на образ банка. Или в рекламе колготок Sanpellegrino звучал слоган «Прочные, как истинные чувства». Понятно, что человек и банк, равно как колготки и чувства (тем более высокие) не могут ставиться в один ряд и находить единую точку соприкосновения. Они несравнимы, их невозможно расположить на одной координатной плоскости, поместить на одном столе, равно как абсурдно искать сходства, скажем, между холодильником и справедливостью. Такие лингвистические обороты с присущими им абсурдными сравнениями подрывают логическое мышление.
Также в рекламе часто прослеживается противопоставление естественного искусственному. При этом происходит своеобразная инверсия, подмена одного другим. То, что является природным и натуральным, представляется в неполном и неготовом виде, а потому и не заслуживающим внимания. Вместо него предлагается «готовый» продукт. При этом сохраняется апелляция к природе, к тому образу и качествам, которые дает природа, но которые можно легко получить без обращения к ее ресурсам. «Нишу первичного естественного занимает искусственное, называемое настоящим, натуральным: неестественно есть много лимонов и чеснок, когда для поднятия иммунитета достаточно пить йогурт; настоящий, естественный вкус и навар куриному бульону может придать только куриный кубик (но не бульон из курицы); довольно неестественно готовить маску из персика и йогурта при наличии готового тюбика с кремом; “естественный источник антиоксидантов Айс Ти Грин, совершенствует ваш ум, тело и душу” (а не заваренный зеленый чай)»98.
Людям свойственно проявлять уверенность, что реклама не оказывает на них воздействие. Мы привыкли считать себя достаточно свободными и рефлективными созданиями, минимально подверженными влиянию извне. Однако рефлексивность здесь не является гарантированным средством защиты от рекламы. Каждый из нас может встретиться с рекламным слоганом, который непроизвольно запомнится в силу своей глупости, подчеркнутой нелогичности, изощренности или еще каких-либо присущих ему особенностей. А запоминание слогана реципиентом — одна из задач деятельности по созданию рекламы. Или другой пример. Человек приходит в магазин купить стиральный порошок. Он не разбирается в этом виде товара, и из всего ассортимента, насчитывающего десяток наименований, ему надлежит выбрать одно. Никакое название ему ровным счетом ни о чем не говорит, кроме одного. Он не помнит, где и когда видел эту марку, но знает точно, что уже видел. И в таком случае вероятность покупки именно ее увеличивается. Конечно, здесь может помешать фактор дизайна, когда человек покупает не то, с чем уже когда-то сталкивался, а то, что, на его взгляд, более презентабельно выглядит. Но тем не менее «уже виденное» обладает большим кредитом доверия, чем «еще не виденное». Этот кредит доверия не основывается ни на каких рациональных аргументах. Он основан всего лишь на факте поверхностного знакомства с предметом (не говоря уж о практическом его использовании в прошлом), запечатленного в личностной истории покупателя. И пусть даже этот факт поверхностен, по сравнению с другими предметами именно этот выигрывает конкуренцию, поскольку в личностной истории покупателя, в его подсознании факта знакомства с ними не запечатлено, импринты отсутствуют. А знакомое — значит располагающее к доверию. Знакомый продукт покупается лучше, чем незнакомый. Но «знакомый» в данном случае — не обязательно продукт, характеристики которого человек хорошо знает. «Знакомый» — в первую очередь тот, который узнается. А чтобы он узнавался, реципиент должен его несколько раз увидеть посредством рекламы. Реклама в той или иной степени оказывает воздействие на каждого независимо от его уверенности в обратном и от уровня развитости рефлективных качеств.
Мифологичность рекламы заключается в ее свойстве представлять предметы в гиперболизированном виде. Причем гиперболизации подвергается не сам рекламируемый предмет, а его основное качество, главная особенность. Если это стиральный порошок, то он должен отстирывать абсолютно все и при любой температуре воды. Если это зубная паста, то как минимум она отбеливает зубы до кристального блеска (и на экране появляется лучезарная улыбка, далекая от реальности, но представляющая собой красивый спецэффект, что и есть гипербола), а как максимум ее использование на сто процентов уберегает как от кариеса, гак и от пульпита. Мифологичность рекламы заключена в «раздувании» таких особенностей товара, как совершенство и непогрешимость, в представлении товара как чудодейственного средства, способного излечить от всех болезней, сделать улыбку блистательно белой, одежду — идеально чистой, а реципиента — неподдельно счастливым. Поэтому вниманию реципиента предлагается товар в ложной форме, придающей товару свойства, которыми он не обладает или обладает в намного меньшей мере. Идеальность, изысканность и яркость формируются специально, посредством гротескности, искусственности, гиперболизации, экзальтированности и фальши. Так вместо конкретного продукта продается мечта. Неврозы, тревоги и страхи снимаются посредством успокоительной регрессии в приобретенной вещи. Но они же взращиваются, когда человек чувствует дисбаланс между желаемым и возможным. Система консьюмеризма построена так, что на желаемый уровень жизни человеку не хватает средств, но поддерживается уверенность в достижении этого желаемого уровня посредством еще одной покупки. На большой вывеске, рекламирующей банк «Траст», изображен Брюс Уиллис и написано: «Банк “Траст”, Б. Уиллис; третьим будешь?» Подразумевается следующая утопия: если человек воспользуется услугами этого банка, он достигнет статуса как «Траста», так и Уиллиса.
Часто для съемок в рекламе приглашаются известные люди. Мнение человека популярного намного референтнее мнения того, кто неизвестен. Собственно, этот человек становится законодателем вкуса и стиля жизни. Он демонстрирует подчеркнуто роскошный образ жизни, призывая к потреблению в том числе симулятивных благ — дорогих брендов. Он сам может являть собой бренд, а его сконструированный имидж — симулякр, в котором кроется призыв к определенному покупательскому действию или даже к выстраиванию целого образа жизни. Фигурирующий в рекламном ролике известный актер, спортсмен или музыкант своей известностью как бы легитимирует рекламируемый продукт, дает гарантию качества. Он намекает (а иногда говорит прямо), будто именно с данным продуктом к нему пришли успех и известность. Также он позволяет реципиенту приблизиться к себе, занять свое место посредством потребления реципиентом товара, который предлагает известное лицо. Так работает иерархический феномен человеческого сознания. Человек-бренд создает волну подражательного поведения. Когда знаменитость формирует имидж какого-либо товара или фирмы, когда в фильме фигурирует некий лейбл, получается, один бренд (человек, фильм) конституирует другой. Компания Ericsson, засветившись в фильме «Завтра не умрет никогда», вошла на рынок с нуля; продажи модели часов Omega Sea Master выросли на 900% после показа их в фильме «Золотой глаз»; продажи пива марки Red Stripe выросли на 150% после того, как его выпил Т. Круз в фильме «Фирма»; внедорожник Blazer после его использования А. Шварценеггером в фильме «Правдивая ложь» вышел на второе по популярности в США место99.
Однако участие звезды в рекламном ролике вовсе не означает, что звезда пользуется в своей жизни рекламируемым товаром. И даже если культовый спортсмен рекламирует спортивные аксессуары, совсем необязательно он использует их. Но потребитель мыслит иначе, связывая звездность с предлагаемым продуктом. Связь между звездой и товаром обычно не имеет логики, но она необходима. Мало того, весьма примечательны варианты, когда для рекламы какого-либо продукта приглашается известная персона, сфера деятельности которой совершенно не согласуется с данным продуктом. Например, киноактер или музыкант рекламирует медицинский препарат. Его деятельность не имеет никакого отношения к медицине, но, несмотря на это, у реципиента складывается впечатление, что данный персонаж не будет потреблять некачественный продукт, что он выбирает лучшее и, соответственно, что он действительно пользуется этим препаратом.
С другой стороны, в рекламе фигурируют простые люди, которые, пользуясь рекламируемым средством, как бы призывают реципиента не отрываться от коллектива, быть таким, как все. Такая реклама уже апеллирует не к авторитетности, а к стадности и заодно создает количественную легитимацию рекламируемого продукта, выраженную в идеологеме: «Если большинство потребляет это, значит, это ценно, так как такое большое количество людей просто не может ошибаться». Однако скорее не большинство потребляет данный товар, а каждый «узнает» из самого рекламного ролика, будто большинство сделало определенный выбор. Как отметил Р. Чалдини, потребители ориентируются на действия других, похожих на них людей, и потому рекламодатели используют хвалебные свидетельства о продукте среднего человека с улицы, такого же, как рядовой реципиент100. Современный потребитель руководствуется одновременно двумя противоположными тенденциями — сознательной и бессознательной. На уровне сознания он стремится всеми силами выделяться из общей массы и приобретает то, что, как он думает, его выделяет, хотя когда это начинают приобретать все, ни о какой автономности говорить не приходится. На уровне же бессознательного потребитель стремится быть таким, как все. Реклама учитывает оба аспекта поведения потребителя.
Спекуляция на науке также присуща рекламной деятельности, когда она ссылается на авторитетное мнение профессоров, врачей (стоматологов при продвижении зубной пасты). Этим приемом легитимируется полезность продукта, «доказанная» наукой, а само слово «доказано» стало распространенным убеждающим лингвистическим оборотом даже без отсылки к каким-то конкретным ученым: «Надежная бытовая техника существует — доказано Zanussi». Компетентность ученого, которая ценнее мнения рядового человека, сама ученость как таковая выступает серьезным легитимирующим фактором. В том числе в рекламе имеет значение авторитет цифр и формул, которые, как и наука в целом, указывают на «правильный выбор». Рекламная спекуляция на мнении ученых укладывается в более широкий феномен — веру в науку и ее превосходство над обыденной формой знания. Тот, кто представляется в рекламе под видом авторитета (ученый или знаменитость), как бы снимает с реципиентов необходимость выбирать, используя свое право указывать, что следует покупать.
В рекламном дискурсе заложена «обещающая хитрость»; реклама не обманывает напрямую, но и истинную правду тоже не говорит. Так, надпись «100% апельсиновый сок» означает не то, что это натуральный сок, а всего лишь то, что это сок не яблочный, не томатный и т. д., а именно апельсиновый (и необязательно натуральный). Однако сознание потребителя обычно «думает» иначе. Добавление в стиральный порошок кристаллов не придает порошку новых свойств, усиливающих его отстирывающую способность, а всего лишь представляет собой маркетинговый ход, придающий порошку отличительное свойство. И рекламщики не говорят напрямую что-нибудь типа «кристаллы улучшают качество стирки», то есть не обманывают. Они говорят «ищите порошок с кристаллами», а сознание потребителя «додумывает» само так, что образуется ментальная взаимосвязь между кристаллами и качеством продукта, их содержащего.
Счастливым человека может сделать все — от жвачки Stimorol до пылесоса Indesit, который, как известно, «прослужит долго». И если люди, связанные общим бытом, совместно пьют по утрам сок «Моя семья», они обязательно будут такими же счастливыми и беззаботными, как улыбчивые герои рекламы. А человек, стирающий одежду с помощью порошка Tide, всегда выглядит с иголочки, что придает его внешнему виду особую привлекательность и сексуальность. Мифология пытается создать такой образ реальности, который совпадает с желаниями, целями и ожиданиями носителей мифологического сознания, то есть реципиентов. Вместе с тем этот образ реальности должен не только совпадать с желаниями и потребностями, но и с лихвой их удовлетворять, то есть удовлетворять даже более, чем необходимо. Если чистить зубы, то до идеального блеска, если употреблять Danissimo, то так, что «пусть весь мир подождет». Реклама в первую очередь интересует не качеством товара, а имиджем, который тот придает: продается не мыло, а мечта, не одеколон, а успех. Виртуальная мифологизация качеств товара, осуществляемая рекламой, стимулирует реальное потребление. Человек-потребитель должен чувствовать себя радостным, счастливым и довольствоваться своим положением, но при этом — несмотря на его довольство — он все же должен стремиться к еще большему приобретению. Таким образом, реклама производит потребителя. В эпоху потребления счастье длится недолго: избыток потребления, когда материальные потребности не просто удовлетворены, а чрезмерно удовлетворены, способен порождать несчастье в условиях, где реклама указывает на новые потребности и необходимость их удовлетворения.
Когда человек покупает рекламируемые продукты, он приобретает не сами эти товары, а то, что ему обеспечит их приобретение — некоторую вторичную выгоду: социальный статус, имидж, отношение других людей, положительные эмоции и т. д. «Мерседес» символизирует солидность и престижность, «Кока-Кола» — вовлеченность в праздник. Можно сказать, что реклама в первую очередь культивирует имидж, который служит дополнением к функциональным особенностям продукта, к его полезности. Другими словами, реклама предлагает не только конкретную марку, но и что-то более фундаментальное.
Благодаря рекламе вытесняются из поля восприятия (за ненадобностью) внутренние качества товара, его настоящая полезность. Воплощенная в технических качествах автомобиля его реальность уступает место мифологии автомобиля, выражаемой фразами типа: «С ним вы станете вездесущим, свободным и неуязвимым».
Если ранее мифы создавались стихийно вследствие противоречия между потребностью познавать мир и отсутствием достаточной информации о нем, сегодня мифы конституируются целенаправленно и уже не носят когнитивный характер. Вообще, рекламное мифотворчество можно сравнить с архаикой, религией и прочими идеологическими конструктами, которые не укладываются в рамки объективности и рациональности, которые минимизируют рациональные аспекты потребления. Вера в рекламную информацию, в ее истинность — все равно что вера в Бабу-ягу, Деда Мороза, миф про ребро Адама и в прочих сказочных героев и сюжеты, которые не отличаются достоверностью. По сути, реклама обращена к сфере, локализованной между фактом и вымыслом. Пробуждая архаическое недовольство, вызванное необладанием желаемым продуктом, реклама и брендинг пользуются методами архаизации и мистификации — нарративом о некоем магическом артефакте, который поможет открыть врата в мир мечты. Золотыми ключиками, скатертями-самобранками, кольцами всевластия становятся BMW, «Кока-Кола» и т. д. Отбрасывая в сторону рационализм и прибегая к «волшебному» нарративу, реклама и брендинг сами становятся мифами — мифами общества потребления. Некоторые исследователи рекламную мифологию сравнивают и связывают с таким жанром литературы, как фэнтези, в котором предпочтение отдается не рационализму, а поэтике волшебства101. «Фэнтезизация» массмедиа дает возможность формирования брендов.
Если раньше религия как мифологическая система занимала особое место в жизни человека, а во времена социализма на место религии встала святая вера в пресловутое светлое будущее, то сейчас во многом религиозные (мифологические) функции выполняют предметы обожания, предлагаемые китч-культурой. Это так называемые звезды, интерес общественности к которым не ограничивается просто знакомством с их творчеством, он приникает и в личную жизнь этих звезд. А сами звезды выступают иконами, «святыми ликами», наделяются чуть ли не божественными свойствами. Отсюда можно вывести определение фанатизма: фанат — это не только тот, кто поклоняется своему объекту, а тот, кто забывает, что этот объект — всего лишь человек. Собственно, они стали своеобразным фетишем, про который их фанаты хотят знать все. Миф как таковой существовал всегда, но лишь приобретал разные образы — сакральность бога, вера в идеалы коммунизма, фанатизм от «Фабрики звезд» и т. д. Потребкульт формирует система икон, но икон, замаскированных так, что их обожатели редко осознают данную иконичность. Поэтому миф продолжает пронизывать общественное сознание и находит свое применение не только в возрождении неоархаики в искусстве, лживости правительственных обещаний, многообразии религиозных объединений, поп-фетишах, но и в специфике рекламы. Представляется, что без мифа реклама не была бы сама собой.
Многие психологи говорят о скрытой манипулятивности рекламы, что связано с воздействием идеологической или поведенческой программы именно на подсознание реципиента (подпороговые внушения) в обход сознания. Такая технология снижения сопротивления внушению является еще одним аспектом негативного воздействия рекламы на субъекта, а именно на его сознательную и мировоззренческую составляющие. И это воздействие, эти внутриличностные инъекции конституируют массмедийного субъекта, который своими качествами являет полную противоположность подлинному субъекту. Предлагаемые ценности, идеалы и нормы, тиражируемые посредством СМИ и рекламы, проникают внутрь человека и претендуют на вакантное место его самости, субъектности. Невосприятие влияния как навязанного внешним давлением выступает мерой успеха самого влияния.
Реклама, проникая везде, как бы лишает реальность легитимности, превращает ее в виртуалию. Благодаря рекламе во время прогулки по городу большая часть сознания и подсознания человека отдается виртуальному пространству, и возникающие мысли детерминируются встречающимися сообщениями.
Культура и искусство сращиваются с рекламой. Это можно увидеть на уровне конкретных примеров, когда какие-нибудь музыкальные группы своим выступлением не только демонстрируют свое искусство, но и рекламируют своих спонсоров. Так, в 2009 году в Омске «Альфа-банк» создал себе дополнительный пиар, устроив концерт группы Rainbow.
Реклама может быть и средством продвижения… рекламы, превращаясь в этом случае в феномен метарекламы. «Здесь могла бы быть ваша реклама», — гласит фраза на баннере, которая рекламирует возможность осуществлять рекламу. Она же рекламирует помимо товаров и услуг то, с помощью чего представляется возможность на уровне «здесь и сейчас» повысить покупательную способность и приобрести предлагаемый рекламой товар — кредит. Реклама — это методология продвижения не только товара, услуги или быстрого (но сопряженного с экономическим закабалением) повышения покупательной способности. Это еще методология продвижения фирмы, корпорации и даже государства. Она же выступает неким показателем высокого статуса той или иной корпорации. Те фирмы и компании, которые не рекламируют свою продукцию (и, соответственно, самих себя), представляются подозрительными. Они рискуют потерять престиж даже в том случае, если достаточно известны без рекламы; последняя не только повышает популярность своего объекта, заставляет о нем говорить, но и указывает на его социальный статус, уровень которого привлекает особое внимание. Чем дороже рекламная кампания корпорации, тем серьезней корпорация как экономический актор. Так что реклама — своеобразный элемент дисциплины и фетиша в обществе потребления. Она не только реализует свою основную функцию привлечения внимания широких кругов к своему объекту, демонстрации людям продукта или услуги и внушения необходимости приобретения продукта или услуги, но и демонстрирует статусность фирмы или компании.
Нередко реклама апеллирует к дефицитности товара, используя нарратив «этот товар будет продаваться только сегодня, поэтому вы должны успеть». Таким образом у реципиента как бы отнимается выбор, потенциальный потребитель ставится в позицию «сейчас или никогда». У него нет времени подумать о том, нужен ли ему предлагаемый продукт.
Рекламщики используют «стратегию обмена», выраженную в принципе «за услугу следует платить услугой». Так, сначала потенциальному покупателю чистят квартиру новым пылесосом, а после этого у него возникает чувство долга за оказанную ему услугу, и он покупает пылесос, продемонстрированный ему в действии. Расчет рекламщика следующий: клиент, которому оказали услугу, ставится в неловкое положение, в нем пробуждается совесть, которая мешает ему ответить отказом. Только услуга обычно является уловкой. Это напоминает случай, когда один человек другому оказал единожды помощь, а потом взамен стал просить гораздо большую по значимости услугу, причем не единожды, а многократно.
Особо серьезное влияние оказывает реклама на неокрепшее детское сознание. Авторы книги «Проект “Россия”» приводят пример детского кафе, где детям предлагают поводить хоровод не вокруг елки, а вокруг символа доллара102. В России уже давно дети стали воспринимать американские бренды как свои, а у многих взрослых они ассоциируются с детством. Чужие символы сместили родные, равно как и чужая культура сместила родную, став своей. Соответственно, в человеке (ребенке) взращивается космополит, который абсолютизирует чужую культуру в ущерб своей, национальной. Для сохранения национальной культуры ее символы должны транслироваться чаще и в более позитивной форме, чем чужие: Дед Мороз вместо Санта Клауса, Илья Муромец вместо Супермена и т. д. Рынок, создавший целую систему «детской» рекламы, не просто превращает ребенка в типичного потребителя, а сеет зерна конфликтности между детьми и родителями, отдаляет поколения друг от друга, перечеркивает духовную близость между ними и, соответственно, расшатывает основы детско-родительских отношений и разрушает семейные ценности. Такая конфликтность двуаспектна: 1) потребительские ценности детей входят в противоречие с ценностями их родителей, которые преимущественно находятся ближе к традиционности; 2) потребительские ценности сами по себе несут заряд конфликтности, так как десакрализируют межчеловеческие отношения (в том числе между родителями и детьми), воспитывают эгоизм, нарциссизм и сугубо функционально-прагматичный интерес к другому человеку.
Маркетологи изображают родителей в виде ничего не понимающих в приобретениях несовременных людей, носителей атавистических ценностей, одновременно предлагая детям дорогие игрушки и товары. Так формируется в детском сознании внутрисемейный нонконформизм, а само детское сознание консьюмеризируется. Происходит «бунт Эдипа» против отцовства и заодно материнства. Как отметил Ю. А. Запесоцкий, коммерческий директор «Макдоналдса» на одной из конференций выступил с докладом «Ослабление родительских запретов», основной тезис которого — «антиобщественное поведение в погоне за каким-нибудь товаром — это хорошо». Да и в целом реклама (не только детская) своими сюжетами легитимирует безнравственность. Персонаж ворует у своего знакомого чипсы «Лейс», летчик покидает самолет, угощая обреченного на смерть пассажира ириской «Меллер», человек грабит банк и заодно ворует сотовый телефон LG, мужчина за бутылку пива «Сибирская корона» отбирает у любимой женщины украшения, джинн позволяет убить Синдбада ради глотка «Миринды» и т. д. Аудитория не просто потребляет рекламируемые продукты, а вместе с рекламой интериоризирует вкус измены, лжи, предательства, лицемерия, гедонизма, индивидуализма, силы, статуса и пр.103
Закон запрещает рекламировать идеи, ценности и товары, которые могут кому-то повредить на уровне «здесь и сейчас» и вредоносность которых неоспорима и очевидна. Однако он не запрещает рекламировать то, что впоследствии конвертируется во вред. Если реклама открыто пропагандирует межчеловеческую рознь, она вне закона. Но если она «просто» намекает ребенку на недоверие к родителям или «всего лишь» взращивает в нем эгоизм, нарциссизм и потребительский индивидуализм, она вполне законна. Этим пользуются рекламщики, действующие сообразно принципу «разрешено все, что не запрещено законом», ибо иной цензуры нет. Они не оглядываются на возникающие благодаря их совокупной деятельности социально-экологические и духовно-нравственные проблемы, ибо приоритетной выглядит личная прибыль сегодняшнего дня, а не общие убытки будущего времени. Их нельзя демонизировать, так как они работают сообразно конъюнктуре, и для них негативный эффект от собственной деятельности — это не самоцель, а средство получения прибыли. Однако их деятельность требует серьезных ограничений.
Интернет сегодня используется в качестве инструмента в том числе детской рекламы. Дети регистрируются в различных социальных сетях, оставляют там свои данные. Маркетологи используют эти сети, например, для одновременных поздравлений юных блоггеров с днем рождения и предложения новых игрушек. Или же они просто рассылают интернет-рекламу своих продуктов, которые ориентированы на детей. Сетевая реклама (не только детская) может появляться на экране вследствие набранного пользователем запроса в поисковой системе, либо в связи с его профилем в социальной сети, либо же вследствие просто включения компьютера и выхода в Интернет; реклама появляется на любых страницах, в том числе тематически не имеющих ничего общего с рекламируемым продуктом и потребностями, которые он удовлетворяет. По ключевым словам запроса вместо нужной информации высвечивается масса рекламных сообщений — так поднимается цитируемость одних сайтов, которые выводятся в топ-рейтинг поисковых систем, из-за чего автоматически «опускаются» другие сайты. Реклама «взламывает» индивидуальные страницы в соцсетях и рассылается «друзьям» или просто приглашает присоединиться к сообществу, где лоббируется тот или иной продукт.
Дети видят не только направленную непосредственно на них рекламу, но и ту, которая ориентирована на взрослых, но транслируется в дневное время. Огромный массив рекламы посвящен сигаретам или алкоголю, часто реклама содержит сцены насилия или подчеркивает излишнюю сексуальность в образе главного героя. Вообще, реклама часто апеллирует к сексуальности, предлагая игру в нарушение культурных табу и расширение рамок дозволенного, тем самым привлекая особое внимание. Аудиальные или визуальные символы секса просвечиваются даже в рекламе продуктов, которые не имеют никакой связи с сексуальной сферой. Все это оказывает особое влияние на детское сознание.
Еще одно важное свойство современной рекламы и потребительской инфраструктуры — это способность интегрировать внутрь себя антипотребительский дискурс, к которому относятся коммунистические, анархические, антикапиталистические, антиглобалистские тенденции. Дух консьюмеризма умеет играть этими тенденциями так, что элементы антипотребительского дискурса из оппонентов консьюмеризму превращаются в его сторонников. Арсенал технологий экспансии потребкульта очень широк. Так, образ Че Гевары — человека, который, можно сказать, пожертвовал собой ради блага других, — стал эксплуатироваться не только идейными поклонниками кубинского революционера, но и индустрией, в частности в рекламе мороженого. В видеолекции «Сначала как трагедия, затем как фарс» С. Жижек приводит следующий пример. Фирма, которая называется Cherry Guevara, использует рекламный лозунг: «Революционная борьба вишенок была подавлена, когда они были окружены двумя слоями шоколада. Пусть память о них сохранится у вас во рту!» Таким образом, Че Гевара, а точнее его образ, служит рекламной кампании, которая вместе с тем использует не только образ, принадлежащий антикапиталистической идеологии, но и ее речь; в приведенном лозунге — ни много ни мало — прослеживается идея революции, а по-настоящему здесь уже нет идеи, но есть спекуляция на ней. К антипотребительской (революционно-социалистической) оси абсцисс добавляется коммерческая ось ординат. Революционный символ капитализируется, огламуривается, становится модным трендом, утратившим революционный запал. Идеология превращается в деидеологизированный модный стиль, который продается в соответствии с рынком.
Руководствуясь этим примером, можно сказать, что во многих случаях современная потребительская культура спекулирует на революционных или просто глубоких идеях, из первых ради собственного самовоспроизводства выхолащивая революционность, а из вторых — глубину. Она может переваривать и интегрировать в себя стиль одежды субкультур, которые ранее символизировали борьбу с капиталистической системой (хиппи, панк и т. д.); делая их одежду модной, она все-таки не делает таковым их мировоззрение и стиль поведения. Так некогда девиантные дискурсы становятся нормативными. В крайнем случае человек, купив майку с Че Геварой, считает, будто этим актом он уже проявил себя как борец, выполнил свой долг по защите общества и бросил вызов буржуазным тенденциям. Лицо на футболке выступает неким откупом для того, кто в реальности ничем не рискует и не проявляет никакой борьбы за лучшие социальные идеалы. Оно становится методом самозащиты от чувства несовершенства и несправедливости мира, от желания мир исправить и от моральных мучений, связанных с собственным бездействием.
Усилия антипотребительских (высокохудожественных, высокоинтеллектуальных, гуманистических и т. д.) тенденций поглощаются тем, против чего эти усилия направляются. Мир потребления присваивает подрывные для себя движения мысли и действия, заставляет их служить своим целям, подвергая их перекодированию, коммодификации, то есть превращению в рыночный товар, вследствие чего былая подрывность из них исчезает. Он способен нейтрализовать не сами социальные идеи и лозунги, призывающие к конкретным действиям, а их образ, символ, из которого в конце концов вытесняется некогда им присущий идеологический потенциал. Нельзя огламурить лозунги типа «Землю — крестьянам, заводы — рабочим» или «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», но можно огламурить символ серпа и молота, который в результате встает на путь неосмысленного потребления. Потребкульт воспитывает у реципиентов игровое отношение к серьезным идеям, изначально выступающим как ответ на актуальные социально-политические проблемы. Социальная борьба, требования трудящихся, протест и т. д. перекодируются в игровой вид. Потребкульт открыл возможность манипулировать этими явлениями, придавая им безопасную для капиталистической системы форму. Подобная перекодификация может касаться таких действительно серьезных проблем, которым просто цинично и аморально придавать развлекательно-игровую форму, осуществляя перевод трагедии в фарс.
Реклама умело спекулирует на подчеркивании индивидуальности. Сюда стоит отнести рекламу напитка, выраженную в лозунге «Будь собой — не дай себе засохнуть» или магазин, название которого говорит о многом — «Только для вас». Здесь также рекламные технологии интегрируют в себя нечто, находящееся в иной плоскости, нежели реклама, и во многом противостоящее ей. В последнем случае «ковровая бомбежка», ориентированная на максимально широкую целевую группу, мимикрирует под молекулярное предложение, для которого характерна адресность и индивидуальный подход. Реклама — это односторонняя коммуникация, а рекламщик — фиктивный собеседник, «разговор» с которым исключительно монологичен и сводится к одной теме — преимущества его товара. Он предлагает, а покупатель в качестве ответа на его коммуникативный акт приобретает. Так организуется потребительская коммуникация, конечно имеющая мало общего с живым, искренним и эмпатичным общением. Вместо проявления искренности и эмпатии рекламщик использует специально изученные техники подстройки к клиенту, работы с возражениями и т. д., которые подчеркивают его как бы индивидуальный подход к каждому. Искреннее и живое проявление сменяется целерациональным и технологичным использованием. Вывеска «Мы рады вас видеть» конвертируется в никогда не произносимую фразу «Мы рады получить от вас деньги за наш товар».
Можно сказать, реклама уже заменила собой идеологию, став мощной силой перекодирования фундаментальных ценностных ориентаций, транслятором ценностей потребления, машинерией формирования потребительских смыслов и фиктивных потребностей и институтом специфической социализации. Производство созданием предмета формирует и потребность в нем; оно создает как предмет для человека, так и человека для предмета. Поэтому оно, производя потребительские объекты, прокладывает мост определенному типу потребления. Выстроенная сегодня рекламная инфраструктура мощно усиливает начатое производством формирование потребностей, в том числе фиктивных, создает дурную бесконечность потребностей. Так проявляется сопряженность производства и рекламы. Потребление же способствует дальнейшему росту производства, ибо нужды (реальные или сконструированные потребительской системой) потребления определяют производство. Реклама выступает неким связующим элементом между потреблением и производством, который укрепляет их взаимозависимость и замкнутость системы: рост потребления — рост производства — рост потребления.
Скорее всего, реклама будет продолжать развиваться как средство влияния, манипуляции и инжиниринга консьюмтариата, осваивать новые технологии и продолжать шокировать реципиентов, усиливая давление на культуру и социальную жизнь. Это прогностическое предположение объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, рыночная конкуренция от каждого конкурирующего актора требует постоянного совершенствования технологий привлечения к своим услугам. Для этого необходимо предпринимать более сильное (в том числе нравственно шокирующее) и хитрое воздействие, так как прежние «шоки» проходят, и предыдущие методы теряют свой шокирующий потенциал. Реклама прежних лет сегодня кажется банальной и примитивной, а впоследствии и сегодняшняя реклама будет представляться таковой. Поэтому рыночным акторам необходимо развитие рекламного потенциала, которое, к сожалению, происходит за счет разрушения социальной нравственности. Во-вторых, рынку проще не бороться со сложившейся потребительской культурой, не преломлять уже утвердившиеся нормы и образцы поведения, а усиливать их еще сильнее. Поэтому от него не приходится ожидать переориентации в более нравственное русло и, соответственно, интеллектуально-этического облагораживания рекламной деятельности. Нет никаких оснований для прогнозирования становления корпоративной этики сообщества создателей и заказчиков рекламы, которая могла бы обуздать негативное влияние рекламы на человека и общество и перенаправить рекламный дискурс на тиражирование высоких нравственных образцов.
Конечно, мы не можем предлагать полное уничтожение рекламы, так как отчасти и на ней тоже держится экономика. К тому же реклама (как и мода) — один из инструментов социализации, зеркало, отражающее и генерирующее общественные тенденции, вкусы и ценности. Но нельзя некритично относиться к вышеописанным тенденциям.
Во-первых, рекламным объявлениям надлежит печататься в специальных журналах и помещаться на специальные — только этому посвященные — телевизионные каналы и интернет-сайты. В условиях превращения в разноголосицу рекламы практически всего окружения человека и проникновения рекламы во все сферы бытия неудивительно возникновение параноидальной (но не лишенной вероятностности) мысли, что если ее развитие будет происходить такими же темпами, то в скором будущем ее станут транслировать путем прямого воздействия на человеческий мозг. Реклама должна восприниматься реципиентом добровольно, а не навязываться в виде вкраплений в интересующие его телепередачи, фильмы или песни. И, соответственно, реклама призвана оставаться именно рекламой, быть тождественной самой себе, а не мимикрировать под произведения искусства, с помощью чего она ищет дополнительные пути проникновения в сознание человека.
Рекламный стиль мышления представляет собой клишированный и шаблонный ход мысли, где настоящей мысли по сути не остается места. Такое мышление оперирует преимущественно готовыми штампами, создает из них различные синтезы, не имея возможности логически объяснить полезность того, на что оно указывает, так как логика и доказательства рекламой (и рекламным стилем мышления) не предусмотрены. Покупатель покупает товар не потому, что его логически убедили в ценности данного продукта, а в первую очередь потому, что на него повлиял имидж товара: красивая оболочка, размер, красочность и т. д. Таким образом, рекламный стиль мышления не является стилем мышления, а выступает скорее неким догматизмом, который выражает себя в убежденности субъекта-носителя этого стиля в том, что он «знает» нечто, но объяснить логику построений своего «знания» не может. Носитель такого стиля имеет столь же пестрое разнообразие «я», сколько в его сознании заложено рекламных представлений. И через различные бытийно-информационные ходы (вкрапления в мир искусства и культуры) реклама, а вместе с ней и рекламный стиль мышления рвутся к проникновению в сознание человека, что впоследствии негативно сказывается на его нравственно-этическом облике, мыслительной и поведенческой гибкости. Можно сказать, общество потребления мыслит рекламными штампами говорит языком рекламного дискурса. Поэтому возникает необходимость дистанцировать рекламу от того, что с ней не должно быть связано (например, от искусства), и давать ей право на существование только там, где ей и место, отделяя тем самым «мух от котлет». И если вдруг у человека возникает в силу тех или иных коммерческих целей и обстоятельств потребность ознакомиться с рекламным спектром, он всегда будет знать, где его можно найти.
Во-вторых, рекламе необходимо придать нравственный облик, поскольку та реклама, которую мы сейчас имеем, — по большей части прямое навязывание аморализма. Это возможно только в том случае, если начнется санкционированное государством и поддержанное обществом наступление на потребительскую культуру в целом и лежащий в ее основе рыночный фундаментализм. С одной стороны, рынок задает характер деятельности средств массовой коммуникации, с другой — средства массовой коммуникации, находясь под влиянием рынка, транслируют рыночно-потребительские ценности и модели поведения. Медиа отказываются от нерыночных (недостаточно востребованных широкими слоями) материалов, вовлекаясь в некую рыночную цензуру. Так происходит самотиражирование потребкульта. Также необходимо серьезно ограничить тиражирование литературных, музыкальных и др. произведений, в которых романтизируется преступность, педофилия, эгоизм, инфантилизм, гомосексуализм и другие пороки.
Это будет проявлением позитивной цензуры, а не той, которая существует сегодня, — цензуры, распространяющейся не на романтизацию пороков, а на вербализацию оппозиционных в политическом плане мнений. Нельзя возвеличивать абсолютную свободу творчества, прикрываясь мнением, будто оно есть показатель подлинной и неограниченной демократии. Свобода творчества необходима, но любая свобода ограничивается какими-либо нормами, барьерами, не допускающими ее переход из сферы конструктивности и созидания в сферу деструктивности и порочности. Целесообразно ориентироваться не на догматичные запреты, как это было в СССР, когда по анекдотам, песням и театральным постановкам стреляли из пушек. Такая стратегия даст эффект сладкого запретного плода. Целесообразно не допускать к широкому тиражированию продукты китча и осуществлять режим благоприятствования замене китча на действительно наполненные нравственностью медиапродукты. То есть необходимо не вырывать с корнем что-либо, оставляя пустое место, а использовать «мягкую силу» и обязательно освободившееся место заполнять иным, более человеко- и обществоцентрированным продуктом. В ином случае борьба с рекламной (и потребительской в целом) распущенностью ни к чему не приведет, ибо сколько ни отрубай голову змею, она все равно будет отрастать заново. Предлагаемые действия ограничат прибыль от рекламы, но поспособствуют окультуриванию социума. Несомненно, второе является более достойной и приоритетной целью, чем первое. Коммерческая прибыль выше общественного здоровья только в глазах тех, кто эту прибыль получает. Но на более масштабном уровне эти явления совершенно не поддаются сравнению; попытка поставить их в один ряд представляется совершенно абсурдной. В конечном счете если удастся изменить культурные установки людей, возникнет спрос на иной продукт, и инфраструктура рекламы и маркетинга снова станет получать прибыль, но уже за счет других продуктов. Трансформация содержания медиареальности как внешней для человека среды приведет к изменению воспринимающего данное содержание человека, его эстетических, интеллектуальных и нравственных особенностей.
Свободу слова, прозрачность и гласность, естественно, следует понимать в условном смысле. При абсолютной гласности все видели бы всех, а не один человек наблюдал бы за всеми остальными, то есть осуществлялся бы тог же самый тоталитаризм. Цензура необходима для любого (особенно печатного) слова, ибо именно она указывает на ответственность говорящего. Где нет цензуры, нет ни осмысленности, ни этичности речи. Цензура — условие сохранения общества и признак уважения к речи, но гипертрофированная цензура, наоборот, выступает признаком ненависти к речи. Телевидение (и другие СМИ) не должно быть свободным, оно не должно транслировать все подряд. Принцип «не нравится — не смотрите» указывает не на демократизм, а на порочность. Идея о свободе СМИ ни в коей мере не проникнута ни гуманизмом, ни демократичностью, так как свобода от всего, в том числе от морали, есть аморальность. Учитывая не только политический контроль, выражающий себя в ангажированности телевидения властными структурами, но и отсутствие культурного контроля, выраженное в засилье культа секса, убийств, глупой развлекательности и прочего китча, цензура СМИ представляется необходимой. Ее отсутствие более вредно, чем полезно.
Утвердившееся рекламно-манипуляционное пространство приковывает к себе человека, подчиняет его волю, чувства и психологическую направленность, формирует определенный (потребительский) тип мировоззрения. Оно указывает на технологический прогресс, на прогресс влияния одних людей на других. Но упразднение этого пространства следовало бы связывать с социальным, культурным и нравственным прогрессом. Сегодня максимальной значимостью обладает не защита рекламы и маркетинга, а поиск защиты от них.
Роль моды в обществе потребления
Человек всегда ищет свою принадлежность, пытается идентифицировать себя с какой-то социальной группой, референтной для него. Привычка, следование образцу и подражание — основа самоопределения, которая обеспечивает ритуальность культуры и механизмы ее развития и воспроизводства104. Мода способствует сохранению культурной традиции, символизирует социальный статус, направляет поведение и устанавливает границы дозволенного и желаемого, выступает средством достижения общественного признания. А. В. Конева отмечает сверхиндивидуальную сущность моды: по нашему мнению, эту сверхиндивидуальность можно поставить в один ряд с политикой (особенно авторитарной), рекламой и т. д. — со всем, что благодаря своей возвышенности над индивидуальностью человека лишает последнего свободы выбора, волепроявления и других субъектных качеств.
X. Ортега-и-Гассет пишет о том, что модное искусство недолговечно, так как живет за счет эфемерного зрителя, а классическое искусство со зрителем не считается, что является причиной трудности его понимания105. Указание философа на недолговечность модного искусства говорит о постоянной переменчивости последнего, а значит, и самой моды. Но эта переменчивость не выходит за пределы китча и не пытается войти в сферу более высоких уровней культуры, — в таком случае массам станет трудно осмыслить новую тенденцию, и тогда она не станет модной.
Недолговечность как основное качество лежит в основе моды в обществе потребления, то есть это непосредственное требование к вещам. Серийные вещи намеренно обрекаются создателями на непрочность; они не должны быть редкими, но должны быть краткосрочными, бренными, низкокачественными. Само производство поддерживает смертность одних вещей для того, чтобы на смену им пришла жизнь других, в своей совокупности образующих новый модный писк, и так происходит циклически. Поэтому нельзя сказать, что производство стремится к смертности вещей в целом; оно устанавливает цикл смерти-возрождения, ускоренного обновления вещей, благодаря которому создается мода и утверждается ее подвижность, но и благодаря подвижности моды создается этот циклический кругооборот. Такой цикл не следует путем наделения вещи прямой функциональностью (прямая функциональность растворяется во мраке низкого качества), но гонится за функциональностью символической, которой как раз и соответствует мода. Вообще, прямая функциональность, связанное с ней высокое качество вещи и, соответственно, долгое ее использование полностью противоречат дискурсу моды и потребкульта, а потому для этого дискурса приемлема только символическая функциональность. Происходит компенсация качества количеством и символической полезностью. Сейчас остается только ностальгировать по качеству джинсов, выпускаемых пятнадцать-двадцать лет назад, на смену которым пришла одежда на один-два сезона. На основе этой практически общей тенденции ускорения времени службы (выгодной для производителей) вполне своевременно и притягательно выглядят рекламные слоганы типа: «Indesit — прослужит долго» (что выгодно для потребителей, преимущественно тех, кто не гонится за изменчивостью моды).
Мода — «обычно непродолжительное господство определенного типа стандартизированного массового поведения, в основе которого лежит относительно быстрое и масштабное изменение внешнего (прежде всего, предметного) окружения людей… внешнее оформление внутреннего содержания общественной жизни, выражая уровень и особенности массового вкуса данного общества в данное время»106. Ей свойственны: релятивизм (быстрая смена форм), цикличность (периодическая обращенность к традициям прошлого), иррациональность (ее «эмоциональная» обращенность не всегда сообразуется с логикой или здравым смыслом), универсальность (мода обращена ко всем сразу и к каждому отдельно). Мода формирует вкусы, внедряет определенные ценности и образцы поведения и управляет ими. Мода ориентирована на высокую рейтинговость, а всякие «горячие десятки» и другие топ-листы являются формами организации моды. Как бы просто информируя о самых рейтинговых компаниях и товарах, они их рекламируют, придают значимость всему, что внесено в список, но содержание списка постоянно меняется. Миропорядок выстраивается из 10 лучших исполнителей, 10 ведущих событий, 10 самых успешных компаний, 10 наиболее дорогих брендов. Культура потребления же формирует потребность искреннее интересоваться рейтингом поп-звезд в «горячей десятке». Мода — одно из средств социализации. Но можно ли эту социализацию назвать именно таковой? Скорее, здесь более уместным будет термин «нормализация» или более грубое, но весьма справедливое в этом контексте слово «массификация».
Мода обращается к широкому кругу, она апеллирует к низменным и примитивным вкусам, удовлетворяет низшие потребности. Мода — это некая стандартизация духовности, а духовность не терпит стандартизированности. В таком случае она просто перестает быть собой. Мода уничтожает человеческую уникальность, индивидуальность вкуса, она говорит: «Посмотри на меня и на всех нас и уважай и люби то, что мы все любим». Мода антонимична индивидуальному стилю. Под флагом индивидуализации и некоей элитаризации она осуществляет стандартизацию формированием всеобщности образа жизни. А стиль, в свою очередь, подчеркивает уникальность человека, уникальность его вкусов и отношений, его субъектную позицию.
Мода находится вне стиля. Они просто несовместимы и взаимоисключаемы. Мода требует конформности, а не индивидуальности, она стремится к массовости, а не уникальности. «Если сегодня все слушают “Руки Вверх”, то и я буду их слушать — и неважно, нравятся они мне или нет». А если завтра все забудут эту бездарную группу, но станут превозносить новых (только что появившихся) аналогичных деятелей, первые потеряют свою ценность в глазах «модной» толпы? Несмотря на такую абсурдность, это действительно так. Получается, у потребителя моды нет четкой и устойчивой системы отношений к тому, что потреблять.
Хотя в случае с попсой мы не можем однозначно утверждать, что она становится популярной благодаря только конформизации. Как музыкальное явление попса действительно нравится людям. Достаточно простой (и даже примитивный) мотив, насыщенный повседневными переживаниями текст (любовные муки или, наоборот, выражение восторга от любовных отношений) — все это ценности, разделяемые широкими массами. Чтобы понять и переварить содержание попсы — как музыкальное, так и текстовое — не требуется утонченность вкуса и интеллектуальное напряжение. Скорее наоборот, массы пытаются избегать этого напряжения, вследствие чего тяготеют именно к тем видам искусства — музыкального, кинематографического, литературного и т. д. — содержание которого настолько прозрачно, что легко и просто усваивается, без дополнительных психических усилий.
Мода заставляет людей постоянно следовать за собой, за меняющимися модными трендами и формирует стремление соответствовать им. Единственная четкость и устойчивость, которую он проявляет, — это конформное следование за массовыми трендами. Индивидуальность и субъектность не учитываются, ибо они выступают врагами конформизма, который старается взрастить мода. А если нет этих необходимых для зрелой личности образований, здоровая личность тоже отсутствует.
Объекты потребления выступают показателем статусности и ценности человека в глазах других людей. Соответственно, чтобы заслужить уважение со стороны прослойки, представляемой потребителем как элитарная, нужно потреблять те же самые товары, что и она: аналогично одеваться, смотреть аналогичные фильмы, слушать аналогичную музыку, аналогично мыслить. Именно мода и реклама указывают на те предметы, которые стоит потреблять.
Если человек стремится получить призвание и уважение, он стремится уподобиться референтной группе. С таким же успехом он перестает обращать внимание на то, что ее вкус может ему и не нравиться, не удовлетворять эстетическую потребность, но удовлетворять потребности другого уровня. Ему могут не нравиться «элитарные» предпочтения — фильмы, музыка, но ради получения всеобщего признания он будет насильно приобщать себя к данной культуре. Он следует за вкусами, считаемыми им элитарными, которые из-за своей притягательной мощи приобщают к себе широкие массы и становятся массовыми. Они элитарны по материальной недоступности каждому, но массовы по желанию многих быть к ним приобщенным. Если ранее мода культивировала вполне сознательную ориентацию на большинство, свойственная потребительскому обществу мода сознательно ориентирует на меньшинство, на избранных, но глубинной основой остается теперь уже бессознательная ориентация на всеобщность.
На упадок культуры в наибольшей степени влияет «мнение гламура», выступающее с позиции сверху. Его воздействие ведет к смерти духовности у реципиента, а вместе с ней и творческих интенций, превращая его в безвольного конформиста. Конформизм — путь следования за модой, антоним свободы, стиля и вкуса. Человек, следующий за веяниями моды, не имеет свободы выбора: выбирает не он, а время, для которого характерна определенная «модная» тенденция. Массовый потребитель — это пассивный материал, которому внушается необходимость быть инаковой, свободной и оригинальной личностью, но который в реальности подвергается процедуре стандартизации и унификации. «Модный» человек в попытке достижения элитарности составляет массу с ее низменными потребностями и отсутствием вкуса. Сейчас стоит говорить о том, что феномен моды проявляется не в контексте этнической самоидентификации а в контексте «элитарной гламурной референтности. В социальном пространстве человек может заменить свое подлинное лицо маской, которая связывается им с истинным существованием.
Феномен моды имеет широкое распространение именно в обществе потребления. Модная потребительская культура –это бесконечная цепь товаров и услуг, постоянно предлагаемых массе. В этом и заключается изменчивость моды: чтобы обеспечить ее постоянный коммерческий успех, требуется периодически (с каждым годом, например) изменять характер «наиболее продаваемых» вещей. Но эти изменения не должны быть кардинальными, чтобы не выходить за рамки «вкусов» большинства, не совершать резкие «переломы» и «революции». Когда происходит унификация вкуса, следует говорить о безвкусии. А если эта унификация затрагивает большую массу людей, следует говорить о масштабной безвкусице. Конечно, для осуществления предлагаемых модных проектов себя необходимы немалые денежные средства, и далеко не каждый готов тратить огромные суммы на приобщение к моде. Но те, кто не позволяет себе этого в силу финансовой нехватки, необязательно вырываются из лона потребительства и модного безвкусия. Даже если человек не в состоянии позволить себе стать «продвинутым и модным», но хочет этого, он, естественно, все равно остается внутри модных тенденций. Так что расхождение в поведении многих людей объясняется не различиями вкусов, а различиями доходов.
Мода с ее стандартами — технология упрощения и вульгаризации восприятия реальности, а также создания новой реальности. Мода — индустрия производства образов, навязываемых человеку в пространстве потребительской культуры в виде некоей референтности. Однако человек с четкой внутренней позицией, со сформированной системой ценностей и вкусов не следует за модой; он находится над ней, по ту сторону.
Мысль о том, что мода насаждается целенаправленно, не всегда стоит воспринимать буквально. Нельзя сказать, что всегда и везде производители моды выступают именно ее производителями. Тенденции, которые в потенциальном смысле способны стать модными, во многих случаях возникают на улице, в лоне субкультур. А уже потом — после того как активные трендхантеры (охотники за трендами) замечают эти тенденции, они начинают прогнозировать, стоит ли подхватывать и раскручивать ту или иную тенденцию. И если прогноз представляется положительным, замеченное явление выводят целенаправленно на уровень популярности.
В обществе потребления огромное значение придается сексуальности, а потому тело человека должно напоминать никогда не стареющую куклу Барби. Жизненный опыт в виде морщин и складок тщательно скрывается, оставляя место девственной, доопытной чистоте. «Ведь если признать, что любая врожденная линия или метка на коже является отпечатком судьбы, а рубец или шрам — знаком переживаний, т. е. выживаний в борьбе с чем-то внешним, то идеалом современного тела представляется тело априорное, доопытное, не несущее на своей поверхности никакой запечатленной информации. Гладкость тела есть также знак избыточной жизни, растягивающей кожу изнутри — это эротическая гладкость, намекающая на потенциальную возможность производства новой жизни. Таким образом, благодаря гладкости тело homo consumensa наделяется двумя качествами: беспамятством (отсутствием опыта) и избытком жизни. Можно сказать, что независимо от пола и возраста данное тело есть тело половозрелого ребенка, застывшее в переходном возрасте. Сказать точнее, наделенное безупречной гладкостью, тело перестает быть переходом, перестает развиваться и как бы застывает в вечном очаровании собственным совершенством»107. Все та же статика. Телесная сексуальность формируется в процессе потребления специальных средств, не избавляющих от старости, не омолаживающих, а создающих видимость омоложения. Косметические, гигиенические и даже медицинские процедуры призваны скрыть следы телесного опыта и вернуть не само тело, а его видимую оболочку в архаичное состояние. Эту практику можно назвать проектированием, инжинирингом себя, представленного перед другими, а точнее — оболочки себя. Божественно совершенное тело, своим совершенством подчеркивающее статусность и престижность, есть гарант успеха. Ведь действительно встречают по одежке… Природное тело становится своего рода атавизмом, которое нельзя демонстрировать публично, а спроектированное тело, наоборот, представляется в виде фетиша.
Государственно санкционированный конформизм сейчас проявляется не так сильно, как в тоталитарных обществах, но на его смену пришел атомизированный, точечный конформизм, который стал проявлять себя в идентификации человека не с гегемоном (советским народом), а с каким-то сравнительно небольшим сообществом. И феномен моды, которая была попросту ненужной в обществе господствующего гиперконформизма, заменяет собой прошлые конформные тенденции; можно сказать, что мода сама по себе является гегемоном. Хотя исчезла общесоциальная идентификация, появилось множество групповых идентификаций. А распространенные тенденции по ухаживанию за своим телом и лицом (средства против морщин, пластическая хирургия и т. д.), выраженные в так называемом культе молодости, — суть не только проявления страха старения как такового и смерти, но и следования за модой. Этот культ пользуется успехом не потому, что в обществе на смену конформизму пришла личностная самоценность (этого не произошло), а скорее потому, что архетип молодости стал модным трендом, демонстрирующим престиж. Достаточно вспомнить куклу Барби и ее Кена, которые всегда до идеальности молодые. Достаточно посмотреть рекламные ролики, в которых фигурирует молодость.
Р. Барт писал о том, что мода как гомеостатическая система не передает какое-то объективное означаемое. Она вырабатывает значение, но это значение «никакое», симулякризованное; здесь главное — наличие процесса значения, а не конкретного означаемого. «В моде нет ничего, кроме того, что о ней говорится»108. По Барту, мода не приемлет содержания, но приемлет формы; собственно, это круговорот форм (годовой, вековой и т. д.). А круговорот, замкнутость не ведет ни к чему, кроме замыкания на самом себе. Что же касается форм и содержания, то бартовский формализм моды более чем оправдан: зачем «модному» человеку нужно содержание, если есть форма, если есть красивая обложка, манящая своей красочностью, внутри которой нет содержания? А оно и не нужно человеку, гонящемуся за модой, — ну и пусть бессодержательно, зато красиво. По существу, бессодержательность моды не несет в себе никакой информации, никакого сообщения. Единственное, что оно может означать, — это безвкусие. «Модная» масса не видит означаемого у того вихревого круговорота, которому она сама отдалась. Но этого следовало ожидать: как можно заметить означаемое, если не питать никакого интереса к содержанию? Как можно копнуть к чуть более глубокому уровню осмысленности и понимания, если познавательность не является ценностью? Мода, можно сказать, также проявление антикогниции. Видимо, именно демонстрация бессодержательности культовых предметов потребления выступала целью Э. Уорхола, который изображал в виде различных коллажей эти самые востребованные предметы (доллар, бигмак, бутылка кока-колы и т. д.). «Ничто всегда модно, — писал художник. — Всегда стильно. Ничто совершенно. Ничто — противоположность пустоты».
По Ницше, мода является отрицанием национальной, сословной и индивидуальной исключительности109. Современные тенденции моды, рекламы и потребительства в целом начались с перестройкой и продолжают оставаться ориентированными на западные образцы. Так, русский национальный костюм исчез в небытие, зато открылись модные бутики, торгующие одеждой, спроектированной в соответствии с западными стандартами, а по телевидению транслируют многочисленные передачи, посвященные новым пискам моды из Италии. Эта одежда сместила «русский стиль» своей диковинностью, эпатажностью, причудливостью комбинаций и символизмом западного образа жизни, который до сих пор представляется привлекательным и формирует желание у россиян идентифицировать себя с ним.
Хотя в России реклама продвигает в основном зарубежные товары, потребители эти товары часто воспринимают как свои. Само же лоббирование иностранных товаров (при условии наличия в России качественных аналогов) оказывает негативное влияние как на экономику, так и на культуру. С позиции экономики страна теряет рынки и уступает их инонациональным компаниям или транснациональным корпорациям. С позиций культуры «фактором внешней и внутренней культурной динамики российского общества становится инокультурный габитус, т. к., покупая какой-то модный продукт, человек получает “в довесок” соответствующий этому продукту образ мышления и стиль жизни»110. Образ мышления стоит понимать как культурно-географически (принадлежащий какой-то стране), так и собственно культурно, безотносительно к некоей географической общности, а в отношении того или иного культурного или субкультурного веяния. У культур есть своя география, которая отлична от межстрановых границ. Подражая одежде, питанию и прочему, мы как бы постигаем смысловые структуры чужого стиля жизни. Здесь наблюдается сближение культур, познание «другого», который перестает быть «другим», отчасти культурное обогащение, необходимое в эпоху глобализации и характерное для этой эпохи. Но зачастую это постижение происходит за счет отвращения от собственной культуры. Многочисленные заимствования из чужой культуры приводят к серьезным изменениям жизни человека в своей культуре и ее восприятия, к утрате различия между домашним и чуждым пространством, к утверждению одновременно ощущения бездомности и космополитизма, номадичности вместо оседлости, наконец, к потере национальной идентичности. Дискурсу рекламы необходима центрация на лоббировании национальных товаров и, соответственно, вымещение рекламы иностранных товаров с отечественного рынка. Вследствие этого бы возросли объемы реализации отечественного продукта внутри страны, укрепились позиции и активность отечественных производителей, развивались производственные технологии, денежные средства покупателей оставались бы в стране и работали на ее экономику. Таким образом был бы достигнут экономический рост. Более того, пусть в минимальной степени формировалось бы чувство патриотизма у реципиентов из-за усиления их интереса к отечественной продукции и стимуляции национально ориентированного покупательского поведения с одновременным исключением из медиадискурса рекламы иностранных товаров. Такой шаг стал бы минимальным, но очень позитивным элементом возможной стратегии умаления потребительского влияния рекламы путем придания ей более нравственной и правдивой основы и перевода ее из всего захваченного ею антропного бытия в специальные «места для рекламы».
Культурно-цивилизационный обмен необходим, тем более в условиях глобализации взаимопроникновение культур становится неизбежным, отходит назад жесткая идентификация с определенными культурными стандартами, и часто возникает состояние (бывает, весьма оправданное) неудовлетворенности какими-либо элементами своей культуры: музыка, кино, живопись и т. д. Только тотальное приобщение к иной культуре усиливает состояние неудовлетворенности своей, которое становится уже неоправданным, и национальная культура утрачивает доминирующую и интегрирующую роль. Обмен должен происходить именно как обмен, то есть на уровне компромисса или сотрудничества, а не на уровне односторонних уступок, приспособления или подавления, когда один субъект обмена распространяет себя за счет другого — подавленного им — субъекта.
Отход от культурной самобытности и традиционности
Проблематика «обогащения» российской культуры потребительскими тенденциями поддается анализу с позиций осмысления взаимосвязи культуры и цивилизации, традиционности и инновационности. В научной литературе нет единого мнения на взаимосвязь понятий «культура» и «цивилизация», да и у каждого из этих понятий находится множество толкований. Так, цивилизация рассматривается через: 1) географическое пространство, 2) специфику развития производственных сил и производительных отношений (классовый подход), 3) культурный тип общества, 4) доминирующую религию, 5) этнический фактор111. Одни авторы противопоставляют культуру цивилизации, наделяя культуру духовностью, а цивилизацию утилитаризмом. Другие отождествляют данные понятия, не замечая разницы между ними. Эти подходы, осмысливающие соотношение культуры и цивилизации, кажутся нам несколько ошибочными, так как:
Цивилизация — это форма общественного мироустройства, характеризующаяся достаточно высоким уровнем человеческих достижений. Но эти достижения действительно носят утилитарный характер, они могут быть далеки от эстетических (искусство) и этических (мораль) аспектов социальной жизни. К ним в первую очередь относятся достижения техники, изобретения, выполняющие прикладные функции и ориентированные в основном на технические и социально-экономические ценности. Противопоставление культуры и цивилизации приводит к мысли, что духовность противопоставляется варварству, ценное — ненужному, высокое — низкому. Но это неверно, так как цивилизация не является синонимом варварства, низости и ненужности, а обладает многими ценными достижениями, которыми варвары не обладали. Потому подобное разграничение понятий не совсем себя оправдывает.
Отождествление культуры и цивилизации, равно как и представление цивилизации в качестве высшего проявления культуры, также не совсем уместно, поскольку у них есть качественные различия. Культурные достижения удовлетворяют одни потребности человека (преимущественно высшие, этико-эстетические), а цивилизационные — другие. Технологический прогресс сам по себе не обеспечивает гуманизацию, а потому он выпадает из процесса окультуривания и борьбы с антикультурными тенденциями.
Мы склонны понимать под культурой форму и степень духовности, в которой выражены высшие достижения цивилизации. Культура — «прорастание трансцендентного в человеке сквозь грубую эмпирию его воплощения, а цивилизация — материализованные и сплошь утилитарные технологии и техники существования»112. Цивилизация — это материальный (вещный и предметный) базис культуры, характеризующийся своей полезностью, техницизмом, который культивирует ценности прежде всего не трансцендентного, а имманентного, не духовного, а бытового. Она не требует полноты духовного, прежде всего этического и эстетического, участия. У первобытного общества уже имелись образцы культуры, но образцов цивилизации не было. Напротив, некоторые современные общества, отличающиеся высотой развития техники и технологий, переживают упадок в области нравственного и прекрасного. Этические нормы и представления, учитывая их ментальный характер, следует относить к культуре, а материальные памятники (в том числе артефакты) как вещное воплощение культуры — скорее к цивилизации. То есть цивилизация — это материализованная культура или же материализованное бескультурье. Таким образом, мы прочерчиваем между двумя понятиями параллель, не отдавая предпочтения ни одной из них — ни Сцилле их противопоставления, ни Харибде их отождествления.
Обращая внимание на происходящие сейчас глобализационные процессы, можно с уверенностью заявить, что навязываемые в ходе глобализации ценности выхолащивают и уничтожают национальное наследие, а значит, и национальную культуру. То, что часто называют общечеловеческими ценностями, или ставится в противоречие с национальными ценностями какого-либо народа, приводя к замедлению его развития, или усредняет, редуцирует и унифицирует различные культуры. «Бренды глобальных компаний потребляются как символы причастности к передовому и прогрессивному, но при этом через них в повседневную жизнь разных регионов мира вторгаются чужие стандарты, вытесняются привычные нормы, разрушающие веками складывающиеся хозяйственные и бытовые уклады, образ жизни»113. Американские идеалы, ярко выраженные в культуре потребления, наносят сокрушительный удар по национальным культурам. Здесь имеет значение сущностное ядро потребительства, в соответствии с которым возводится в культ идеология индивидуализма, отрицающая взаимопомощь и выражаемая в принципе «Помоги себе сам», массовая кредитомания, низвержение духовности до уровня технических приобретений. Также не менее важна для научного осмысления методология расширения потребительства, которое предполагает убежденность в собственном превосходстве по сравнению с другими типами общественных укладов, а потому самолегитимирует насильственное навязывание Америкой этого типа «культуры» всему миру.
Исходя из антиинтеллектуализма, бездуховности и безнравственности потребительской культуры, признаем, что словом «культура» она именуется весьма условно. Более целесообразно связывать консьюмеризм именно с цивилизацией, а конкретно с цивилизацией высокого развития, но лишенной культуры. Следовательно, в некоторых аспектах развитие цивилизации идет вразрез с развитием национальной культуры; эти процессы могут быть не взаимодополняющими, а, наоборот, взаимоисключающими. Потребкульт выброшен из культуры и истории; как отмечает Г. С. Киселев, философски говорить об истории можно, когда имеется в первую очередь воспроизводство мира человека и накопление культуры, а затем — сложение и усложнение цивилизации114. Консьюмеризм — восстание цивилизации против культуры. Культура же призвана ограничивать цивилизацию, как мораль — ограничивать рациональность115. Цивилизация достраивает многообразие мира или, можно сказать, порождает все новые и новые миры, но культура ограничивает «дурное достраивание».
Несомненно, в эпоху научно-технической революции, обернувшейся стремительным развитием потребительских гаджетов, а также информационной (и псевдоинформационной) насыщенностью, происходит культурная трансформация, во многих аспектах оборачивающаяся деградацией. Цивилизация, основой которой стали гаджеты и информация, затмевает собой культуру. Посредством гиперинформатизации и стремительного роста технологий цивилизационные аспекты человеческого бытия приобретают довлеющий статус над культурными. Здесь мы видим актуальнейший парадокс современности: при прогрессе цивилизации произошел поворот к регрессу культуры.
Общество должно гармонично сочетать в себе культуру и цивилизацию, так как существование одного без другого не представляется возможным. Собственно, общественный прогресс — это культурно-цивилизационный прогресс. При усилении технизации общественной жизни не стоит забывать о ее гуманитаризации. Если же какие-либо крайне консервативные обычаи потеряли свою актуальность и выступают барьером для дальнейшего общественного развития, они, будучи одним из проявлений культуры, могут уже не обогащать общество духовностью, а отравлять его пылью старых догм. Когда цивилизация со свойственным ей утилитаризмом и механицизмом начинает преобладать над культурой, когда средства жизни господствуют над самой жизнью, ее смыслом и целью, когда духовность сменяется прагматикой и холодностью сердец, впору говорить о культурном кризисе. Кроме того, учитывая антиприродную основу цивилизации, следует заметить, что последняя, отдаляя человека от природы, ведет также к экологическому кризису. Вовсе не обязательно цивилизационное развитие приводит к разрушению культуры, но сейчас, в условиях глобализации и тотального распространения консьюмеризма, этот процесс имеет место. Культура призвана облагораживать цивилизацию, обогащать ее эстетическими и этическими ценностями. Но и цивилизационное развитие не должно вытеснять этику и духовность своим техницизмом и ориентацией на полезность. Самое лучшее для того или иного общества состояние — это еще культурное и уже цивилизованное. Причем «еще» здесь не означает прошлое, а «уже» — будущее, поэтому «еще» не призвано неумолимо и окончательно переходить в «уже».
Рассматривая соотношение культуры и цивилизации, невозможно обойти вниманием вопрос взаимосвязи традиционализма и прогрессивизма. Пусть современная культура, по большей части высокомерно относящаяся к проявлениям традиционализма и считающая его рудиментом, полностью не может от него дистанцироваться (дистанция подчеркивается сознательно, а бессознательный скреп продолжает существовать хотя бы в минимальной форме), одномерная глобалистская (и потребительская) культура, грядущая посткультура знаменует собой полный разрыв с национально-созидающим потенциалом традиционализма и, соответственно, национальным наследием, чего допустить, естественно, нельзя. Интересно то, что в инновационных обществах в моменты отмирания старых ценностей и пока еще неустойчивости новых возникает ностальгия по прошлому, но она не является всеобщей.
Жесткий традиционализм страдает обычно фундаменталистским диктатом, неприятием прогресса и отчасти иррационализмом, а крайне нигилистический в своем отказе от традиционности инновационализм — инфантилизмом и амнезией к мудрости предков. Например, кризис традиций приводит к расшатыванию семейных устоев, выраженных в увеличении количества разводов, числа неполных семей, распространении абортов, усилении ценности личной независимости в противовес таким ценностям, как долг, забота о родителях, ответственность за семью. Поэтому каждый из описываемых типов, представая в гиперболизированном облике, несовершенен в деле обеспечения культурной самодостаточности и глубины. Общество без традиций невозможно, так как оно перестанет быть обществом в культурно-историческом смысле; оно утратит чувство уважения к своей истории и культуре и, соответственно, способность к их сохранению. Согласно С. Г. Кара-Мурзе, традиции — это фонд, позволяющий следующему поколению сэкономить силы и средства для освоения новшеств и ответить на вызовы. Традиции позволяют передать следующему поколению весь массив знаний и техники, избавляя его от бесполезных опытов. Они представляют собой прочный тыл для дальнейшего общественного развития116. Благодаря традициям происходит отфильтровывание внешних влияний или их ассимилирование, «подгонка» под свои социально-культурные особенности. Традиции — это защитный пояс народа, сохраняющий его жизнеспособность.
Общество без прогрессивных инноваций также не представляется жизнеспособным, поскольку инновации как результат проявляемого творчества необходимы для дальнейшего общественного развития. Правда, инновации бывают разными, так как концентрационные лагеря фашистов, приведшие к обеднению значительной части населения реформы Гайдара, ювенальные технологии и многие другие продукты деятельности, ориентированной на новизну, следует считать инновациями, но явно не прогрессивными в социальном, экономическом и т. д. смыслах. Новое — не всегда ценное. Поэтому под инновациями необходимо понимать не просто нововведения, а необходимые нововведения, и необходимые не узкой категории лиц (олигархам, чиновникам и т. д.), а большинству населения. Перманентный инновационизм, выраженный в культе революционной непрерывности, крайне вреден, так как при нем новое служит не развитию культуры и социосистемы, а их полному отрицанию в пользу изобретаемого. Направленность на прогресс не должна ограничиваться самой собой. Ей необходимо иметь некую социально полезную метацель, сверхзадачу, по отношению к которой прогресс выступает средством, инструментом достижения. Правильна формула не «новое для себя», а «новое для общества». Любые новшества требуют по отношению к себе оценки с позиции перспектив, которые они способны дать человеку и обществу. Новое должно не уничтожать старое, а улучшать или дополнять его, ибо любое социокультурное развитие ограничено определенными рамками (жизненно необходимые традиции, специфика прочтения собственной истории, особенности отношения к себе, к миру, к различным видам деятельности и т. д.), при переходе за которые оно способно смениться своей противоположностью. Таким способом прокладывается путь к устойчивому развитию, не сопряженному с деструктивной тенденцией кардинального слома прошлой культуры и социосистемы, а предполагающему ее планомерное совершенствование. Утвердившийся консьюмеризм с характерным для него продуцированием техноноваций, большинство из которых не отличаются действительной полезностью, способен привести культуру к ее противоположности, к антикультуре. Наращиваемая потребкультом скорость возникновения и смены новаций мыслится как дурная бесконечность, хаос новизны. Поток гаджетоноваций, актуализируемый потребительской экономикой, близится к абсурду. Если большинство из них обладают сомнительной ценностью, то консьюмеристские идеалы, пришедшие на смену предыдущим идеалам, обладают антиполезностью, а потому их следует считать вредными культурными новациями. Движение цивилизации вперед способно привести к движению культуры назад, эволюция техники — к деэволюции человека, общества и естественной среды обитания. Наконец, необходимо движение не к прогрессу ради прогресса, не к сопряженному с культурным регрессом гаджетопроцветанию. Необходимо движение не вперед к прогрессу технологий, оборачивающемуся своими интеллектуальными, нравственными, экологическими и т. д. издержками, а движение вверх, к совершенствованию человека, общества и культуры. По меткому выражению В. А. Кутырева, если прогресс не остановить, а от смерти не уйти, незачем его толкать, а ее торопить117.
Консерватизм в своей радикальности означает стремление к удержанию мира в его косности, а радикализм новационизма предполагает разрушение идентичности мира. Культура и социосистема жизнеспособны и способны к развитию, когда они совмещают в себе обе противоположные тенденции, не скатываясь ни к одному из полюсов. Традиции и новации, как культура и цивилизация, призваны дополнять друг друга, ибо утрата первого приведет к потере культурного стабилизирующего ядра, а утрата второго — к потере способности социума двигаться вперед. Высказанная нами мысль в своем метафизическом содержании отсылает к диалектичности одновременного сосуществования устремленности в будущее и укорененности в прошлом. Общество призвано развиваться, а не стоять на месте, но процесс развития нельзя ни замораживать сверхконсервативностью, ни давать ему полную свободу безграничной инновационностью. Духовно прогрессивный консерватизм предпочтительнее духовно консервативного прогрессизма. Наиболее целесообразно назвать такой путь динамическим консерватизмом. Консервативное ядро должно позволять творчеству инноваций делать свое дело, но не заигрываться в углублении разрыва между старым и новым и тем самым в разбалансировке культурной конфигурации. Главное, чтобы новшества не стимулировали общественную амнезию к прошлому и высокомерное отношение к проявлениям традиционной свойскости (сущностности) данного общества, которая отличает его от других. Традиции, их знание и освоение — основа подлинных инноваций. Для существования народа и развития областей его жизнедеятельности нужна гармония устойчивости и подвижности, чтобы новшества не отменяли ценную традиционность, но и чтобы традиции не противостояли разумным требованиям современности, а, наоборот, становились условием позитивных сдвигов вперед, позволяя экономить силы для освоения новшеств и отвечать вызовам современности. Сохранение и развитие народа обеспечиваются балансом устойчивости и подвижности. Сохранение баланса традиций и новаций требует необходимости не их взаимоотрицания, а взаимодействия, проявляющегося в последовательности наслоения новшества на традиционный компонент. Однако стоит согласиться с А. П. Запесоцким в том, что современная культура строится не на фундаменте прежней, а в стороне от нее, из груды обломков культурных элементов, доказавших ранее свою несостоятельность118.
Двигаясь в будущее, необходимо с уважением оглядываться в прошлое и нести его с собой, ибо прошлое далеко не всегда становится рудиментом, достойным ампутации вследствие своей ненадобности. Наследие предков зачастую трансформируется в безвременность, обретая статус ценного прошлого в настоящем и будущем. Прошлое наследие жизненно необходимо обществу, так как его трансляция есть передача в социокультурном времени знаний и опыта. Без наследия прошлого общество теряет историю и обрекает себя на бесцельное и бездыханное скольжение во времени. Сохранность социокультурных констант, обеспечиваемая «плавным» динамически-консервативным развитием, ведет к социальному и экономическому прогрессу. Деструкция же социокультурных констант приводит экономику и общество в тяжелое состояние, состояние экономического спада, культурной «разбросанности» и разрушения культурно-исторической идентичности. Цивилизация в своем стремлении достичь высот лишает себя корней. Само мегаполисное пространство своей цивилизационной насыщенностью отрывает человека от природы, семьи и предков, национальных корней и традиций, ориентирует в русло потребкульта.
Но что следует считать «своими» традициями и как стоит относиться к заимствованиям? Русские философы долгое время твердят о каком-то особом пути развития России, об особом пути русского народа. Кто-то указывает на коллективизм русской психологии, хотя в реальности подтверждения идеи о взаимопомощи и любви к ближнему своему не находится. Народам Кавказа, например, где каждый считает каждого братом, не чужда общинность, сплоченность и вытекающая отсюда взаимопомощь, чего особенно не хватает русским; хотя мы, равнодушно относясь друг к другу, всегда помогали выжить и подняться цивилизационно и культурно тем этносам, которые когда-либо проживали на территории России. Кто-то пишет о свободомыслии русского, что явно не соотносится со многими годами, проведенными в условиях освобождения от свободы, в ситуации искусственной конформизации. Кто-то настаивает на православной сущности русского сознания, забывая о том, что христианская (и православная) апологетика родилась совсем не на территории Руси, а была насаждена русскому народу агрессивными методами, насиловавшими национальную душу. Кроме того, по замечанию А. В. Черняева, когда через семь столетий после христианизации на Руси впервые появилось профессиональное богословие, оно творилось и преподавалось на чужом как в национально-культурном, так и в конфессиональном отношении латинском языке119.
Помимо христианизации, в нашей истории было еще три глубоких переломных момента, в результате которых произошло кардинальное, а потому далеко не безобидное отрицание прошлого, нарушение исторической прерывности, культурно-цивилизационное переформатирование, демонтаж народа (термин С. Г. Кара-Мурзы), его культуры и экономики. Это Петровские реформы, революция 1917 года и перестройка.
В Петровских реформах была выражена искусственность и «ненашесть» создаваемых общественных структур. При разрушении прежних, традиционных структур бытия происходили социокультурные трансформации, основанные на некритичном заимствовании западных стандартов, что дошло чуть ли не до принятия французского языка национальным. Конечно, при условии отсутствия у русских своего языка возникла бы необходимость заимствовать чужой; но в силу наличия богатой русской словесности такая необходимость не проявляла себя. Как сказал А. И. Герцен, «сначала мы были у немца в учении, потом у француза в школе — пора брать диплом. А страшное было воспитание!»120 Теперь учимся у американцев и других представителей «цивилизованного» мира.
Сложившиеся основы народной жизни подверглись перекодированию. По меткому замечанию К. М. Кантора, Петр прорубил «окно в Европу», но оно стало и «окном в Россию», через которое хлынула в Россию чуждая ей западноевропейская социокультура121. Называвший европейничанье болезнью русской жизни Н. Я. Данилевский критиковал петровское бритье бород, надевание немецких кафтанов, заставление курить табак, учреждение попоек (в которых даже пороки и распутство должны были принимать немецкую форму), искажение языка и народного быта, введение в жизнь иностранного этикета, изменение летоисчисления, заимствование иностранных учреждений, рассматривание основ русской жизни через европейский (русофобский) взгляд и т. д. В результате на все русское наложилась печать низкого и подлого. Русский народ раскололся на два слоя: низший остался русским, высший сделался европейским до неотличимости. Высший имел и имеет притягательное влияние на низший, который стремится ему уподобиться. В понятии народа так же, как и в понятии элит, сложилось впечатление о русском как худшем и низшем. Такое унижение народного духа у некоторой части народа спровоцировало недоверчивость к той части общества, которая изменила русскости. «Объевропеившиеся» классы с их чужеземной наружностью представлялись некоторым как предатели, перешедшие во враждебный России лагерь. С тех пор русским свойственно прислушиваться к советам Европы, которую возвели в сан верховного судьи, решительницы достоинства наших поступков, нравственного двигателя наших действий. Для России стали характерны трусливый страх перед приговорами Европы и унизительно-тщеславное удовольствие от ее похвал122. Но, несмотря на зачастую вредные нововведения, личность Петра все-таки не поддается жесткой критике, поскольку Петр многое сделал для расширения Российской империи, усиления военной мощи России и ее геополитического значения.
В революционные годы происходила тотальная деконструкция царской формы жизнеустройства, прежний тип повседневности представлялся в качестве барьера для строительства желаемого социалистического мира, поэтому в каждом человеке будили чувство личного вклада в это строительство, а общество мобилизовывали для осуществления глобального проекта нового мира. Новая идеология и созданный на ее основе быт не находили преемственности со старыми формами жизнеустройства, почти не перенимали их опыт, так как изначально противопоставлялись им, отрицали дореволюционность.
Во время перестройки произошла делегитимация советского жизнеустройства в целом — экономики, системы управления, философии жизни и форм повседневности. Возникли новые — западноцентрированные — ценности, связанные с индивидуализацией, деколлективизацией, опорой на личные инициативы, нормализацией социально-экономического неравенства и т. д. Полки магазинов наполнились иностранными товарами; американские гамбургеры, хот-доги, «Кока-Кола», «Пепси», чипсы, попкорн, «Мальборо» и т. д. заполонили рынок, началась ориентация на западную моду в одежде. СССР исчез в небытие, а Россия превратилась в страну потребления — и не просто потребления, а потребления именно чуждых ей ценностей и продуктов. Чужие традиции питания, одежды и т. д., с одной стороны, привнесли в нашу культуру нечто новое, а с другой — обеспечили исчезновение национальных традиций и разрушение основ идентификации личности и народа со своей культурой.
Как справедливо заметил Г. Л. Тульчинский, пренебрежение культурным наследием оборачивается безоглядными заимствованиями в духе Петра, коммунистов и младореформаторов. В результате российские марксисты становятся самыми марксистскими марксистами в мире, либералы — самыми либеральными, масскульт — самым масскультным. Сегодняшнее российское общество из-за отсутствия традиционной культуры ценностно невнятно и дисперсно, до неприличия «плоско», оно самое массовое в мире, с правящей элитой, которой свойственно массовое сознание123. Под риторику и пафос о собственной уникальности Россия продолжает терять остатки уникальности и, принимая западные тренды, с еще большей глубиной погружается в потребкульт. Согласно справедливому мнению П. Я. Чаадаева, народы, как и отдельные личности, не могут прогрессировать и развиваться без глубокого чувства своей индивидуальности124. Как отметил М. Т. Степанянц, Н. С. Бердяев считал одной из негативных черт русского характера «чрезмерное самомнение», которое выражается в том, что Россия почитает себя единственной призванной и отвергает всю Европу как гниль и обреченное на гибель исчадие дьявола125. Побольше бы России сейчас таких негативных черт, хочется сказать!
Даже весь совокупный исторический опыт человечества не даст ни нам, ни любой другой национальной культуре готовый рецепт жизни в самом широком смысле этого слова. Поэтому некритичное заимствование (и необдуманная попытка кого-то догнать и перегнать) всегда деструктивно, особенно если оно происходит резко, революционно и перечеркивает ценности уже достигнутого, десакрализирует богатство прошлых времен. Любое заимствование требует осознанности, сознательного отношения к инокультурным явлениям и адаптации их к существующей культуре. Тупое копирование есть негласное признание полного неуважения к себе и смерти национального духа. Безрефлексивное перенимание чужих образцов разрушает культуру. Продукты иной культуры необходимо не бездумно интериоризировать, а усваивать, перекодировать так, чтобы они подходили своей культуре и не вступали в противоречие с ее сущностными элементами (аксиологический, этический, эстетический и т. д.). Для вхождения в другую культуру чужие смыслы должны стать чем-то иным, преобразиться в матрице базовых смыслов принимающей их культуры. Освоение чужих образцов требуется осуществлять на собственной культурной почве, как это было в Японии во времена принятия ею западной культуры126. Только тогда происходит обогащение культуры, которая усваивает чужой опыт и двигается вперед своим путем. Успешное заимствование обогащает культуру, повышает ее внутреннюю вариативность. Преемственность через разрыв, да еще и некритичность, едва ли несет в себе конструктивизм. Она превращает историю в дискретные куски событийности.
Либеральная ориентация на Запад противоречит усилению России, ее возрождению и облагораживанию российского общества во всех смыслах этого слова. Еще Н. Я. Данилевский в свое время заметил, что Россия не питалась соками европейского древнего мира, не составляла части западных империй, не связывалась с Западом феодально-аристократической сетью, не знала соответствующей формы религии, схоластики и западных идеалов искусства. Россия не принадлежит к Европе, а та не желает ее принимать и, вооружаясь русофобией, воспринимает российскость как нечто чуждое и враждебное127.
Современная Россия не тождественна России, так как она, территориально сохраняясь, культурно трансформируется на западный манер, хотя Запад сегодня с его консьюмеризмом переживает далеко не самые высококультурные времена. Перенимая чужую культуру, мы автоматически перенимаем чужую форму потребностей (в данном случае свойственных потребкульту), ибо именно культура выковывает тот или иной комплекс потребностей. Культура не должна быть полностью закрыта, ибо каждой культуре необходимо взаимодействие с другими. Но ей непозволительно быть и совершенно открытой.
Нет оснований для серьезного разговора о некоей постоянной субстанции как явления вечного и неизменного в душе народа, которая, давая отпор любым воздействиям, целостно преодолевает историческое время. Национальный характер в процессе времени меняется; сегодня одни качества выступают социально преобладающими, а завтра — другие. Ведь постсоветский человек во многом отличен от своего советского предшественника, равно как так называемый homo sovieticus отличается от человека царской эпохи. Может, именно поэтому — вследствие такой изменчивости — трудно дать исчерпывающий ответ на вопрос «Что такое национальный характер?», а потому и эмпирически подтвердить ту или иную концепцию «особого пути» русских. Культура претерпевает изменения в процессе жизни общества, его развития (или упадка), взаимодействия с другими общностями; вместе с тем культура не только поддается веянию этих процессов, но и направляет их в определенное русло. Неуместно вдаваться в эссенциализм и считать русскую культуру неизменной и уж тем более думать, будто она изначально принадлежит к западной культуре. Когда западники говорят, что русские «с самого начала» европейцы, хочется спросить: «А где это начало, откуда точка отсчета?»
Реальность же указывает на то, что наша страна встает не на «особый путь», а, наоборот, на «унифицирующий путь». Посредством глобализаторских и потребительских тенденций душа русского человека (и не только русского) в общесоциальном смысле теряет какой бы то ни было потенциал разнокачественных проявлений и упрощается. Может быть, именно из-за отсутствия силы и яркой выраженности национального характера, который мог бы выступать фильтром для инокультурных инъекций, наше общество позволяет себе без особой придирчивости принимать те ценности и нормы, которые ему ранее не были присущи.
У нас есть богатая история, богатый опыт, которым, к сожалению, мы плохо умеем пользоваться, дабы не наступить на те же грабли. Наша история не началась с революции 1917 года, после которой стоящие у власти казарменные социалисты принялись, строя новые социально необходимые культурные образцы, искажать историческую память, актуализируя амнезию на некоторые связанные с «проклятым царизмом» исторические события, или просто заведомо неверно их толковать. Наша история не началась с Крещения Руси, после которого христиане под видом борьбы с «бескультурным и диким» язычеством уничтожили многие доказательства существования богатой культуры дохристианской эпохи и выставили себя этакими просвещенцами. Ими были переиначены русские мифы, да и письменность, согласно некоторым историкам, появилась ранее Кирилла и Мефодия на земле русской.
Мы теряем волю для сохранения своих лучших национальных качеств. Ранее христианизация, затем петровская вестернизация, потом советизация обогащали российскую культуру и одновременно наносили удар по ее целостности. Теперь глобализация с ее культом потребительства вполне успешно унифицирует наследие, которым некогда были полны наши сундуки. Да и, к величайшему сожалению, практически во все эпохи целесообразность политически ангажированной мифологии ставилась выше научно-исторической истины: христиане решительно отрицали ценности и культуру языческого периода, Советы — христианской эпохи, а современность — советского периода. Зачастую это отрицание в силу своей гипертрофированности носило характер необъективной демонизации прошлого. Мы не пытаемся дать однозначно негативную оценку христианизации и советизации, а просто обращаем внимание на то, что они реализовывались методом революционного разрыва с устоявшимся культурным наследием, а значит, беспощадной ломки существующих традиций и норм; такой резкий разрыв негативно сказывается на состоянии национальной культуры и психологии. Однако следует отдать должное: хотя исторические события, о которых идет речь, знаменовали собой точки культурного разлома, наносящие удар общественному сознанию, вместе с тем каждое несло с собой более или менее социально центрированную идеологию. В отличие от них, происходящая сейчас культурная глобализация, являя собой такую же точку разлома, не обогащает культуру новыми стандартами, а, наоборот, упрощает ее, редуцирует до уровня потребительских инстинктов.
Недаром в последнее время участились разговоры о культурном империализме, в соответствии с которым новый тип культуры (потребительской) захватывает все больший ареал, рождая различные мифы, которые делегитимируют и десакрализируют достояния национальных культур. Русские на протяжении веков относились к труду и жизни в целом как к чему-то, над чем господствует сверхзадача общесоциального порядка, которая давала человеку не индивидуальный, а коллективный смысл. Когда-то сверхзадачей была формула «самодержавие, православие, народность», позже ей стало коммунистическое светлое будущее. В качестве сверхзадач можно воспринимать помощь славянским народам, создание Российской империи и т. д. Сейчас скрепляющей сверхзадачи нет, на ее место пришли разъединяющие индивидуалистические цели. Возможно, широкое развитие аддикций является следствием в том числе исчезновения сверхзадач, которые рождали в душе людей глобальный всечеловеческий смысл и направляли их поведение.
Цивилизация, в которой угасает культура, в которой на место культуры пришло потребление, которая находится под протекторатом мирового полицейского в лице США, учит нас жизни и диктует правила «хорошего тона».
То, что хорошо работает в одной системе, вовсе не обязательно будет так же эффективно работать в другой. Любое заимствование должно соответствовать традициям и ценностям общества, которые дают социуму обязательную возможность поддерживать связь с прошлым, ощущать его в качестве присутствующего сейчас. Проблема в том, что российский социальный код долгое время претерпевает путь если не разрушения, то трансформации, и сегодня трудно сказать с уверенностью, что он собой представляет. Проблема в том, что Россия заимствует совокупность вредных тенденций потребительства, которые нельзя и не нужно перерабатывать на свой национальный лад, ибо они в корне противоречат любой национальной инаковости. Они просто не нужны. России настоятельно необходим напряженный поиск своей идентичности, создание собственной системы смыслов и ориентиров для будущего.
Заключение
Автор, который пишет в обличительно-алармистском стиле, обычно встречается с обвинением в отходе от научности и в идеологизаторстве. Мы не воздерживались от дачи оценок, предпочтя сохранить за собой право на аксиологический приоритет авторских суждений. Читатель, увидевший в данном труде преобладание идеологизаторства над научностью, пусть задумается о том, что идеология и наука — вещи, конечно, не синонимичные, однако неразрывно друг с другом связанные. Идеология формируется на основе осмысления действительности, но и характер осмысления реальности может быть руководим уже существующими в душе ученого идеологическими ориентирами. Исследователь изначально принадлежит к той или иной духовной, интеллектуальной, мировоззренческой традиции и к определенной социальной группе с ее интересами. Он руководствуется как объективными знаниями, так и политическими, социо-экономическими, культурными, эстетическими и др. предпочтениями, которые зачастую формируются на основе имеющихся у него научных знаний. Так или иначе, знания переходят в идеологемы, а идеологемы — в знания, и идеологическая составляющая с неизбежностью присутствует в работах ученого. Поэтому четкое и однозначное отделение науки от идеологии невозможно. Соответственно, вполне нормальны превращения ученого-следопыта в следователя, преследователя и обвинителя.
Идеологии включают в себя смыслы, ценности и цели жизни и деятельности человека. Научные теории, содержащие в себе определенные знания о фактах действительности и закономерностях происходящих социально-культурных процессов, формулирующие выводы и дающие прогнозы, превращаются в фундамент для формирования идеологий. Но если теория противоречит реальности, она не является научной в строгом смысле слова, а основанная на ней идеология не будет иметь никакого значения или будет иметь вредное для общества значение. Поэтому наука дает и должна давать возможность для появления идеологий.
По нашему мнению, имеет смысл формирование новой научной области — философии потребления. Интерес философии к различным аспектам потребления ознаменует не только новую тематику для философии, но и принципиально новый поворот философской науки. Знания о различных тенденциях и аспектах консьюмеризма накапливались в рамках таких научных областей, как социальная философия, философия культуры, культурология, социология (прежде всего социология потребления), психология, экономика, экология, глобалистика. Сегодня возникла потребность в интеграции знаний о консьюмеризме и выстраивании междисциплинарной архитектоники потребления. Соответственно, междисциплинарность данной проблематики должна осмысливаться специальной научной отраслью, именуемой философией потребления. Задача истолкования консьюмеризма во всех его проявлениях, отношениях и последствиях еще остается открытой…
В данной монографии мы вывели на сцену основные пороки потребительской культуры. Консьюмеризм — это кризис не только культурный, но и многосистемный, затрагивающий и поражающий общественное сознание и различные стороны социальной жизни. Общество утрачивает способность осмыслить реальные риски происходящего и выработать достойный проект их преодоления. Эта неспособность связана с самим характером потребления, которое, создавая многочисленные риски в реальности, одновременно заглушает ощущение этих рисков и мыслительный процесс, направленный на их понимание. У кризиса потребительской культуры есть все шансы переродиться в «кризис бытия», охватывающий различные сферы жизни: нравственность, экономику, образование, труд, политическую активность, экологию и т. д. К кризису надлежит относиться как к болезни. Необходимо поставить правильный диагноз современности, подобрать соответствующие лекарства и оказывать лечебное воздействие, пока не достигнута точка невозврата, и болезнь не привела к смерти организма. Лечить необходимо осторожно, методично и целенаправленно, с привлечением разума, который притупляется самой болезнью потребительства. Свойственные потребительской культуре отрицающие болезнь анозогнозические настроения неуместны, поскольку они отвращают от осознания болезни, а значит, и от излечения от нее. Первые шаги в лечении этой болезни должно делать государство, которое призвано защищать общество от опасностей и рисков, а не превращаться самолично в одну из социальных опасностей.
Неоспорима глубина и широта социально-культурного кризиса, который создан консьюмеризмом, этой некоей новой формой опиума для народа. Поэтому проблема консьюмеризма является сегодня крайне серьезной, и степень ее серьезности неумолимо растет с усугублением кризисных тенденций, которые рождает культура потребления. Хотя потребкульт нельзя назвать повсеместным и получившим культурную монополию, он оказывает серьезное влияние на динамику общества, его культуры и психологии, и становление человека. «Куда летишь ты, птица-тройка?» — не просто шутливый вопрос, а применительно к вектору пути российского общества самый настоящий вопрос выживания. Ради перенимания у западной цивилизации потреб-культа мы оказались готовыми пожертвовать сложившимися ранее системами отношения к другим, к себе, к труду и образованию, этикой и нравственностью и даже природной средой. Вот только обмен явно не равноценен. Настоящие ценности, которые обеспечивают развитие человека и его качеств, эффективное решение социальных, политических, экологических, экономических и т. д. проблем, лежат в иной плоскости, чем ценности, предлагаемые потребительской культурой и выстроенной архитектоникой брендов.
Для противостояния человеческим порокам, выливающимся в пороки социальные, необходимо в научной и любой другой формах изобличать эти пороки. Возможно, данная монография внесет вклад в проект критического рассмотрения потребительской культуры, придаст ему большую определенность и обоснованность и повысит степень рефлексивности читателя в контексте осмысления проблемы «я — окружающая меня культура». Остается надеяться, что потребкульт — это всего лишь временная общественная болезнь, по истечении которой наступит выздоровление, и место модели потребительского будущего займет модель потребного будущего.
Список публикаций автора
Монографии:
Ильин А. Н. Субъект в массовой культуре современного общества потребления (на материале китч-культуры) : моногр. — Омск : Амфора, 2010. — 376 с.
Ильин А. Н. Культура, стремящаяся в никуда: критический анализ потребительских тенденций : моногр. / науч. ред. Д. М. Федяев. — Омск : Изд-во ОмГПУ, 2012. — 266 с.
Учебные пособия:
- Ильин А. Н., Барханов П. В. Психотехнологии регулирования конфликтов : учеб, пособие. — Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013.- 184 с.
Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК РФ:
Ильин А. Н. Массовая культура современной России как совокупность субкультур // Среднерус. вести, обществ, наук (Орел). — 2009. — № 1. — С. 21–26.
Ильин А. Н. Борьба идей в интерпретации явления массовой культуры // Ом. науч. вестн. — 2009. — № 1 (75). -С. 102–104.
Ильин А. Н. Проблема подлинности субъекта: между модерном и постмодерном // Ом. науч. вестн. — 2009. — № 2 (76). -С. 114–116.
Ильин А. Н. Иерархическая модель массовой культуры // Среднерус. вестн. обществ, наук (Орел). — 2009. — № 2 — С. 67–75.
Ильин А. Н. Проявление субъектности на различных уровнях массовой культуры // Вопр. культурологии. — 2009. — № 8. — С. 74–77.
Ильин А. Н. Проблема фиксации семантических различий между уровнями массовой культуры // Ом. науч. вестн. — 2009. — № 4 (79). — С. 110–112.
Ильин А. Н. Аскетизм и гедонизм массовой культуры // Психопедагогика в правоохранительных органах. — 2009. — № 4 (39). — С. 59–63.
Ильин А. Н. Бессубъектность массы как потребителя китч-культуры // Среднерус. вести, обществ, наук (Орел). — 2009. — № 4. — С. 21–31.
Ильин А. Н. Трехкомпонентная модель влияния массовой культуры на субъекта // Социология: 4М. — 2010. — № 30. — С. 27-А2.
Ильин А. Н. Функциональность и дисфункциональность массовой культуры // Вопр. культурологии. — 2010. — № 2. — С. 99–102.
Ильин А. Н. Массовая культура и субкультура: общее и особенное // Социс. — 2010. — № 2. — С. 69–75. — URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2010–2/Ilin.pdf (дата обращения: 12.07.2013).
Ильин А. Н. Фиктивность, знаковость и символизм культуры потребления // Вопр. культурологии. — 2010. — № 10. — С. 41 —47.
Ильин А. Н. Дискурс новостей и его мифотворчество // Социс. — 2010. — № 12. — С. 115–122. — URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2010–12/Ilin.pdf (дата обращения: 19.08.2013).
Ильин А. Н. Потребление и опасности, связанные с ним // Вопр. культурологии. — 2011. — № 4. — С. 86–91.
Ильин А. Н. Власть и знание: проблема взаимоотношения // Полигнозис. -2011,- № 2. — С. 71–81. — URL: http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=552 (дата обращения: 20.07.2013).
Ильин А. Н. Статус интеллектуала и интеллигента в условиях авторитаризма современной политики // Научн. вести. Урал. акад. гос. службы: политология, экономика, социология, право. — 2011. — № 2 (15). — С. 40–50. — URL: http://vestnik.uapa.ru/issue/2011/02/06 (дата обращения: 22.08.2013).
Ильин А. Н. Массовая культура и субкультуры современного общества: специфика соотношения // Общественные науки и современность. — 2011. — № 4. — С. 167–176.
Ильин А. Н. Культура потребления и образование // Вопр. культурологии. — 2011. — № 10. — С. 58–62.
Ильин А. Н. Толерантность в постмодернистском обществе: искажение смысла (полемические заметки) // Полигнозис. — 2011. — № 3–4. — С. 85–92. — URL: http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=570 (дата обращения: 10.09.2013).
Ильин А. Н. Статус интеллектуала и интеллигента в условиях авторитаризма современной политики // Мир и политика. — 2011. — № 11 (62). — URL: http://mir-politika.ru/themes/polit_modernizaciya/141-status-intellektuala-i-Intelligenta-v-usloviyah-avtoritarizma-sovremennoy-politiki.html (дата обращения: 11.09.2013).
Васильчук Е. О., Авилова О. Р., Ільін А. Н. Особливості формування доктринальных засад ідейного базису радянськоі панк-субкультури (на приклад) творчосп Е. Летова) // Вісник Национального технічного університету Украіни «Киівський політехнічний інститут»: політологія, соціологія, право. — 2011. — № 4 (12). — С. 32–36.
Ильин А. Н., Авилова Е. Р., Васильчук Е. О. Панк как форма противостояния потребительской и конформной цивилизации // Науч. вести. Урал. акад. гос. службы: политология, экономика, социология, право. — 2012. — № 1 (18). — С. 27–33. URL: http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2012/01/03 (дата обращения: 17.07.2013).
Ильин А. Н. Концепт безудержного потребления (структурный анализ) // Общественные науки и современность. — 2012. — №2.-С. 161–169.
Ильин А. Н. Чуждость потребительства для российской культуры // Вопр. культурологии. — 2012. — № 6. — С. 48–53.
Ильин А. Н. Трагичные плоды перестройки // Мир и политика. — 2012. — № 6 (69). — С. 125–135. — URL: http://mir-politika.ni/themes/polit_istoriya/374-tragichnye_plody_perestroyki.html (дата обращения: 11.06.2013).
Ильин А. Н. Интернет как альтернатива политически ангажированным СМИ // Полис. — 2012. — № 4. — С. 126–136.
Ильин А. Н. Истоки формирования культуры потребления // Науч. вести. Урал. акад. гос. службы: политология, экономика, социология, право. — 2012. — № 2. — С. 251–256. — URL: http://vesmik.uapa.ru/ru-ru/issue/2012/02/37 (дата обращения: 11.06.2013).
Ильин А. Н. Сфальсифицированная история одного конфликта // Социум и власть. — 2013 (40). — № 2. — С. 117–120.
Ильин А. Н. Антимодернизационные аспекты потребительского общества // Социс. — 2013. — № 5. — С. 121–127. -URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2013_5/Ilin.pdf (дата обращения: 16.09.2013).
Ильин А. Н. Роль Интернета в социуме с политически ангажированными СМИ // Мир и политика. — 2013. — № 3 (78). — С. 64–75.
Ильин А. Н. Потребление и его глобальные последствия // Философия и общество. — 2013. — Вып. № 2 (70). — С. 83–99.
Ильин А. Н. Влияние культуры потребления на экологию // Век глобализации. — 2013. — № 2. — С. 113–130.
Статьи, опубликованные в других журналах и сборниках:
Ильин А. Н. Субъектная позиция студента в контексте профессионализации в вузе // Проблемы социальной работы: теория и практика : материалы II заоч. Междунар. науч.-практ. конф. — Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. — С. 45–55.
Ильин А. Н. Субъект эпохи постмодернизма: соотношение философского и психологического взглядов // Вестн. Но-восиб. гос. ун-та. Сер. Психология. — 2008. — Т. 2, вып. 1. — С. 76–82.
Ильин А. Н. Субъектность внутри массовой культуры // Знание. Понимание. Умение : электрон, журн. -2008. -№ 4. Культурология. — URL: http://zpu-journal.ru/e-zpu/2008/4/ilyin (дата обращения: 17.08.2013).
Ильин А. Н. Характеристика субъект-субъектного взаимодействия в образовательном процессе // Проблемы качества подготовки специалистов в системе высшего педагогического образования : сб. науч. тр. преподавателей и аспирантов ОмГПУ / под общ. ред. И. П. Геращенко. — Омск : Изд-во ОмГПУ, 2008. — С. 171–182.
Ильин А. Н. Проблема понятийной репрезентации массовой культуры // Реальность. Человек. Культура: религия и культура : материалы Всерос. науч. конф. (Омск, 11 декабря 2008 г.). — Омск : Изд-во ОмГПУ, 2008. — С. 227–231.
Ильин А. Н., Барханов П. В. Формы понимания категории «субъект» в гуманитарных исследованиях // Гуманитарное знание. Сер. Преемственность : сб. науч. тр. Ежегодник. Вып. 11. — Омск : Изд-во ОмГПУ, 2008. — С. 145–147.
Ильин А. Н. Массовая культура и невротизм // Гуманитарное знание. Сер. Преемственность : сб. науч. тр. Ежегодник. Вып. 11. — Омск : Изд-во ОмГПУ, 2008. — С. 185–187.
Ильин А. Н. Проблема влияния средств массовой коммуникации на субъектные характеристики человека // Языки культуры: историко-культурный, философско-антропологический и лингвистический аспекты : материалы регион, науч.-практ. конф. с междунар. участием (6 февраля 2009 г.) / сост. О. П. Фесенко ; под ред. А. И. Барановского. — Омск : Изд-во АНО ВПО «Омский экономический институт», 2009. — С. 57–66.
Ильин А. Н. Место понятия «субъектная позиция» в структуре психологического знания // Сопровождение и социализация человека в меняющемся мире : материалы XI Междунар. студ. науч.-практ. конф. фак. психологии и педагогики ОмГПУ (21 апреля 2008 г.). — Омск : Изд-во ОмГПУ, 2009. — С. 109–113.
Ильин А. Н. Массовая культура и подходы к ее осмыслению // Студент и научно-технический прогресс : материалы XLVII Междунар. науч. студ. конф. Философия / Новосиб. гос. ун-т. — Новосибирск, 2009. — С. 106–108.
Ильин А. Н. Мода как тенденция массовой культуры и ее влияние на человеческую субъектность // Вести. Ом. ун-та. — 2009, — №2. — С. 21–29.
Ильин А. Н. Панк как явление китч-культуры // Знание. Понимание. Умение : электрон, журн. — 2009. — № 4. — Культурология. — URL: http://www.zpu-joumal.ru/e-zpu/2009/4/ilyin (дата обращения: 14.06.2013).
Ильин А. Н. Сущность категории «субъект» и ее атрибутивные характеристики // Технологии социальной работы: теория и практика реализации : материалы III заоч. Междунар. науч.-практ. конф. — Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. — С. 382–396.
Ильин А. Н., Барханов П. В. Категория «субъект» как предикат // Технологии социальной работы: теория и практика реализации : материалы III заоч. Междунар. науч.-практ. конф. -Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. — С. 396–407.
Ильин А. Н. Специфика мид-культуры и характер ее влияния на субъекта // Книга и мировая культура : сб. науч.-практ. тр. / отв. ред. В. И. Хомяков ; Н. В. Огурцова. — Омск : Вариант-Омск, 2009. — С. 93–97.
Ильин А. Н. Фиктивность и знаковость культуры потребления // Знание. Понимание. Умение : электрон, журн. — 2009. — № 4. Культурология. — URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/4/Ilyin_Consumer_Culture (дата обращения: 16.09.2013).
Ильин А. Н. Иерархический конструкт массовой культуры и характер его влияния на субъект // Вести. Новосиб. гос. ун-та. Сер. Психология. — 2009. — Т. 3, вып. 2. — С. 116–122.
Ильин А. Н. Массовый человек — его сущность и условия возникновения // Вести. Ом. ун-та. — 2009. — № 4. — С. 51–58.
Ильин А. Н. Проблема адаптации субъекта к массовой культуре // Знание. Понимание. Умение : электрон, журн. — 2010. — № 1. Культурология. — URL: http://www.zpu-joumal.ru/e-zpu/2010/4/Ilyin (дата обращения: 11.09.2013).
Ильин А. Н. Корпорация власти: критический анализ // Русский интеллектуальный клуб : электрон, информ. портал. — URL: http://rikmosgu.ru/publications/3559/4137 (дата обращения: 16.09.2013).
Ильин А. Н. Антропология субъекта // Знание. Понимание. Умение : электрон, журн. — 2010. — № 1. Философия. Политология. — URL: http://www.zpu-joumal.rU/e-zpu/2010/l/Ilyin (дата обращения: 11.09.2013).
Ильин А. Н. Китч — культура или антикультура? И Традиционные национально-культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России : сб. материалов Всерос. науч.-теорет. конф. / под ред. В. А. Жилиной. — Магнитогорск : ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. — С. 132–137.
Ильин А. Н. Широкое поле массмедиа китча // Déjà vu -энциклопедия культур. — URL: http://ec-dejavu.m/k/Kitsch-4.html (дата обращения: 12.09.2013).
Ильин А. Н. Субъект в пространстве философии постмодернизма // Знание. Понимание. Умение : электрон, журн. — 2010. — № 1. Философия. Политология. — URL: http://www.zpu-joumal.m/e-zpu/2010/l/Ilyin_Subject (дата обращения: 12.09.2013).
Ильин А. Н. Китч-культура, ее идеалы и псевдоидеалы // Интеллигенция и идеалы российского общества : сб. ст. / под общ. ред. Ж. Т. Тощенко. — М. : РГГУ, 2010. — С. 660–671.
Ильин А. Н. Предчувствие глобализации… // Русский интеллектуальный клуб : электрон, информ. портал. — URL: http://www.rikmosgu.ru/publications/3559/4310/#_ednref4 (дата обращения: 16.08.2013).
Ильин А. Н. Политическая ангажированность масс-медиа // Автономное действие. — URL: https: // avtonom.org/node/ 13083. — URL: https: // avtonom.org/node/1331 (дата обращения: 22.07.2013) .
Ильин А. Н. Амбивалентность влияния массовой культуры на субъекта // Книга и мировая культура : материалы V Меж-дунар. науч.-практ. конф. — Омск : Вариант-Омск, 2010. — С. 315–318.
Ильин А. Н. Политика и статус интеллектуала в современной России // Русский интеллектуальный клуб : электрон, информ. портал. — URL: http://www.rikmosgu.ru/publications/3559/4339 (дата обращения: 21.06.2013).
Ильин А. Н. Общий взгляд на социальную политику или на то, что так называют // Автономное действие. — URL: http://avtonom.org/node/13901 (дата обращения: 22.07.2013).
Ильин А. Н. Специфика влияния рекламы на субъективные качества человека // Вести. Новосиб. гос. ун-та. Сер. Психология. — 2010. — Т. 4, вып. 2. — С. 105–115.
Ильин А. Н. Экстремизм и политкорректность: извращенное понимание слов // Автономное действие. — URL: http://www.avtonom.org/node/14703 (дата обращения: 22.07.2013).
Ильин А. Н. Угодные массы и бесчестность политической системы // Объективная газета. — URL: http://www.og.com. ua/filosof.php (дата обращения: 26.08.2013).
Ильин А. Н. Экстремизм, политкорректность и толерантность — игра с двойными стандартами // Объективная газета. — URL: http://www.og.com.ua/filosof_l.php (дата обращения: 23.08.2013) .
Ильин А. Н. Эта власть держится на коррупции // Автономное действие. — URL: http://avtonom.org/node/15698 (дата обращения: 22.07.2013).
Ильин А. Н. В послушной стране должна быть послушная оппозиция // Объективная газета. — URL: http://www. og.com.ua/filosof_2.php (дата обращения: 21.08.2013).
Ильин А. Н. Негативная интервенция в психологическую науку (на примере книги С. Пеуновой «Все мы — только половинки») // Знание. Понимание. Умение : информ. гуманит. портал. — 2011. — №3. — URL: http://www.zpu-joumal.ru/e-zpu/2011/3/Ilyin_Negative_Intervention (дата обращения: 21.08.2013).
Ильин А. Н. Идеологическое мифотворчество современной власти // Антиглобализм. Сопротивление «новому мировому порядку». — URL: http://anti-glob.ru/nauka/ailin.htm (дата обращения: 21.08.2013).
Ильин А. Н. Власть и знание: проблема взаимоотношений // Национальные интересы. — 2011. — № 3 (73). — С. 44—52. — URL: http://www.ni-journal.ru/archive/2f64ca2c/n3_201 l/ffllflf21/152fe4c4 (дата обращения: 17.05.2013).
Ильин А. Н. Власть и знание: проблема взаимоотношения // Вести. Воронеж, гос. ун-та. Сер. Философия. — 2011. -№ 1 (5). — С. 22–36.
Ильин А. Н. Мифологичность новостей // Сиб. науч. журн. Сер. Гуманитарные и социально-экономические проблемы развития современного общества / под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. В. П. Плосконосовой. — Омск : СибАДИ, 2011. — № 2. — С. 26–30.
Ильин А. Н. Мифотворчество дискурса новостей как социальная реальность // Социология науки и технологий. — 2011. — Т. 2, №3, — С. 88–95.
Ильин А. Н. Культура потребления и образование // Ректор вуза. — 2011. — № 11. — С. 64–68.
Ильин А. Н. Погружение во мрак // Объективная газета. — URL: http://www.og.com.ua/filosof_3.php (дата обращения: 16.08.2013).
Ильин А. Н. Поддерживает ли партийный курс глобализацию? // Объективная газета. — URL: http://www.og.com.ua/filosof_4.php (дата обращения: 16.08.2013).
Ильин А. Н. Субъект, закованный в цепи — постмодернистская парадигма // Гуманитарное знание. Сер. Преемственность : сб. науч. тр. Ежегодник. Вып. 12. — Омск : Изд-во ОмГПУ, 2011. — С. 96–100.
Ильин А. Н. С больной головы на здоровую // Объективная газета. — URL: http://www.og.com.ua/filosof_5.php.
Ильин А. Н. Партия власти — инструмент глобализации? // Антиглобализм. Сопротивление «новому мировому порядку». — URL: http://anti-glob.ru/mnen/tanat.htm (дата обращения: 11.06.2013) .
Ильин А. Н. Конформно-потребительская направленность интеллектуалов // «Новая» и «старая» интеллигенция: общее и особенное / под общ. ред. Ж. Т. Тощенко ; ред.-сост. М. С. Цапко. — М. : РГГУ, 2012. — С. 281–289.
Ильин А. Н. Возможен ли конец истории по Ф. Фукуяме? // Знание. Понимание. Умение : информ.-гуманит. портал. — 2012. — № 3 (май — июнь). — URL: http://www.zpu-joumal. ru/e-zpu/2012/3/Ilyin_End-of-History-Fukuyama (дата обращения: 11.06.2013) .
Ильин А. Н. Сфальсифицированная история одного конфликта // Киевская Русь : информ.-аналит. альманах. — URL: http://www.kievrus.com/index.php?action=razdel&razdel=17&subrazdel=91&art_id=21&lang=rus (дата обращения: 11.08.2013).
Ильин A. H. Вступление в ВТО — экономическое закабаление, а не конкуренция // ВТО-ИНФОРМ. Аналит. центр. — URL: http://wto-Inform.ru/experts/aleksey_ilin_vstuplenie_v_vto_ ekonomicheskoe_zakabalenie_a_ne_konkurentsiya (дата обращения: 29.06.2013).
Ильин А. Н. Противодействие глобализации или всего лишь легитимация властной системы: в чем ошибается Н. Стариков // Объективная газета. — URL: http://www.og.com.ua/filosof_6.php (дата обращения: 29.06.2013).
Ильин А. Миф о свободной экономике // ВТО-ИНФОРМ. Аналит. центр. — URL: http://wto-Inform.ru/experts/aleksey_ilin_mifosvobodnoyekonomike (дата обращения: 16.06.2013).
Ильин А. Н. Проникновение культуры потребления в сферу образования // Знание. Понимание. Умение : информ.-гуманит. портал. — 2012. — № 5 (сент. — окт.). — URL: http://www.zpu-joumal.ru/e-zpu/2012/5/llyin_Penetration-of-Consumption-Culture (дата обращения: 07.08.2013).
Ильин А. Н. Модернизация: миф или реальность Ученые записки. Вып. 27. Междисциплинарные исследования социальной модернизации общества : материалы междунар. науч,-практ. конф. «Модернизация экономики и общества в России в XXI веке» (Москва, 16 февраля 2012 г.) / под науч. ред. B. В. Грачева — М. : НОУ ВПО «СФГА», 2012. — С. 23–26.
Ильин А. Н. Место для труда в психологии потребления // Вести. Сиб. ин-та бизнеса и информ. технологий. — 2012. -№ 3. — С. 81–84.
Ильин А. Н. От гиперинформационности к информационному потребительству // Знание. Понимание. Умение : информ.-гуманит. портал. — 2012. — № 6 (нояб. — дек.). — URL: http://www.zpu-joumal.ru/e-zpu/2012/6/IlyinJ/Hyperinformationality-information-Consumerism (дата обращения: 11.08.2013).
Ильин А. Н. Характер социализирующего воздействия психологии потребления // Социальная работа с молодежью: психологические и социально-педагогические аспекты : материалы Шестнадцатой Междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 16–17 апреля 20013 г.) / отв. ред. и сост. Ю. Е. Шабышева. — Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. — С. 145–150.
Ильин А. И. Система образования и потребительская культура // Совершенствование общенациональной и региональных систем оценки и контроля качества профессионального образования : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Тверь, 22–23 ноября 2013 г.) / под ред. М. В. Мурашко, А. В. Антоновского. — Тверь : ООО «СФК-офис», 2013. — C. 146–157.
☆☆☆
-
Мотовникова Е. Н. Социальность и язык: к методологическим стратегиям реинтеграции // Вопр. философии. 2012. № 8. С. 32—41. ↩
-
Гусева С. В. Консюмеристский дискурс как интеракционная модель социальной коммуникации (к определению понятия) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, № 5 (58). С. 313–320. ↩
-
Коростелина К. В., Тимохина Е. А, Попова И. В. Психологические проблемы изучения потребительского поведения (на примере рынка туристских услуг) // Журнал практического психолога. 1999. № 1. С. 68. ↩
-
См.: Ванн Д., Нэйлор Т., Де Грааф Д. Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру. Екатеринбург : Ультра. Культура, 2005; Кара–Мурза С. Г. Манипуляции продолжаются. Стратегия разрухи. М. : Алгоритм, 2011. (Политические тайны XXI века). ↩
-
Маслов В. И. Роль образования в современном мире // Век глобализации. 2013. № 2. С. 90. ↩
-
Тульчинский Г. Л. Культура в шопе // Нева. 2007. № 2. С. 128–149; Он же. Маркетизация гуманизма. Массовая культура как реализация проекта Просвещения: российские последствия // Antropolog.ru — электронный альманах о человеке. URL: http://www.antropolog.ru/doc/persons/tulchinskiy/toulch5 (дата обращения: 19.08.2013). ↩
-
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / пер. с фр., послесл. и примеч. Е. А. Самарской. М. : Культурная революция : Республика, 2006. ↩
-
Дебор Г. Общество спектакля / пер. с фр. С. Офертаса и М. Якубович. М. : Логос, 1999. ↩
-
См.: Клюшкина О. Воля к игре: исследование игроков казино // Логос. 2000. №4(25). С. 99–111. ↩
-
Сапожников Е. И. Общество потребления в странах Запада // Вопр. философии. 2007. № 10. С. 54. ↩
-
Терин В. «Массовая культура» и престижное потребление // Массовая культура» — иллюзии и действительность : сб. ст. М. : Искусство, 1975. С. 128. ↩
-
Бузгалин А. В., Колганов А. И. «Капитал» XXI века: симулякр как объект анализа критического марксизма // Вопр. философии. 2012. № 11. С. 31 –42. ↩
-
Зверева Е. А. Роль массмедиа в распространении консюмеризма как идеологии постмодерна // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, № 5 (58). С. 321–328. ↩
-
Летцев В. М. К уяснению основной проблематики философской психологии // Вопр. философии. 2012. № 5. С. 114–123. ↩
-
Бауман 3. Свобода / пер. с англ. Г. М. Дашевского ; предисл. Ю. А. Левады. М. : Новое изд–во, 2006. (Б–ка фонда «Либеральная миссия»). ↩
-
Бауман 3. Мыслить социологически : учеб, пособие / пер. с англ, под ред. А. Ф. Филиппова ; Ин–т «Открытое о–во». М. : Аспект–Пресс, 1996. (Открытая книга — открытое сознание — открытое о–во. Прогр. «Высш. образование»). ↩
-
См.: Иванов Д. В. Глэм–капитализм: общество потребления в XXI веке // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, № 5 (58). С. 9–28. ↩
-
См.: Бауман З. Мыслить социологически. ↩
-
Романенко В. В. Коммерциализация сексуальности в контексте общества потребления // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, № 5 (58). С. 278–286. ↩
-
Бискэ Г. Геологи Советского Союза: связь времен // Теоретический и общественно–политический журнал «Альтернативы». 2011. № 4. С. 113. ↩
-
См.: Ильин В. И. Креативный консюмеризм как тренд современного общества потребления // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, № 5 (58). С. 41–54. ↩
-
Сохакь И. В. Фастфуд как актуальная гастрономическая практика потребления // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, 5 (58). С. 260–269. ↩
-
Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости // Избр. произв. М. : Просвещение, 1993. С. 189–370. ↩
-
Кара–Мурза С. Г. Матрица «Россия». М. : Эксмо : Алгоритм, 2010. (Политический бестселлер). С. 224. ↩
-
Ортега–и–Гассет X. Восстание масс // Избр. тр. М. : Весь Мир, 2000. С. 43–163. ↩
-
Ашин Г. К., Мидлер А. П. В тисках духовного гнета (что популяризируют средства массовой информации США). М. : Мысль, 1986. С. 44. ↩
-
Трамп Д. Искусство заключать сделки. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. ↩
-
См.: Лысакова A. A. Contemporary art как предмет потребления в системе арт–рынка новейшего времени // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, № 5 (58). С. 230–240. ↩
-
Бодрийяр Ж. Общество потребления … С. 119. ↩
-
См.: Дмитриева А. В. Наркотики как фактор структурации в обществе потребления (на примере правового дискурса) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, № 5 (58). С. 338–346. ↩
-
Фуко М. Власть и стратегии // Фуко М. Интеллектуалы и власть : избр. полит. статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002. С. 303–318. ↩
-
Хоркхаймер М., Адорно Т. Культуриндустрия. Просвещение как об–ман масс // Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. М. : Медиум, 1997. С. 149–209. ↩
-
Цит. по: Именнова Л. С. «Старый» и «новый» директор музея: трансформация ролевых ожиданий на рубеже XX и XXI веков И «Новая» и «старая» интеллигенция: общее и особенное / под общ. ред. Ж. Т. Тощенко ; ред.–сост. М. С. Цапко. М : РГГУ, 2012. С. 197. ↩
-
Баранова А. В. Потребление как фактор социальной мобильности: возможности и ограничения // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, № 5 (58). С. 79–88. ↩
-
Ортега–и–Гассет X. Размышления о технике // Избр. тр. С. 164–232. ↩
-
Там же. С. 100–101. ↩
-
Ортега–и–Гассет X. Восстание масс. С. 43–163. ↩
-
Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. 3–е изд., стер. М.: КомКнига, 2006. ↩
-
Хайдеггер М. Бытие и время. СПб. : Наука, 2002. С. 236. ↩
-
О беспринципности и нравственной скудости «экономического человека» см., напр.: Малашхия Г. От человека экономического к человечному: критический взгляд на современную экономическую систему // Перспективы человека в глобализирующемся мире / под ред. В. В. Парцвания. СПб. : С.–Петерб. филос. о–во, 2003. С. 278–318; Фромм Э. Иметь или быть / пер., общ. ред., послесл. В. И. Добренького. М.: Прогресс, 1990. ↩
-
См., напр.: Андрияускас А. Кризис классики и поиски новой «неклассической метафизики» // Перспективы метафизики. Классическая и не–классическая метафизика на рубеже веков : материалы междунар. конф. СПб., 1997. С. 7–13; Маньковская Н. Б. «Париж со змеями» (введение в эстетику постмодернизма). М. : ИФ РАН, 1994; Рубцов А. В. Архитектоника постмодерна. Пространство // Вопр. философии. 2012. № 4. С. 34–44; Усовская Э. А. Постмодернизм. Минск : Тетрасистемс, 2006. ↩
-
Тульчинский Г. Л. Динамика рынка и стилистическая интеграция массовой литературы. Фэнтези и персонологический брендинг // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, № 5 (58). С. 365. ↩
-
См.: Быкова Д. Ю., Зотов В. В. Социокультурный подход к формированию молодежной политики инновационного общества // Вопр. культурологии. 2011. № 4. С.68–73; Тихонова Н. Е. Особенности «российских модернистов» и перспективы культурной динамики в России. Ст. 1 // Общественные науки и современность. 2012. № 2. С. 38–52; Хагуров T. А. Учащаяся молодежь в кризисном обществе // Социс. 2010. № Ц. С. 93–104. ↩
-
См.: Батаева Е. В. Фланерство и видеомания: модерные и постмодерные визуальные практики // Вопр. философии. 2012. № 11. С. 61–68. ↩
-
Ашин Г. К., Мидлер А. П. В тисках духовного гнета (что популяризируют средства массовой информации США). М.: Мысль, 1986. С. 9. ↩
-
Кара–Мурза С. Манипуляция сознанием. М. : Эксмо, 2009. (Политический бестселлер). ↩
-
См.: Ятина Л. И. , Калинина Т. С. Изображение стиля жизни молодежи в российском кинематографе: трансформация практик в обществе потребления // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, № 5 (58). С. 168–181. ↩
-
См.: Бурдье П. Рынок символической продукции : пер. с фр. // Вопр. социологии. 1994. № 5. С. 50–61. ↩
-
О провластности российских СМИ см.: Губин М. А. Информационная легитимация власти в современной России: состояние, тенденции и развитие : автореф. дис. … канд. полит, наук. — Тула, 2011; Губин М. А., Скиперских А. В. Легитимация и делегитимация региональных элит в России в контексте информационной безопасности: кластерный анализ // Среднерусский вестник общественных наук (Орел). 2009. №4. С. 154–160; Евдокимов В. А. Пресса — «бескрылый» посредник или окрыленный субъект? // Книга и мировая культура : сб. науч.–практ. тр. / отв. ред. : В. И. Хомяков ; Н. В. Огурцова. — Омск : Вариант–Омск, 2009. С. 82–88; Жегулев И., Романова Л. Операция «Единая Россия». М. : Эксмо, 2011; Ильин А. Н. Интернет как альтернатива политически ангажированным СМИ // Полис. 2012. № 4. С. 126–136; Скиперских А. В. Интеллектуал в современной российской провинции: искушения декабрьского протеста // «Новая» и «старая» интеллигенция … С. 322–329. ↩
-
См.: Пилецкий С. Г. Альтруизм: феномен с генетической родословной // Полигнозис. 2011. № 2. С. 88–99. ↩
-
Бауман 3. Мыслить социологически. ↩
-
См.: Иванов П. В. Потребление как агент легкой социальности в городском пространстве // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, № 5 (58). С. 142–147. ↩
-
См.: Голова А. Г. Факторы, влияющие на потребительское поведение личности в мегаполисе // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, № 5 (58). С. 304–312. ↩
-
Хайдеггер М. Указ. соч. ↩
-
Гурова О. Ю. Шопинг, одежда и типология потребителей в Санкт–Петербурге // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, 5(58). С. 129–141. ↩
-
Кара–Мурза С. Г. Угрозы России. Точка невозврата. М. : Эксмо : Алгоритм, 2012. (Политический бестселлер). ↩
-
Дебор Г. Указ. соч. ↩
-
Тульчинский Г. Л. Культура в шопе. С. 128–149; Он же. Маркетизация гуманизма … ↩
-
Линке П. Потерянное поколение в мастерской будущего // Альтернативы. 2012. № 1.С. 33–36. ↩
-
См.: Иванова В. Л., Шубкин В. Н. Массовая тревожность россиян как препятствие интеграции общества // Социс. 2005. № 2. С. 22–28. ↩
-
Бауман 3. Возвышение и упадок труда // Социс. 2004. № 5. С. 82. ↩
-
См.: Кара–Мурза С. Г. Манипуляции продолжаются … Он же. Утро–зы России … ↩
-
Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург : Изд–во Урал, ун–та, 2000. ↩
-
См.: Горшков М. К. Фобии, угрозы, страхи: социально–психологическое состояние российского общество // Социс. 2009. № 7. С. 26–32. ↩
-
Азимов А. Слова в науке. История происхождения научных терминов. М. : Центрполиграф, 2006. ↩
-
См.: Данилова Е. Н., Ядов В. А. Нестабильная социальная идентичность как норма современных обществ // Социс. 2004. № 10. С. 27–30; Иванова В. А., Шубкин В. Н. Указ. соч. С. 22–28; Кара–Мурза С. Г. Матрица «Россия»; Реутов Е. В, Колпина Л. В., Реутова М. Н., Бояринова И. В. Эффективность социальных сетей в региональном сообществе // Социс. 2011. № 1. С. 79–88. ↩
-
Петухов В. В. Новые поля социальной напряженности // Социс. 2004. № 3. С. 37–38. ↩
-
Проект «Россия». Кн. 2. Выбор пути. М. : Эксмо, 2008. ↩
-
Ленин В. И. Задачи союзов молодежи. Речь на III Всероссийском съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи 2 октября 1920 г. URL: http://www.razumei.ru/files/others/pdf/Lenmzadachisoyuzov_rnolodezhi.pdf (дата обращения: 11.08.2013). ↩
-
Турен А. Социология без общества // Социс. 2004. № 7. С. 6–11. ↩
-
Олейникова Ю. В. Патриотизм как категорический императив русской интеллигенции // «Новая» и «старая» интеллигенция … С. 233. ↩
-
Бородай Ю. Психоанализ и «массовое искусство» // «Массовая культура» — иллюзии и действительность : сб. ст. М. : Искусство, 1975. С. 146. ↩
-
См.: Понукалина О. В. Социокультурное пространство досуга российского общества в контексте консумеризма : автореф. дис. … д–ра социол. наук. Саратов, 2010; Она же. Труд и свободное время в дискурсе потребительских практик // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, №5(58). С. 210–218. ↩
-
Стариков Н. Сталин. Вспоминаем вместе. СПб. : Питер, 2012. ↩
-
«Солнце — спутник Земли», или Рейтинг научных заблуждений россиян // ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=I 11345 (дата обращения: 17.08.2013). ↩
-
См.: Черняков С. Ф. Современная школа: парадигма содержания образования /7 Альтернативы. 2012. № 4. С. 157 –174. ↩
-
Запесоцкий А. П. Философия образования и проблемы современных реформ // Вопр. философии. 2013. № 1. С. 24–34. ↩
-
Капица С. Россию превращают в страну дураков // Аргументы и факты. 2009. 9 сент. ↩
-
Более подробно см.: Ильин А. Н. Культура, стремящаяся в никуда: критический анализ потребительских тенденций : моногр. Омск : Изд–во ОмГПУ, 2012; Он же. Культура потребления и образование // Вопр. культурологии. 2011. № 10. С. 58–62; Он же. Проникновение культуры потребления в сферу образования // Знание. Понимание. Умение : портал. 2012. № 5 (сент. — окт.). URL: http://www.zpu–joumal.iu/e–zpu/2012/5/Ilyin_Penetration–of–Consumption–Culture (дата обращения: 16.09.2013). ↩
-
См.: Григорова Я. В. Новые формы отчуждения творческого труда в постиндустриальном обществе // Альтернативы. 2012. № 1. С. 162–168. ↩
-
Бодрийяр Ж. Система вещей / пер. с фр. и вступ. ст. С. Зенкина. М.: Рудомино, 1999. ↩
-
Ванн Д., Нэйлор Т., Де Грааф Д. Указ. соч. ↩
-
Кофтункин Д. Э. Развитие общества потребления в России: кредитный фактор // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, 5 (58). С. 99–107. ↩
-
Цит. по: Буров А. М. Образы постмодернизма // Полигнозис. 2011. № 2. С. 163. ↩
-
Овруцкнй А. В. Морфология антиконсюмеристских движений: источники, направления, практики // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, 5 (58). С. 89–98. ↩
-
См.: Яковлева А. Потребительский ретретизм: альтернативный стиль жизни в обществе потребления // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, № 5 (58). С. 192–201. ↩
-
Чинакова Л. И. Онтология потребностей : моногр. — Омск : Изд–во ОмГПУ, 2008. ↩
-
Шопенгауэр А. Указ. соч. С. 189 370. ↩
-
Чумаков А. Н. Глобалистика в системе современного научного знания // Вопр. философии. 2012. № 7. С. 3 16. ↩
-
Конвергенция биологических, информационных, нано– и когнитивных технологий: вызов философии (материалы круглого стола) // Вопр. философии. 2012. № 12. С. 3–23. ↩
-
См.: Ковальчук М. В., Нарайкин О. С., Яцишина Е. Б. Конвергенция наук и технологий — новый этап научно–технического развития // Вопр. философии. 2013. N° 3. С. 3–11. ↩
-
См.: Beck U. From Industrual Society to the Risk Society // Theory, Culture and Society. February 1992. V. 9, N 1. P. 97–123; Бек У. Что такое глобализация? / пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника ; общ. ред. и послесл. А. Филиппова. М.: Прогресс–Традиция, 2001; Бехманн Г., Горохов В. Г. Социально–философские и методологические проблемы обращения с технологическими рисками в современном обществе // Вопр. философии. 2012. № 7. С. 120–132. ↩
-
См.: Кара–Мурза С. Г. Матрица «Россия»; Он же. Угрозы России. Точка невозврата. ↩
-
Более подробно о экологической проблематике консьюмеризма и о соотношении экономики и экологии см.: Ильин А. Н. Культура, стремящаяся в никуда… ↩
-
Козловский В. В. Общество потребления и цивилизационный порядок современности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV, 5 (58). С. 59. ↩
-
Более подробно о моде и рекламе см.: Ильин А. Н. Мода как тенденция массовой культуры и ее влияние на человеческую субъектность // Вести. Ом. ун–та. 2009. № 2. С. 21–29; Он же. Специфика влияния рекламы на субъективные качества человека // Вести. Новосиб. гос. ун–та. Сер. Психология. 2010. Т. 4, вып. 2. С. 105–115; Он же. Субъект в массовой культуре современного общества потребления (на материале китч–культуры) : моногр. Омск : Амфора, 2010. ↩
-
См.: Запесоцкий Ю. А. Современная реклама как институт социально–культурной динамики // Вопр. философии. 2013. № 3. С. 33– 38. ↩
-
Бурганова Л. А., Савельева Ж. В. Медикализация: рекламные стратегии конструирования нормы и патологии // Социс. 2010. № 11. С. 144—147. ↩
-
Проект «Россия». Кн. 2. Выбор пути. ↩
-
Чалдини Р. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся. СПб. : Питер, 2010. ↩
-
См.: Тульчинский Г. Л. Динамика рынка и стилистическая интеграция массовой литературы … С. 364–372. ↩
-
Проект «Россия». Кн. 2. Выбор пути. ↩
-
Запесоцкий Ю. Л. Современная реклама как институт социально–культурной динамики. С. 33 –38. ↩
-
Конева А. В. Мода как иное // Российская массовая культура конца XX века : материалы круглого стола. 4 декабря 2001 г. СПб. : С.–Петерб. филос. о–во, 2001. С. 82 –87. ↩
-
Ортега–и–Гассет X. Адам в раю // Ортега–и–Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М. : Искусство, 1991. С. 59 82. ↩
-
Безнюк Д. К. Мода // Постмодернизм : энцикл. — Минск : Интерпрес–сервис ; Кн. Дом, 2001. С. 474. ↩
-
Трунев С. И., Палькова В. П. Homosoveticus и homoconsumens: подвиги производства и потребления (философиский анализ) // Вестн. Челяб. гос. ун–та. 2009. № 33 (171). С. 39. ↩
-
Барт Р. Литература сегодня // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М. : Издат. группа «Прогресс», «Универе», 1994. С. 234. ↩
-
Ницше Ф. Странник и его тень. М. : Азбука, 2012. ↩
-
Глухова Т. И. Потребление как фактор изменений в социальной жизни российского общества // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011.Т. XIV, №5 (58). С. 71. ↩
-
См.: Степанянц М. Т. Предисловие к словарю «Буддизм» // Вопр. философии. 2012. № 5. С. 134–142. ↩
-
Сохань И. В. Указ. соч. С. 263. ↩
-
Зарубина Н. Н. Повседневность в контексте социокультурных трансформаций российского общества // Общественные науки и современность. 2011. № 4. С. 61. ↩
-
Киселев Г. С. История и ее подобие // Вопр. философии. 2012. № 3. С. 48–58. ↩
-
А. С. Карпенко сформулировал так различие между понятиями «цивилизация» и «культура»: первое относится к действию принципа полноты, а второе — к его ограничению. См.: Карпенко А. С. Философский принцип полноты. Ч. II // Вопр. философии. 2013. № 7. С. 95–108. ↩
-
Кара–Мурза С. Г. Матрица «Россия»; Он же. Угрозы России. Точка невозврата. ↩
-
Кутырев В. А. Философия (для) людей // Вопр. философии. 2012. № 9. С. 86–96. ↩
-
Запесоцкий А. П. Философия образования и проблемы современных реформ. С. 24–34. ↩
-
Черняев Л. В. Русское богословие: в поисках собственной парадигмы // Вопр. философии. 2013. № 8. С. 129–138. ↩
-
Цит. по: Воейков М. А. И. Герцен — наш современник Альтернативы. 2012. №4. С. 26. ↩
-
Кантор К. М. Россия — бета–паттернальный ансамбль // Вопр. философии. 2012. № 12. С. 73–85. ↩
-
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М. : Книга, 1991. ↩
-
Тульчинский Г. Л. Культура в шопе. С. 128–149; Он же. Маркетизация гуманизма … ↩
-
См.: Козырев А. П. «Шаткость индивидуального»: персоналистическая лексика П. Я. Чаадаева // Вопр. философии. 2012. № 2. С. 40—48. ↩
-
См.: Степанянц М. Т. Культура как гарант российской безопасности // Вопр. философии. 2012. № 1. С. 3–13. ↩
-
См.: Скворцова Е. Л. Япония: кризис культурной идентичности при встрече с западной цивилизацией // Вопр. философии. 2012. № 7. С. 52–63. ↩
-
Данилевский Н. Я. Указ. соч. ↩
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.