Восток, Запад и русская идея

І.
У немцев есть хорошая поговорка: „Wer nichts ordentliches kann, macht Methodologie“, которую можно перевести приблизительно так: „кто не способен ни на что путное, тот занимается методологией“ и, переведя, пояснить поучительнейшими примерами из области, именующей себя наукою социологии! Однако, сознавая весь глубокий смысл приведенного сейчас изречения, автор считает в данном случае некоторые методологические соображения неизбежными. В самом деле, он собирается высказать ряд мыслей о Востоке, Западе и русской идее. Но о русской идее так много говорили и писали со времени первых славянофилов и Ф. И. Тютчева и до авторов „Смены Вех“, и писали столь противоречиво, что вполне законно сомнение в целесообразности подобной темы. Нет спору — препирательства о мировом призвании русского народа, о его вселенскости, смирении и исконном христианском чувстве весьма привлекательны, анализы и прогнозы более, чем соблазнительны. Но почему я должен верить поэтической интуиции Ал. Блока в его „Двенадцати“ (даже без комментариев Иванова-Разумника), а не Н. А. Бердяеву или Вячеславу Иванову? Почему должен предпочесть западничество славянофильству? Поэты и публицисты — народ безответственный, мотивов своей интуиции изменять не склонный. Может быть, все это лишь субъективные мечты, да „сонные мечтания“? И несогласуемость друг с другом разных анализов и прогнозов как будто подтверждает подобное предположение. Впрочем, и в случае согласуемости дело обстоит не лучше. Вот, например, один из авторов „Смены Вех“ г. Ключников оказывается согласным с П. Б. Струве и пишет: „После ужасов преступления… надо же хоть немного знать народ русский: он неспособен будет вынести ужасов собственного преступления“! А что если „народ русский“ обманет ожидания г. Ключникова и обнаружит в себе эту „способность“? Что если он даже и по считает преступлением того, что признает за таковое не совсем раскаявшийся интеллигент? Я не спорю но существу, но не могу признать силлогизм безупречным и, подобно пчеле, везде собирающей мед, воспроизвожу и памяти слова того же Ключникова: „Ах, поменьше бы мистики всякого рода и побольше здорового чувства действительности!“ — Согласен, но каюсь: так же, как и цитируемый автор, не могу равнодушно отнестись к „мистике“. Подобные проблемы меня волнуют, более того — в некоторых решениях мне чуется какое-то основание, какая-то правда. В том-то и беда, что все общие высказывания о русской идее, судьбах культуры и т. д. не только привлекательны, а и неизбежны, являясь самим существом жизненного идеала, и что, с другой стороны, они — в публицистике и, в значительной мере, в истории — лишены уловимой обоснованности.
Очевидно — без „методологии“ не обойтись, а ей ставится дерзостная задача: указать принципы анализа действительности, необходимые одинаково и в публицистике и в истории. В общих чертах это уже сделано мною в брошюре для начинающих историков1. К сожалению, начинающие историки в большинстве случаев мало мою брошюру понимают, а более почтенные или принадлежат к другому метафизическому направлению (преимущественно материалистически-позитивному, а частно — к риккертианству) или просто ее не читают, с опаской сторонясь от ошибочно почитаемого ими новизной. Во всяком случае, некоторые основные мысли здесь повторить и вояснить необходимо.
Развитие — а мало кто станет оспаривать основоположность этой категории для истории и обществоведения — чего бы то ни было, в данном же случае, нас занимающем, развитие культуры, народа, некоторой общественности и государственности необходимо должно быть понимаемо как раскрытие некоторого всепространственного и всевременного („все“ — разумеется, в пределах его времени и его пространства) субъекта. Субъект развития, не существуя в отдельности и особности от процесса развития, не будучи какой-то „субстанцией“ в смысле той души, об отдельном бытии или небытии, смертности или бессмертии которой доныне спорят метафизики старого толка, проявляется во всех моментах своей эволюции. Он их всевременное и всепространственное единство, все они и каждый из них. И если развитие не выдумка протежируемого комментатором Канта араба Als Ob, если оно не плод абсолютно чуждого действительности, а потому и не обладающего никакой познавательной ценностью построения нашего разума, а — известная реальность, из которой мы обязаны исходить, — реален, действительно существует и проявляемся в нем и не без него его субъект. Субъектом человеческой истории является человечество, которое я не побоюсь назвать звучным именем Адама Кадмона. Однако, человечество или Адам Кадмон представляет собою реальность не в отвлеченности своей, а только во всеединстве (во всяком случае — не без всеединства) своих индивидуализаций в субъектах низших порядков: в культурах, народах, классах, группах и т.д. вплоть до единственно эмпирически-конкретной индивидуальности — до индивидуума или единичного человека. Само собой разумеется, что всякий из помянутых мною сейчас „субъектов“ (не исключая даже индивидуума) должен быть понимаем так же, как и человечество, т. е. не в смысле отвлеченной сущности, а в смысле реального многоединства. Необходимость субъекта развития смутно улавливал даже „отец“ (вернее — один из отцов, ибо позитивизм в началах своих полиандричен) позитивизма Август Конт, хотя он и не додумал своей мысли до конца и затемнил ее частью спиритуалистической метафизикой, частью плоским эмпиризмом. И не вдаваясь в бесполезную полемику с людьми, у которых — если можно воспользоваться адекватным и аутентичным словесным выражением их идеи — не хватает физической силы мысли, я бы просил способного размышлять читателя найти хоть один пример историка, могущего обойтись без таких терминов и понятий, как „общество“, „народ“, „государство“, „класс“, „классовое самосознание“ и т.д. Пусть этот историк признает свои термины „метафорами“. — Попросите его, уважаемый читатель, обойтись без метафор и выяснить, что он под ними разумеет. Вы сейчас же увидите, в каком беспомощном положении он окажется.
Повторяю — субъект развития вовсе не отвлеченное понятие и не отвлеченная реальность в духе зло высмеиваемых и победоносно уничтожаемых „человека вообще“, „стола вообще“ и т. п. С подобным пониманием „идей“ легко придти в отчаяние от необходимости поместить в „умном мире“ не только софийного клопа, а и сосуд, стоящий ночью под кроватью. И еще Вильгельм Оккам глубокомысленно заметил: „Entia non sunt multiplicanda ultra necessitatem“. Субъекта развития нет где-то в пространстве и вообще вне самого процесса развития и вне всех моментов этого развития. Он от процесса развития не отрывен, в отдельности от него не существует, почему я называется не просто единым, а всеединым или многоединым. Он — актуальное многоединство, конкретное единство многого, хотя искусственно обособленный и оторванный от прочих момент его и улавливает его в отвлеченном понятии, мыслит его как систему и фактор. Субъект развития — все моменты его развития и вместе — каждый из них, все и всяческое; и притом всегда в каждом своем моменте потенциально он весь, целиком. Именно поэтому он и всевременен и всепространственен, что отнюдь не уничтожает реальности времени и пространства, как полагают люди, плохо понявшие выработанное еще древней философией понятие всеединства, но, наоборот, определяет степень их реальности, как некоторую ущербленность истинной и полной.
Нас ближайшим образом занимает субъект русской культуры, в частности русской государственности. Его я называю русским народом, не придавая этому термину никакого определенного этиологического смысла. Русский народ многоединство (или, если угодно, многоединый субъект) частью существующих, частью исчезнувших, частью на наших глазах определяющихся или ожидающих самоопределения в будущем народностей, соподчиненных — пока что — великороссийской. Мы сможем всецело его понять только во всех его проявлениях: тогда, когда он, завершив путь своего развития, всецело актуализуется в бытии, а, значит, и в нашем познании. В каждом отдельном „моменте“ своем он актуально не весь: в одном он актуализуется больше, в другом — меньше, хотя в каждом качественно по иному и единственно, неповторимо. Однако, в каждом из своих моментов он весь, целиком, потенциально, потому что „момент“ не иное что, как индивидуализация субъекта. Мало того — не актуализуясь всецело, момент поддается наибольшей актуализации именно в качестве познаваемого, чем и объясняется своеобразное положение исследователя. — Изучающему данный момент развития предлежит нечто неповторимое, единственное, хотя и актуализованное далеко не полно: в разных случаях — в разной степени. С другой стороны, в том же моменте развития исследователю потенциально дан, а для познания его задан особый аспект (индивидуализация) всего развития или всего развивающегося субъекта. Поэтому во всяком познаваемом моменте есть своя внутренняя диалектика, необходимая, органическая, вполне реальная, а не привносима в него извне нашею мыслью. Раскрывая эту диалектику или (что то же самое) отражая, актуализуя в познавании истинное бытие в его действительности и возможности, мы раскрываем само многоединство (для эмпирии заданное, в ином плане бытия — данное) и все прочие его моменты, хотя и в индивидуализации данного. Так же, как палеонтолог — позволим себе некоторую приподнятость речи — по одной челюсти восстановляет весь костяк неведомого ему животного, историк но одному акту субъекта развития, по одному проявлению „народного духа“ может восстановить все строение этого „духа“, угадать иные его проявления и возможности (навсегда остающиеся лишь возможностями) иных проявлений, в чем он сойдется с художником. Подобное познавание принято называть „интуицией“, „дивинацией“ и т. п., вменяя его в особую заслугу историку, хотя без него и нельзя быть настоящим историком. Оно, несомненно, родственно художественному „построению“, но не представляет ничего необычного и „мистического“. В конце концов, так же мы познаем личность и характер человека, иногда целостно воспринимаемые по одной какой-нибудь, незначительной по-видимому, черточке.
Диалектика — необходимый и основной метод познания в изучении развития, шире — в изучении взятой, как целое, действительности. Но, конечно, диалектический метод не следует схематизировать, топорно укладывать в Прокрустово ложе схем. Он вовсе не сводится к установлению тезиса — антитезиса — синтезиса, тем более — к обеспложению этого, до известной степени справедливого, Гегелевского, закона путем атомизации действительности, т.-е. путем разложения ее на обособленные сущности и установления между ними мнимой причинной связи. Я согласен, что по опытам электрофикации можно судить о состоянии народного хозяйства, даже об идеологии и религиозном мировоззрении. Во многих случаях подход к историческому процессу от материальной его стороны оказывается, может быть, более удобным, а для умов элементарных несомненно — более легким. Но я оставляю за собой право и по идеологии судить о состоянии народного хозяйства, взаимоотношениях труда и капитала и т. д., в то же самое время категорически отвергая за какой бы то ни было из условно выделяемых нами сторон народной жизни (в том числе и за идеологией) право на примат или первородство. Предоставим „метафизикам“ спор о том, что раньше: яйцо или курица. Подойти к процессу можно только с одной стороны; но условно и по соображениям удобства избираемая сторона отнюдь не причина остальных, а предпочтительное методологически вовсе не первее онтологически.
Всякая диалектика, на первый взгляд, отпугивает видимою или кажущеюся необоснованностью своих выводов, иногда отталкивает высокомерным препарированием действительности. Нередко она может привести и приводит в совершенно неубедительным фантазмам и заблуждениям или повергает в отчаяний, подобное тому, с которого мы начали и которое обусловило все приведенные соображения. К счастью, у нас есть довольно надежные способы поверки получаемого путем диалектики, позволяющие даже не обращаться к жестоким урокам действительности. Раскрываемое нами в данном моменте, как потенция всеединого субъекта, может быть раскрыто и в большинстве прочих моментов, если не во всех их. А это уже придает некоторую обоснованность первому нашему диалектическому выводу, позволяет его уточнить и, если нужно, исправить и дополнить. И несомненно, что, изучая другие моменты, мы усмотрим в них актуализованным многое из усмотренного нами в первом, как потенциальное. Наша диалектика приобретет тогда еще большую убедительность и обоснованность. И если можно еще спорить о каких-нибудь деталях, основные черты развития устанавливаются с достаточною достоверностью. Ведь они в качестве основных не могли остаться чисто потенциальными, но должны были выразиться отчетливо и ярко, актуализоваться в людях выдающихся, в движениях сильных и захватывающих широкие круги. Высказывая эти мысли, я защищаю не только определенную, признаваемую мною единственно правильною в существе своем теорию истории, но и всю свою предшествующую историческую работу (думаю, что и работу историков вообще). Посему, без всякой гордости, но и без ложной скромности я отсылаю читателя за иллюстрациями к моим историческим трудам, особенно — к „Культуре Средних Веков“ и печатающемуся „Джордано Бруно“. Если же мое предложение покажется кому-нибудь неприемлемым, пусть обратится к Тэну, к Фюстель де-Куланжу (особенно — „Гражданская община античного мира“) и, наконец, к последней и нашумевшей книге — к О. Spengler, „Untergang des Abendlandes“. Я вовсе не считаю эту книгу философски значительною и ценною по общим ее выводам. Но Шпенглер, никудышный философ (к тому же не без мании величия), — один из талантливейших историков. Его блестящие и парадоксальные сопоставления превосходно выясняют суть истории, подводят к пониманию ее природы. Книга Шпенглера должна стать настольною для начинающего историка, хотя многим, конечно, принесет больше вреда, чем пользы. Не даром и теперь главною темой ее считают ответ на вопрос: гибнет или не гибнет Запад.
Рассуждая a priori, нет никакой необходимости знать всю историю (это и невозможно), всю жизнь изучаемого народа, и не такая уже беда, что мы целиком ее не знаем и знать не в состоянии. Если бы подобная необходимость существовала, не стоило бы заниматься историей, особенно историей нового времени с его бесчисленными архивами и газетами на всех языках, даже не существующих. Тогда бы в пантеоне исторической науки на почетнейшие места следовало поставить халифа Омара, но преданию уничтожившего (утверждают, впрочем, что его оклеветали) александрийскую библиотеку, изобретателей древесной бумаги (за многое я им очень признателен) и пожирающих старые документы крыс. Однако, я не хочу отрицать значение обширных знании и продолжаю с уважением относиться к буржуазной науке. Чем больше мы знаем историю изучаемого народа, тем более возвышаемся над гаданиями, тем лучше оцениваем относительное значение возможностей данного момента, тем полнее, глубже, конкретнее их познаем. Так мы превозмогаем суррогаты знания: осторожные, но безсильные предположения узкого специалиста, возомнившего себя историком, и безответственные пророчествования о будущем, более приличествующие подлинному ясновидцу. Пророчествования о будущем (в том числе и даже главным образом „научные“) следует рассматривать именно как суррогат знания, который получается от произвольного, а иногда и недобросовестного проецирования в будущее вскрываемых в настоящем потенций. Для познания и характеристики народного духа, национальной идеи и т. п. лучше и осторожнее не строить утопий, построенные же понимать сейчас указанным образом. Едва ли научно гадать о будущем, которого можно желать и к которому должно стремиться, но которое все равно неизвестно. Предпочтительнее не подражать недоучкам, скромно ограничить себя настоящим и прошлым. Здесь почва наша надежнее. К тому же, ограничивая себя прошлым и настоящим, мы научимся понимать и уяснять их, а не пренебрежительно на них фыркать во имя зловредной, обесценивающей их и совершенно несостоятельной идеи прогресса. Не будем забывать — всякий момент развития обладает единственною, неповторимою ценностью: только в нем актуализуется эта качественность многоединства.
Будем говорить совершенно конкретно. — Ожидает или не ожидает нас, русских, великое будущее (я-то, в противность компетентному мнению русского писателя А. М. Пешкова, полагаю, что да и что надо его созидать), русский народ велик не тем, что он еще совершит и о чем мы ничего знать не можем, а тем, что он уже сделал, тем, что уже актуализовал и актуализует в себе: своею вековой государственностью, своею духовною культурою, церковью, наукой, искусством, для признания которого, право, незачем ездить в Париж. Большинство писавших о русском национальном характере и русской идее, с моей точки зрения, допускали весьма существенную ошибку. Усмотрев те или иные черты русского народа, они диалектически раскрывали их, мысленно усовершали и затем переносили, как идеал, в чаемое будущее. При таких условиях пророчествование становилось неизбежным. Но если оно понятно и оправдано у художника, например, у Достоевского, оно не может быть оправданным у публициста и философа. Последний-то уже во всяком случае должен отдавать себе отчет в том, что пользуется мифологическим способом изложения. Правда, мифом не пренебрегал и Платон, по Платон умел отличать научный вывод от мифотворчества, хотя бы и неизбежного. Один пример. — Достоевский очень ярко и увлекательно изображает нам будущее человечества (по крайней мере — европейского) под православным водительством ставшей во главе славянства России. Он выясняет те религиозно-нравственные начала, которыми будет руководствоваться русский народ в отличие от народов романских и германских. Может быть и нельзя было показать с достаточной яркостью и полнотой безусловное значение православно-русского смирения, русской перевоплощаемости и жертвенности иначе, как путем построения некоторого идеального состояния. Но несомненно, что Достоевский (правильно или нет — для нас сейчас безразлично) усмотрел эти свойства в нашем прошлом и настоящем. Он сумел подняться над их потенциальностью, диалектически развернуть ее, сумел осмыслить их цель — известный религиозно-общественный идеал. Но отсюда еще не следует, что идеал осуществится, перейдет из потенциальности в действительность. Возможно, что предельная его актуализация — идеология Достоевского. Возможно, что актуализироваться ему помешают какие-нибудь иные русские свойства, например — косность, лень, утрата религиозной веры, или, как думал Вл. Соловьев, желтая опасность, т.-е. иные потенции мировой истории.
Предвижу два возражения. — Во-первых, мне скажут, что наука (уж не социология ли?) может предсказывать будущие этапы развития, как предсказывает солнечное затмение. С подобною, свойственною малообразованным, людям верою в науку бороться бесполезно, и я считаю невместным для XX века опровергать фетишизм. — Во-вторых, интеллигентские камни возопиют против обесценения всякой деятельности. Так как из камней могут быть созданы дети Авраамовы, отвечу им в немногих словах. — Меня здесь не должен занимать вопрос о том: каковы идеалы и цели общественной деятельности, хотя про „общественный идеал“ и можно писать с большею краткостью и вразумительностью, чем проф. Новгородцев. Если интеллигентский общественный идеал оказывается наивною верою, тем хуже для этого идеала. Но главное в том, что я вовсе не отрицаю возможности осуществить лучшее будущее и нравственной необходимости его осуществлять. Я только утверждаю: оно осуществимо лишь чрез настоящее и в настоящем, осуществимо лишь предельным напряжением сил в решении непосредственно предстоящих задач. Оно может быть, если мы его захотим не только словесно, но и действенно.
Итак, к пониманию „русской идеи“ можно подходить от любого момента русской действительности, диалектически раскрывая его и проверяя выводы на изучении других моментов, но главным образом — моментов несомненного, значения. И только в последнем случае удастся сделать свои выводы надежными и убедительными. Разумеется, в истории нашей нетрудно найти много этих моментов, сосредоточиваясь, например, на таких явлениях, как рост государственности, литература, искусство. Думаю, что по сие время нельзя считать второстепенным моментом, а, следовательно, и по показательным, не богатым потенциями, русскую религиозность, в которую включается и русский воинствующий атеизм. Во всяком случае, из религиозности исходить столь же законно, как и из чего-либо другого. И это делает мою позицию методологически оправданною, а законные выводы мои приемлемыми даже для читателей самого атеистического образа мыслей, каковые, впрочем, наименее, для меня занимательны. Но есть и другие основания, вынуждающие взять за исходный момент именно религиозность.
Задача наша — хотя бы несколько уяснить русскую идею в ее отношении к Западу и Востоку. Очевидно, нам необходимо взять за исходное то, что наилучше нам известно и в России, и на Западе, и на Востоке. Но если мы обратимся к истории Востока, мы без труда убедимся, что она нам почти неизвестна, за исключением двух ее сторон — религии и искусства. Истории Востока у нас нет. Востоком занимаются до сих пор преимущественно филологи, у которых есть свои специальные интересы и задачи, очень важные и увлекательные, но которые просто-напросто не знают и не понимают, что такое история. До последнего времени к Востоку подходили статически, этнографически; восточные народы не включались в число исторических. И, конечно, нельзя считать историей Китая путанное перечисление царствовавших в нем династий и государей. Несомненно, у ориенталистов в разпоряжении очень богатый материал, но они частью не умеют, а частью не хотят подходить к нему исторически. Если же за историю Востока берется историк, он, не обладая нужными знаниями, не в силах проникнуть в природу вещей и чаще всего подходит к своей задаче со схемами западной истории, с достойным лучшего применения усердием начинает разсуждать о японском феодализме, кантианстве в индийской философии и т. п. Для человека, не знающего восточных языков, историческое развитие Востока в целом (я не говорю о частностях — о Древнем Востоке, об истории того либо иного отдельного государства или народа) раскрывается только в искусстве и религии. Здесь всякому доступен обширный материал и здесь фактически больше всего сделано. Почему же религия, а не искусство? — Во-первых, восточное искусство в значительной мере религиозно. А, во-вторых, религия является наиболее значительной областью жизни. Так или иначе, но в религии дано отношение человека к абсолютному, что и выражается в тесной связанности с ней всей жизни. Религиозность и практически и по существу — наиболее богатый и удобный исходный момент.
ІІ.
Средиземноморский бассейн, Западная Европа и Россия представляют сердцевину христианского культурного мира. Разумеется, с одной стороны, христианство — главным образом через Малую Азию и Азиатскую Россию — уводит нас на Восток, с другой — восточная часть средиземноморского бассейна была в предшествующие эпохи в эллинстве, малоазиатских государствах и Египте одним из наиболее ярких выражений культуры нехристианской и восточной, как она же стала, уже в христианскую эру, местом расцвета мусульманской культуры. Да и само христианство явило себя на самой грани Запада с Востоком. Точные географические границы здесь невозможны и не нужны. Но, в общем, ныне всё лежащее за пределами русско-европейского мира относится к периферии христианства! И не следует забывать, что христианство не что иное, как своеобразный „синтез“ эллинизма, иудейства и восточных религий с религиозностью Запада (я придаю здесь термину „синтез“ несколько специфическое значение, указывающее не на происхождение, а только на содержание). В своем непреходимо-цепном язычество Греции, Рима, Азии и варварского Запада, переживает себя и завершает себя в христианстве, которое делает органическим целым объемлемый его идеею мир. Таким образом мы получаем две культуры: христианскую и нехристианскую („восточную“), границы которых приблизительно совпадают с неопределенными границами, разъединяющими в нашем смутном представлении Запад и Восток. Но наше деление обладает весьма важным преимуществом отчетливости, которою, к сожалению, не отличается обычное. По нашей терминологии, Восток это — земли ислама, буддийской культуры, индуизма, даосизма, древних натуралистических культов, эллинской, римской и варварских религий. Само собой разумеется, обе культуры взаимно обусловливают друг друга, прорастают одна другую. Но все это — легко учитываемые частности, не меняющие общей картины и позволяющие дать синтетическое понимание каждой культуры. Конечно, для полной оценки культурного развития человечества необходимо принять во внимание и другие части, но едва ли от небрежения ими, небрежения при данном состоянии знаний неизбежного, особенно пострадает наша ближайшая тема, тем более, что наиболее важную для нас Америку можно рассматривать, как ответвление христиански-западной культуры, весьма, впрочем, поучительное как-раз в своих религиозно-философских обнаружениях. Очень соблазнительно было бы остановиться на некоторых аналогиях в развитии американской и русской философской мысли. Однако, смиренно сознаваясь в своем невежестве, я умышленно уклоняюсь от анализа американских отношений и предоставляю говорить о них людям, в „американизме“ более осведомленным.
Попытаемся же теперь на основе уже установленного выше критерия определить христианский культурный мир (Запад и Россию) в отношении его к нехристианскому (Востоку). Для того же, чтобы по возможности оградить себя от ошибочных и односторонних заключений, сосредоточимся на самых ярких и типичных проявлениях религиозности.
Возможно троякое понимание абсолютного бытия или Бога в отношении Его к миру: теистическое (включающее в себя монотеизм, дуализм и политеизм), пантеистическое и христианское, которое не вполне удачно, видимо из склонности к внешнему наукоподобию, называют панентеистическим.
В теизме Божество (Бог или боги) мыслится совершенно отрешенным от обладающего некоторым самобытием мира, внемирным. Отсюда с неизбежностью вытекает, что отношение между Богом (богами) и миром, а в частности — людьми, представляются по типу внешних отношений между людями или между человеком и вещью. Даже в том случае, если теизм признает создание мира Богом, он предполагает предсуществование материи (т.-е. дуалистичен) или же становится теизмом только после акта творения и в меру самобытности мира. В самой основе своей теизм механистичен, хотя для осмелевшей механики Бог и может показаться „ненужной гипотезой“. Теизм, если допустимо так выразиться, наиболее „пространственное“ из религиозных миропониманий, а потому, поскольку пространственность (вернее — эмпирическая ограниченность пространственности) не преодолевается мыслью, теистический момент из области религии неустраним. Само собой понятно, что представления о Божественном (а без них религия, оставаясь собою, обойтись не может) неизбежно обусловлены видимою реальностью: природою, животным миром и, более всего, человеком, высшим из известных нам и по преимуществу религиозным существом. Всякий теизм необходимо антропоморфичен (в зоолатрических культах сами животные представляемы антропоморфно), иногда в конкретно-материальных образах эллинской религии, иногда в менее уловимых уподоблениях Бога и богов человеческому духу, примерами чего могут служить древнеримская религия, иудейство и философские формы теизма. Все Божественное понятно только по связи с природным и человеческим. Поэтому теизм — культ солнца и небесных светил, культ явлений природы, более же всего — культ предков, семьи, общества, государства.
Однако, в теизме, по самому идейному существу его, не может быть подлинного знания об абсолютном. Ведь иначе абсолютное не внемирно, не внешне миру и человеку. Теистическая религия должна быть определена как религиозный репрезентационизм; и это не простая аналогия, а само существо дела, неразрывно сплетающее с теизмом и репрезентационизм философский, т.-е. и скепсис, как особенно ясно на примера иудейской религиозности или на примере скептических течений в философии арабов. В силу этого система теистических религиозных представлений обречена на саморазложение: рано или поздно, а она опознается как построение человеческого разума. Отчасти в связи с отмечаемой нами черто́ю его природы теизм на ряду с выражением своим в развитой и красочной мифологии выражается и в абстрактной религии непостижимого Духа или духов, как у американских индейцев, у древних римлян, в иудействе, у арабов и китайцев. Естественно также, что подобная спиритуализация теизма и уклон его к агностицизму почитаются явлением прогрессивным: не столь заметен антропоморфизм. Но я позволяю себя держаться на этот счет особого мнения.
Всматриваясь в религиозность нехристианского мира („Востока“), мы без труда находим в ней сильно выраженную теистическую стихию. Она перед нами в зоолатрическом политеизме Египта, в антропоморфическом политеизме Эллады, древних германцев и славян, в спиритуализме (актуализме) древнего Рима, в Индии, в Китае, в Японии. И если эллинство дает нам наиболее развитое выражение политеизма, Китай в своей традиционной религии и конфуцианстве ярче и последовательнее всего развивает сознание теизмом трансцендентности Божества, в то же время обнаруживая характерное равнодушие к сколько-нибудь конкретным о нем представлениям. В этом отношении, „выше“ китайской религии можно поставить только иудейство. Я формулирую свои утверждения осторожно: говорю не о теизме, а о теистической стихии Востока, смысл чего выяснится в дальнейшем.
Будет ли теизм стремиться к представлениям о Божественном или ограничит себя человеческим к нему отношением, уклад его религиозности в общих чертах останется тем же. Теистическая религиозность не выходит и не выводит за пределы имманентного мира. Она живет потребностями и задачами окружающей действительности, теми либо иными — в зависимости от множества условий. И откуда ей почерпнуть потустороннее, раз потустороннее признано непостижимым? Она связывает себя с благодетельными или страшными явлениями природы, освящает семью, род, государство, быт земледельца или кочевника, оседлость и мирный труд, как в Китае, или стремление к завоеваниям, как в исламе. С другой стороны, чем конкретнее культура, чем сильнее в ней внимание к конкретному и только конкретному, тем ближе к теизму и религиозность. Понятно, что теизм легко вырождается в ритуализм, часто холодный, узко-формалистический, как в древнем Риме, в ритуализм повседневности, как у народа Эздры. Нормы теистической религии кажутся и действительно являются формальным обоже́нием сложившегося, традиционной жизни и прошлого. В этом смысле чрезвычайно показателен пример Конфуция, начавшего в детстве свое религиозное развитие подражанием церемониям культа и никогда не отступавшим от золотой середины и правил приличия. Конфуций — добросовестный и консервативный общественный и политический деятель, хранитель старины и этикета, любитель истории, столь же чтимой в Китае, сколь пренебрегаемой в Индии. Но он не учил и не говорил ни о сверхъестественном, ни о духах, не отличался особым усердием молитвенника. И нам понятно, почему так дорога теистической культуре конкретная жизнь, почему конкретное, земное лежит в основе эллинского искусства и чем объясняется обособление мира идей от эмпирии в философии величайшего гения Эллады — Платона. Правда, эллины по духу своему неисторичны, равнодушны к своему прошлому, как остроумно показывает Шпенглер. Но историчность вовсе не является необходимым моментом теистической культуры, которая одинаково может жить и в ограничении себя настоящим, и в преклонении перед своим прошлым. Во всяком случае, историзм христианской культуры принципиально отличен от историзма культур теистических. В первом ярче всего проявляется понимание единства и целостности, органичности, а не механичности исторического процесса, выступают руководящие метафизические идеи. Во втором внимание направляется на внешнюю последовательность, и часто история подменяется исканием естественной законосообразности развития, социологизмом (вспомним Аристотеля и Фукидида), характерным и для теистически-позитивных течений в самом христианстве. Особенно понятна конкретность культуры в искусстве. Я только напоминаю об острой наблюдательности китайского или японского художника, о прелести отчетливо переданного полета птицы, о характерном стилистическом приеме — выхвачен из мира какой-нибудь маленький кусочек: листок на веточке с ползущею по ней букашкой. Реализм в искусстве соотносителен теизму в религии, растет из одного и того же корня.
Цель человеческой жизни полагается в благополучном бытии на земле себя самого — тогда лучшим выражением идеала будет античное „лови мгновенье!“ — или своего народа, будущих поколений, что при известных условиях приводит к теории прогресса. Ревниво охраняются традиционные формы быта вплоть до окостенения их в кастовом строе, хотя и получающем оправдание лишь иным путем — путем обращения к нетеистическим моментам религиозности. Или же, наоборот, производятся рационалистические эксперименты над действительностью, как в греческих политиях. Государственное бытие культуры отгораживается от мира великою стеной или пытается утвердить себя и разцвесть в дурной бесконечности завоеваний, примерами чего могут служить истории Рима и ислама.
Теизм — своего рода религиозный позитивизм. В силу внутренней своей диалектики он легко перерождается в чистый позитивизм и, отрицая себя, становится атеизмом. Атеизмом завершается и в нем гибнет теистическая культура, раскрывая исконный свой порок — релятивизм. Цель земного бытия и устроения не может определяться им самим, что лучше нас понимали хотя бы греческие философы, даже эпикурейцы, и чего не понимают наши парниковые философы, а вернее — филасофы, т.-е. „дружествующие безмудрию“, с юным задором и трогательною наивностью усматривающие нечто неслыханно новое в истерическом выкрике: „Вперед, со знаменем Эпикура!“ Определить себя самим собою так же невозможно, как поднять себя за волосы. И попытка создать и удержать чисто-эмпирическое единство неизбежно должна окончиться неудачей, привести к разложению уже существующего единства. Ибо нет единства в эмпирии: ее отличительный признак, без которого она не была бы эмпирией, разъединенность. Как ясно будет из всего контекста, теизм представляет собою некоторое ограничение, а, следовательно, и разъединение религиозности, почему, неся в самом себе начало разложения, должен разложить себя самого и чрез себя — содержимую им культуру. Самоосмысление теистической культуры приводит ее к сознанию того, что она едина не абсолютным единством. Абсолютное в лучшем случае непостижимо и внемирно. Относительное же единство, единство механической суммы, — чистая случайность, решительно ничем не обоснованная, и к тому же, как указано, — единство неполное. Оно может быть только мгновением. И в самом деле, история всякой теистической культуры (римской, мусульманской и т. д.) показывает, как эта культура после более или менее длительного расцвета теряет недолгую свою ценность и становится элементом нового, уже нетеистического культурного мира.
В относительной чистоте своих проявлений, в относительной своей отдельности теистическая культура типична именно для Востока или нехристианского мира. В христианском она — нечто инородное, еще непреодоленное и разлагающее, или — обусловливаемый момент христианства. Этот момент оправдывается целым и, в качестве момента, необходим, поскольку необходимо и неизбежно рационализирование религиозности. Так категории теизма оказываются полезными при анализе проблем о взаимоотношении между волей и благодатью, виною и карой, хотя и не в них заключено решение этих проблем. Однако, не следует преувеличивать чистоту и особность теизма на Востоке, тем более — считать его единственною категориею нехристианской религиозности. Сама идея трансцендентности Божественного миру уже предполагает некоторое нетеистическое постижение Божественного, т.-е. некоторую Его имманентность. Иначе откуда бы взялась идея трансцендентности? Абсолютное настолько неустранимо из религиозного опыта, что даже атеизм без него обойтись не может, о чем свидетельствует своею эмоциональной неуравновешенностью и наивным абсолютированием таких понятий, как „человечество“, „государство", „благо всех“ и т. д. Внимательно всматриваясь в исторические формы теизма, мы встречаемся с целым рядом несовместимых с природою его фактов. Так, с утвержденном непостижимости и трансцендентности Божества уживается мистика непостижимого, которая — например, в Каббале и у арабов — неуловимо приводит к пантеизму. Равным образом обоготворение сил (кстати — в эмпирии силы, как таковые, не даны) природы увлекает в ту область религиозности, которой свойственно непосредственное касание к Божественному, по крайней мере — чувство такого касания, а значит и сознание некоторой имманентности абсолютного. И для истолкования отношений между Богом и человеком привлекаются не только внешние отношения между людьми, между людьми и вещами. Любовно-физическое слияние уже не внешнее соположение, а надо ли говорить о том: какое значение оно имеет в истолковании связи Божества с миром? Вспомним первую часть мифа о рождении Афродиты из пены морской, ту самую часть, о которой стыдливо умалчивают учебники. Достаточно только указать на натуралистические мифы и культы, на роль фаллоса, легко прослеживаемого в архитектуре, на оргиазм. И все это наблюдается в лоне любой теистической религии. На почве весьма отвлеченного понимания Божества в иудействе вырастают сексуальные теории Каббалы. С другой стороны, созидание и разложение организмов увлекают мысль к идее более тесного, чем внешнее, единства, а эта идея находят себе выражение в религии умирающего и воскресающего бога. Очень часто оказывается трудным признать ту либо иную религию теистической, несмотря на несомненные признаки теизма. Так обстоит дело с маздеизмом, с родственным ему манихейством. В недрах теистической религиозности обнаруживает себя иная могучая стихия. Часто, если теизм политеистичен, она проявляется в монотеизирующей тенденции, например — у греков, у китайцев в даосизме; если он монотеистичен, она сказывается в тенденции политеистической, например — в развитии ангелологии у евреев; почему ни монотеизм, ни политеизм сами по себе не свидетельствуют еще о высшей форме религиозности. Впрочем, прошу меня не понимать в том смысле, будто указанными сейчас путями исчерпываются возможности „иной стихии“: она проявляется во всем и везде. И подобно теизму она обнаруживается и в более чистом виде.
Для этой второй стихии религиозности прежде всего характерно чувство непосредственного соприкосновения с Божественным, т.-е. чувство имманентности Божества. В осмыслении своем оно приводит к большему или меньшему отожествлению себя с Богом, каковое и становится религиозным идеалом. Если так, то вторую стихию надо признать пантеистической; тем более, что Божество чувствуется за всем и во всем; „мир полн богами“. Но Божественное постигается не как сам мир, а как нечто лежащее в глубочайшей его основе, как подлинная суть всего, не передаваемая в человеческих словах, представлениях, понятиях. Дао — „то, что поддерживает небо и землю. У него нет ни пределов ни границ. Не измерить ни высот его, ни бездн. Оно объемлет вселенную и дает видимость невидимому и безо́бразному. Оно так утонченно, что всюду, подобно воде, проникает. Им возвышаются горы и зияют бездны; им движутся звери и летают птицы; им светятся солнце, луна и звезды. Им дует ветер весенний, дождь падает, все живет и все растет. Им крылатый мир несет яйца, звери множатся, растения цветут. Деяния его во вне незримы, но во всяческом видимы. Оно призрачно и неопределенно, но силы его безграничны. Скрыто оно и незримо, но все к бытию вызывает. Оно везде, всюду, и ни одно действие его не пропадает“. Еще яснее религиозная концепция пантеизма формулируется в брахманизме. Но во всякой формулировке идея единого Божества приводит к превращению эмпирии в иллюзию, в нечто или совсем нереальное или реальное временно и ограниченно: эмпирия — непонятное „волнение“ абсолютного.
Достаточно понять основную идею пантеизма, чтобы представить себе, как и почему при первых же проявлениях его в сфере теистической религиозности своеобразно искажается весь мир религиозных представлений, и не только представлений. — Изменяется вся культура. Религиозная пластика и живопись уже не уподобляет богов животным и людям — это было бы неправильным ограничением абсолютного. Искусство ищет новые формы, небывалые образы, скоро переходя от неудовлетворяющих его попыток выразить свою идею грандиозностью размеров к борьбе с естеством. Появляются многорукие уроды, многоликие божества, полузвери-полулюди, непонятные и страшные, столь знакомые нам по скульптуре Индии, частью Китая и Египта, находящие себе отголосок даже в гармоничной скульптуре Греции, в многогрудой Диане Эфесской. Искусство пренебрегает ясностью и естественностью форм во имя грандиозности или изощренности, стремится к противоестественным сочетаниям. Из скал высекаются и филигранно обрабатываются храмы Индии. Каменные колонны пытаются разцвесть в чудесные цветы. Изображение человека фантастически стилизуется и неожиданно превращается в иероглиф. Безделушки прикладного искусства дразнят необычайным сочетанием остро подмеченной реальности и безудержной фантазией линий. Возникает иной идеал культуры, далекий от эмпирии; а в самой эмпирии измышляются неслыханные формы жизни. Аскетизм становится борьбою с естественным: святые, проводят жизнь в невероятных позах индийских отшельников. Мирское, человеческое, традиционное теряют свою ценность и значение. История делается мифом о богах, играя недоступными для человеческого понимания цифрами годов. Идеал лежит вне жизни — в отшельничестве, самоотвержении, потере своего „я“. Сложившиеся исторические формы быта становятся безразличными. В лучшем случае они лишь отражение абсолютного (не спрашивай — где и в чем!), а, может быть, даже искажение, порочное „волнение“ его. Не стоит их менять: они сами погибнут! Их можно терпеть, как терпит буддизм; лучше же всего внешне и внутренно от них уйти. Не в активной борьбе с миром, не в преображении его цель пантеизма. Она — в уходе от мира, в равнодушии к нему, ко всему существующему, вплоть до своей личности. Какой смысл бороться с временным волнением абсолютного? — Это волнение успокоится само собой. И отвергая касты, незачем их разрушать.
В существе своем, сказывающемся в таких развитых его формах, как брахманизм, буддизм, первичный даосизм, пантеизм признает абсолютное потенцией всего: в нем и оно — все, но не в отдельности, индивидуальности, проявленности каждого, а неразлично и неразличимо. Истинное бытие для пантеизма — неразличенность, безсознательность, бытие же индивидуализованное — иллюзия, мнимая реальность, Майя. В этом внутреннее противоречие и ограниченность пантеизма, который может осуществиться и быть только перестав быть, так как должен превозмочь себя самого. Пантеизм противоречив внутренно потому, что признает абсолютное не абсолютным, ибо не может абсолютное быть несовершенным, а оно несовершенно, если сводится только к потенциальности, не содержит в себе индивидуального, не в состоянии объяснить действительности, собственного своего „волнения“ и умаленности, каковою является всякая изменчивость и всякая разделенность. Поскольку пантеизм существует, он держится тем моментом противопоставленности абсолютного относительному, который, как мы видели, ограниченно выражен теизмом. И нет пантеизма без теизма, в различных формах и фазах развития которого он себя проявляет. Но, с другой стороны, в нем жизненное основание самого теизма и с ним связана вся нехристианская, а частью и христианская мистика.
Тем не менее, пантеизм отрицает и разлагает, обезцвечивает и делает иллюзией всякое конкретное свое проявление и себя самого. А саморазложение пантеистической религиозности должно быть и разложением, потуханием всей выражающейся в нем и выражающей его культуры. Как уже указано, при пантеистической религиозности по существу невозможны никакая общественность и государственность, немыслимы широкие завоевательные планы, развитие техники, вообще — говоря возвышенным языком — земное устроение. В раскрытии пантеизма естественны только развитие мистики определенного направления и некоторых философско-религиозных течений. Разумеется, реально в пантеистических культурах мы наблюдаем и „земное строительство“, но оно существует вопреки пантеизму и проистекает не из него. В силу органического равнодушия своего к культуре, пантеистическая мистика разлагает ее, хотя, повторяю и не активно. Она просто отодвигается, отходит и уходит от культуры, оставляя ее не тронутою в ее традиционности, но уже и не живою, „сонным мечтанием“. Не даром современные нам буддисты Средней Азии с сожалением смотрят на суетливую погоню европейцев за техникой и комфортом.
И теизм и пантеизм, две различные определенности религиозного сознания, здесь понимаемые нами шире — в том, в чем они выражают соответствующие типы культуры, в чистом своем виде нигде и никогда не существовали. Можно говорить лишь о преобладании в данном конкретном случае того либо иного; и всегда перед нами — некоторое единство религиозности (resp. — культуры), в котором не полно и в разной степени актуализованы тот и другой, но ни в отдельности своей, ни в сочетании всего единства не выражают. Полнота религиозности и выражаемой ею культуры остается потенциальною. Как пантеизм, так и теизм могут быть наблюдаемы и в христианской культуре, однако — только в качестве моментов ее, далеко не исчерпывающих того, что ею актуализовано, не говоря уже о ее потенциях. Напротив, для нехристианского культурного мира (дохристианского и современного нам) характерно именно то, что актуализация, его в сфере религиозности за пределы пантеизма и теизма не выходит. Питаясь высшею идеею, живя ею, на Востоке они сами — высшая ее актуализация: вне их она потенциальна. На этом различии Запада и Востока покоится неоспоримое преимущество первого. И, на мой взгляд, смешно говорить о какой-то длительной „желтой опасности“, о „Свете Азии“, „свете с Востока“ и т. д., пока культурный мир Востока остается самим собою, а на Западе и в России актуализована высшая форма религиозности и культуры. Если же и Восток достигнет высшей формы религиозности, он уже перестанет быть „Востоком“, христианизуется. И в этом случае он или сольется с Западом, или будет содействовать дальнейшему развитию западной религиозности и западной культуры.
ІІІ.
В основе христианской религиозности и культуры лежит та же идея абсолютного, которую ограниченно выражают и теизм, и пантеизм. Однако, абсолютное понимается не как всецело-непостижимое (в отличие от теизма) и не как неразличенная потенциальность всяческого (в отличие от пантеизма). Для христианского сознания абсолютное не единство, и признание христианства религией монотеистической не менее произвольно и ошибочно, чем признание его дуализмом, тритеизмом, политеизмом. Христианская догматика признает абсолютное не тремя богами или сущностями и не единством, а — триединством. Триединое и есть абсолютное, и абсолютное может быть только триединым. Идея триединства возвышает абсолютное над различием потенциальности и актуальности, давая принцип обоснования не только единства, но и множественности, принцип всеединства.
Этим отличия христианства от пантеизма еще не исчерпываются. Отъединенность множества от единства в конкретной действительности — факт неоспоримый; и он не позволяет отожествить вместе с пантеизмом эмпирию и абсолютное. Здесь христианство, уже вместе с теизмом, утверждает исходную апорию всякой религиозности — противопоставленность относительного абсолютному. Однако, апория превозмогается; и превозмогается тем, что относительное признается сразу и существующим и несуществующим, и отличным от абсолютного и единым с ним. В этом и заключается особенное, христианское понимание абсолютного, превышающего относительную человеческую идею абсолютности, понимание, которое находит себе выражение в идее творения из ничего. Абсолютное выше нашего понятия о нем, выше различия на себя и иное, хотя и не в том смысле, что оно исключает иное, а в том, что, превышая его, оно его в себе содержит. Это возможно потому, что абсолютное созидает (всевременно и сверхвременно — не: создало когда-то) иное из ничто. Следовательно, иное (тварное, относительное) само по себе и в себе не существует. В ином нет самобытия (что сближает несколько христианство с пантеизмом) и все действительное — Божественно (теофания). Но в ином объективируется абсолютное (иное приемлет абсолютное) и в идеале и пределе должно объективироваться в нем всецело (быть им всецело приятым). Поэтому в процессе теофанирования (объективирования Бога — приятия Бога тварью) иное получает бытие, становится „вторым субъектом“ Божественного, однако — только в процессе. Это сближает христианство с теизмом. Мир иносущен абсолютному, но он не ограничивает абсолютности его, ибо сущность мира сама по себе и в себе — полное ничто, хотя в приятии ею абсолютного — отличное от него нечто.
Из этих основоположений вытекают все прочие „догмы“ христианства. — Идея триединства требует своего раскрытия в учении о полной действительности, в нем как тройства, так и единства, говоря богословским языком — требует учения о единосущии трех ипостасей и их равенстве. Идея иного (мира, человека), как выражения абсолютного бытия, необходимо приводить к учению о совершенном, преображенном состоянии иного, т.-е. о восполнении его изменчивости неизменчивостью, начальности (в качестве сотворенного иное начало быть, хотя „начало“ и не во времени) безначальностью. А это все достижимо только путем реального абсолютирования или обожения (теосиса) мира и релативирования (вотворения, вочеловечения) абсолютного. Вотворение же необходимо есть вочеловечение потому, что человек понимается христианством как совершеннейшее творение, содержащее в себе весь мир, как Адам Кадмон.
Все сказанное делает ясным, почему следует рассматривать христианство по отношению к теизму и пантеизму, как высшую форму религиозности, содержащую их в себе. И теизм и пантеизм — низшие формы религиозности, ограниченные ее моменты, хронологически предшествующие христианству и с ним сосуществующие. Христианство раскрывается и в них, только не вполне, ограниченно; а, с другой стороны, оно легко в них и вырождается, почему в христианстве историческом всегда следует считаться с возможностью рецидивов теизма и пантеизма. Поскольку оно исторически-ограниченно, оно неизбежно окрашивается или теистически или пантеистически. И, я думаю, внимательному читателю должно быть теперь совершенно ясным, отчего древние религии Средиземноморья относимы к „Востоку“ и в то же самое время могут быть разсматриваемы как „колыбель“ христианства. Христианство не получилось из них путем сложения, не из них, а из нераскрытой ими потенции выросло, но, как потенция, оно было и есть в них до и вне своей актуализации, их в себе содержащей. По тому же самому основанию и в том же самом смысле христианство должно и внешне „включить“ в себя достижения восточной религиозной мысли, говоря точнее — найти эти достижения в себе. Я не утверждаю, что такое „нахождение“ или самораскрытие осуществится и эмпирически — во всяком случае, религиозное развитие является и развитием культуры вообще.
Каковы же принципы христианской культуры? — Я говорю о христианской культуре, отличая ее, как некоторое отвлечение от ее индивидуализаций в культурах Запада и России и дальнейших индивидуализаций в культурах средневековой, романской, германской и славянской, французской и испанской, английской и немецкой и т. д. Ясно, что такие индивидуализации необходимы и реально, обосновываемые самою идеею всеединства, и что наша характеристика по необходимости отвлеченна: общее реально только в единстве индивидуально-конкретного. Ясно также: нет оснований предполагать, что индивидуализации христианской культуры исчерпаны. Напротив, весьма вероятны новые индивидуализации, носителями которых будут новые же, еще не существующие государственные и этнографические единицы. Может быть, уже высказали себя, свою индивидуальность и европейский Запад и Россия (в последнем я сомневаюсь); и тем не менее, христианская культура столько же в прошлом и настоящем, сколько в грядущем, которое идет не в отмену, а в восполнение настоящего и прошлого. Не зная высшей формы религиозности — а такой формы вне христианства мы, действительно, не знаем — нельзя знать и представить себе высшую форму культуры. Ведь мы обязаны стоять на почве действительности, а не витать в эмпиреях наших грез и желаний. Если же высшая форма религиозности и культуры „будет“, она уже потенциально есть в христианстве, поскольку христианство универсально; универсально не в смысле отвлеченного общего понятия, а в смысле конкретного всеединства. В противоположность теизму, всегда конкретно-ограниченно историческому, и в отличие от пантеизма, историю отрицающего, христианство всеисторично или сверх-исторично, немыслимое и не реальное вне исторических своих проявлений, но не связанное ни с одним из них всецело.
Основание христианской культуры — признание всего действительного в действительности его абсолютноценным и непреходящим — в этом смысл догмы Боговоплощения. Христианская культура утверждает абсолютную ценность личности, всякой личности — индивидуума, народа, человечества, и всех ее проявлений — нравственности, права, науки, искусства. Но абсолютною признается ценность действительности только в меру ее действительности — поскольку она существует, а не является ограниченностью и недостаточностью. Поэтому такое признание, заключает в себе постижение абсолютного, как идеального задания, и, следовательно, стремление к абсолютному, однако, не в непостижимости его (или — не только в постижимости), о чем вожделеет пантеизм, а в его актуализованности и осуществленности в конкретном, в полной действительности его в относительном и для относительного. Таким образом, христианская культура отнюдь не является отрицанием действительности, как „культура“ пантеистическая, не содержит в себе принципального отказа или ухода от мира. И здесь более, чем где бы то ни было, необходимо отличать существо христианства от исторически-ограниченных обнаружений его, обусловленных неопознанностью принципа. Стремление к идеалу неизбежно выражается в некотором построении идеального состояния, „нового мира“, „нового общества“, „царства небесного“. Но, по основному замыслу христианства, это идеальное состояние ни в коем случае не должно пониматься, как исключающее то, что есть и что было, конкретную действительность. Оно включает в себя и содержит в себе и всю действительность настоящего и прошлого, содержит всецело, без умаления. Оно не потусторонне, а всесторонне; движение к нему не уход от сущего и метафизический скачек в иной мир, не salto mortale из царства необходимости в царство свободы, но преображение и спасение всего сущего, даже того, что видимо, эмпирически погибло. Задача культуры в победе над забвением и временем, над прошлым и будущим, над смертью. Но для победы необходимо осуществление всего конкретного, эмпирического, будущего, необходима полнота земной действительности. Таков смысл христианской догмы воскресения, воскресения всецелого: не душевного только, а и телесного. И этот смысл ее, обычно затемняемый мифологией, нисколько не противоречит самым строгим выводам самой требовательной научной мысли. Напротив, он венчает ее достижения.
Это раскрывает отношение христианской культуры к теистической. Первая, как и вторая, утверждает земное устроение, но, в отличие от второй, признает его ненужным и безсмысленным в его относительности и ограниченности, оправдывая всякий земной труд тем, что обосновывает не только относительную, а и абсолютную его значимость, безсмертность, и не в целом только, но и в каждом моменте. Подобное „абсолютирование“ вовсе не заключает в себе искания небывалых, противоестественных или сверхъестественных форм. — Всеединство становится в относительном не путем выхождения из конкретности относительного, а путем обнаружения всей конкретности, путем творческого ее развития. В этом смысле весьма характерно различное отношение христианства и теизма к идее прогресса. Для теизма прогресс — будущее состояние, которое придет на смену настоящему, при чем настоящее навсегда и безвозвратно погибнет, как навсегда погибло прошлое. Для теизма (позитивизма) настоящее лишь ступень и средство к лучшему будущему и само по себе никакою ценностью не обладает. Ценность настоящего, а, значит, и наука его и искусство, и мораль — относительны. Для христианства всякий момент обладает непреходящею и необходимой в непреходимости своей ценностью; а потому лучшее, совершенное бытие не может ограничиваться только будущим, но должно содержать в себе все, быть всевременным. Прогресса, как ограниченного во времени периода, для христианства нет. Оно не предается гаданиям о том, будет ли жизнь лучше или хуже, чем сейчас, но стремится сделать лучшим все и прежде всего настоящее. Как это ни странно звучит, христианская культура наиболее реалистична, хотя и без релятивизма теистической, а вместе с тем и символична, в каждом проявлении своем выдвигая отнесенность его к другим ее проявлениям и абсолютному.
ІѴ.
Но такова только идеальная наша культура, взятая в самом отвлеченном ее понятии. Мы должны внести в наши положения весьма существенные оговорки, когда обратимся к исторической действительности. Обратиться же к ней и значит определить русскую идею и русскую культуру в противопоставленности ее западной. От построения отвлеченного мы должны перейти к реальному многоединству в конкретных (относительно, конечно, конкретных) его обнаружениях или индивидуализациях. Несмотря на смутное национальное самосознание и даже национальное чванство, мы, русские, до сих пор были не склонными к самоопределению, наивно отожествляя свой национальный идеал с европеизацией или, не менее наивно, отрицая всякую ценность европейского. Многие из нас даже в переживаемой ныне революции видят или только этап европеизации нашей, продолжающий дело Петра, или проявление некультурного бунтарства, давно пережитого Европою. Так, между прочим, характеризовал мне происходящее ныне один известный профессор, теперь эмигрировавший на Запад, куда ему и дорога. Все пытающиеся положительно осмыслить революцию осмысляют ее с точки зрения западных идеалов, совершенно не умея проводить различие между идеологией вождей и стихией. Не менее одностороння и мысль Достоевского об универсализме русского сознания, для которого будто бы национальное совпадает с общечеловеческим. Это справедливо лишь до известной степени и в известном смысле. В каком именно — выяснится в дальнейшем.
Будем опять искать руководящие точки зрения в религиозности Запада, и не в неопределенных „впечатлениях“, а в объективных догмах.
Существо христианского учения — с этим едва ли кто-нибудь станет спорить — связано с тою или иною формулировкою идеи триединства, т.-е. учения о Троице. В учении же о Троице мы прежде всего встречаемся с утвержденною поместными соборами Запада (вселенских по разделении „церквей“ быть не могло) западною „догмою“ об исхождении Духа Святого „и от Сына“ (Filioque). Я с удовольствием и очень отчетливо представляю себе улыбку на лице даже богословски-образованного (а таких ведь немного) читателя этого очерка. До сих пор у нас держится убеждение, что как раз Filioque является наименее важным разногласием между восточной и западной церквами. Не в нем, по общему мнению, помеха (а — в папских притязаниях): оно не характерно, не симптоматично. И разве можно, будучи в здравом уме и твердой памяти, придавать такое значение богословским тонкостям? А тут еще католические богословы уверяют (хочу думать, что optima fide), будто „и от Сына“ совсем равнозначно встречающемуся у авторитетнейших восточных отцов и учителей церкви „чрез Сына“. По-видимому, и спорить-то не о чем. В богословских ли тонкостях религия? — Она в нравственности, в том, что важно для жизни, а не в умствованиях о „мелочах“. Таково общее мнение. — Но „общее“ и распространенное всегда подозрительно, ибо люди неразумные и необразованные всегда составляют большинство. И я обвиняю защитников приведенного сейчас понимания дела в довольно тяжелых грехах. Они легкомысленно относятся к абсолютной истине, полагая, что она может быть недейственною и неполною, и что понимание ее для жизни безразлично. Тогда зачем они, со своей же точки зрения — непоследовательно, признают другие догмы христианства? Если дело в морали, то не все ли равно: верить в триединого Бога, во многих богов или ни в какого бога не верить? На худой конец, тогда, пожалуй, имеет еще некоторый смысл верить в Бога (для религиозной санкции морали), но нет никакой надобности верить в нелепое для разума вочеловечение Божества, в таинства, культ и т. д. — Надо быть последовательным, и необходимо говоря о религии, понимать, что в ней деятельность не отделима от познания, что в ней все до последней йоты жизненно и каждой догматической ошибке, какою бы ничтожною она ни казалась, неизбежно соответствует моральный грех.
Здесь я не стану вдаваться в детали догматики, отсылая любопытствующих к моим „Noctes Petropolitanae“ и предстоящим моим работам, если таковые появятся в печати. Но совершенно обойти вопрос все-таки нельзя. — Католическое учение об изхождении Духа Святого от Отца и Сына, т.-е. по толкованию католических же соборов и богословов, „из того, в чем Отец и Сын одно“, необходимо предполагает некоторое особое единство Отца и Сына. Это единство не может быть сущностным, ибо сущность признается одною для всех трех ипостасей, т.-е. в той же мере, как Отцу и Сыну принадлежит и Духу, соответственно чему не говорится: „от Отца, Сына и Себя самого изходящего“. Изхождение относится не к сущности, а к ипостасному бытию. Дух исходит ипостасно, не сущностно; в изхождении - изведении — его ипостасное отличие. Но если единство Отца и Сына в изведении Духа не сущностно, оно — или ипостасное единство, или единство какого-то особого рода, присоединяющее к ипостасям Отца и Сына нечто ипостаси Духа не свойственное и в то же самое время общее для Отца и Сына, не покрываемое ипостасной качественностью каждого из них. Однако ни то ни другое невозможно. — Догма утверждает равночестность ипостасей, отрицая всякое подчинение одной из них другим по божественности, чести и славе; догма знает различия между ними только по рожденности и изведению. Если у Отца и Сына, кроме общего всем ипостасям, есть еще нечто общее, „сверхъипостасное“, Дух ниже Отца и Сына. Если же „хула на Духа Святого“ произнесена и он признан ипостасью второго порядка, хотя бы и ценой противоречия с другими положениями исповедуемого символа веры, не может осуществлять полноту божественности и его деятельность. А деятельность его, по авторитетнейшим богословским толкованиям, заключается (поскольку речь идет о мире и людях) в усовершении дела Христова, в полном и окончательном обожении (абсолютировании) мира. Мало того: — Дух не только „посылается“ Христом, но (и еще ранее) низходит на него в крещении, т.-е. осуществляет полноту обожения человеческого естества Иисуса, делает вполне божественной человеческую деятельность Иисуса. Следовательно, учение о Filioque содержит в себе вместе с умалением Духа и умаление Христа в его человечестве. Выводы отсюда очевидны.
Если Дух и Христос в эмпирической его деятельности на земле не вполне божественны, эмпирическое бытие не может всецело обожиться, абсолютироваться. Тогда полнота Божественности для эмпирического бытия недоступна, т.-е. не абсолютна и сама благость Божья. Никогда, ни при каких условиях абсолютное не может быть воспринято, т.-е. в частности, и познано человеком: человеку остается недоступною не только иная сущность Божества, но и „сверхъипостасность“ Отца и Сына. Познание человеческое может несколько усовершиться, но только несколько: эмпирия, как и в теизме, хотя, правда, в меньшей степени, очерчена непереходимыми гранями и абсолютное ей трансцендентно. И, осмысляя человеческое знание, мы должны будем придти к его границам, к необъяснимым, а потому и не познаваемым, но только постулируемым формам созерцания и категориям мышления. Такое осмысление мы и найдем, как в католическом богословии, так и в западной философии, с ее своеобразным пониманием гносеологии, как науки о границах человеческого знания. Лютеранин Кант столь же характерен для западной мысли, как и творцы Filioque и системы католического богословия. Если человеческому знанию поставлены непереходимые границы, естественно самоограничение областью рационального познания. Когда же такое самоограничение еще не теоретизировано, являясь скорее фактором, чем осмыслением факта, оно становится абсолютированием разума, возрождающимся и при теоретическом осмыслении его границ в силу неустранимой тенденции к абсолютному. Но абсолютирование разума есть абсолютирование эмпирии. Поэтому основными категориями западной мысли делаются рационализм, эмпиризм, релятивизм, последний — как теоретическое выражение исходной „гносеологической“ идеи.
С указанным нами основным догматическим заблуждением, правда — не до конца опознанным в его природе и следствиях, правда — ослабляемым отрицающими его утверждениями, исповеданием символа веры, связаны и другие. Для западной мысли и культуры должно быть характерным арианство (в чистой и ослабленной, как адопцианство, форме). Оно зародилось на Востоке на почве потребности в учении о богочеловечестве сохранить полноту человеческого. Но на Востоке оно было преодолено богословскою мыслью и только на Западе проявило себя в относительно длительной государственности германцев: в арианских королевствах и, более тонко и скрыто, в Западной Империи и даже в развитии папской церкви. — Арианство утверждает, что Сын такой же человек, как и все люди, творение „усыновленное“ Богом. Этим, на первый взгляд, обосновывается полнота обожения для всей твари; однако, только на первый взгляд. При полном уподоблении Христу человек все-таки должен остаться в отъединении от трансцендентного Божества, ибо и сам Христос по человечеству своему от него отъединен. Божество всему тварному и человеческому трансцендентно. Очевидно — перед нами лишь вариация на тему Filioque. Только в арианизме уже вполне ясно, что пропасть между абсолютным и относительным ничем не заполнима. Как и в теизме, целью человечества может быть лишь земное устроение, а познание должно быть человечески-рациональным. В области богословия при этих условиях рано или поздно, но неизбежно отрицание догмы троичности. И весьма знаменательно, что ареною деятельности первых модалистов в древней церкви был именно Рим, и что на Западе ярко проявилось учение антитринитариев. Религиозность Filioque обнаруживает свое родство с низшими, чем она, формами религиозности теистической, восполняя недостаточность теизма столь же односторонними уклонами в пантеизм. Она искони тяготеет к дохристианской религиозности, в частности — к иудаизму, к Ветхому Завету и библейскому языку, что прослеживается вплоть до стиля социал-демократической прессы. И при внимательном анализе становится понятною связь религиозности Filioque с германским язычеством, с его натуралистически-пантеистическими тенденциями.
Основы человеческой религии — эмпирия и разум, конкретно — Писание, „слово“, и разумное постижение, хотя при первом знакомстве разум и отпугивает, представляясь „блудницей дьявола“ и заставляя прибегать к орудию слова — чернильнице. Существо разсматриваемой религиозности не целостное единство познавания и деятельности, не „вера, любовью споспешествуемая“, не „живое знание“, а рационалистически-разъединяемые и механически сочетаемые вера и дела, или — только дела, или — только вера, но уже понимаемая ограниченно. Для разума (ratio) непостижимо и нелепо триединство, еще нелепее — Богочеловечество, рождение от Девы, воскресение, возможность какого-то магического (теургического) воздействия на трансцендентный мир, бытие которого разум отрицает. Непонятно, почему центр мировой истории на земле. Ну будь он, по крайней мере, на Сириусе или хоть на солнце, а то он не на первой и не на последней, не на самой большой и не на самой маленькой из планет в системе, положение которой в мире тоже не центрально; он так как-то сбоку, на задворках. Христианство в пределах разума должно отказаться от всей своей метафизики, от исключительного центрального положения Христа в земной истории и свестись к моральному учению, „высота“ которого, с той же рационалистической точки зрения, совсем непонятна. Иначе говоря, христианство должно перестать быть христианством, что мы и действительно наблюдаем в рационализирующем протестантизме. Разум (ratio) — я отличаю его от ума (intellectus), почему и прошу разных там остроумничающих критиков не передергивать, а помнить, что в более распространенном словоупотреблении мое понятие разума передается термином разсудок — разлагает и разъединяет. Следовательно, и развитие всякой системы рационалистического знания должно обнаружить себя в разпаде, в борьбе отрицающих друг друга течений, в саморазложении.
Но самоограничение в эмпирии и абсолютирование ее сказываются не только в области знания. — Утверждается все эмпирическое бытие в его ограниченности и недостаточности. Основным мотивом деятельности — конечно, в разной степени опознанно — вместо смирения, исходящего из признания абсолютным сверхрационального факта смерти, делается самоутверждение эмпирической ограниченности или гордыня, венчаемая психологией и притязаниями „раба рабов Божьих“. Это нисколько не мешает провозглашению слабости человеческого разума и человеческой воли. Во-первых, и слабость их понимается как слабость эмпирическая, во-вторых, им указываются грани, основания, в которые, не рассуждая, не разумея — тупо надлежит верить, в очерченном же магическом кругу господство их признается неоспоримым. Грани поставлены. Но на каком же основании можно требовать слепой веры в их истинность, чем ее оправдать? — Чем, как не допущением того, что существуют какие-то непоколебимые принципы (данное откровение — нечто вроде не допускающего рассуждений о разумности его закона) и какие-то земные обладатели несомненной истины, фетиши и непогрешимые папы? Так вырастает необходимость земной эмпирически-неоспоримой истины (хотя бы в виде китайской великой стены форм созерцания и категорий мышления) и земной несокрушимой церкви, видимой, по словам кардинала Беллармина, „как государство Венецианское“. Беда в том, что подобное допущение само иррационально и тупо, уже ничем не оправдано. Ничто эмпирическое не может быть эмпирически неоспоримым и несокрушимым, обречено на гибель. Эмпиризм неизбежно приводит к релятивизму.
Единство человечества в истине и бытии есть церковь, только частично обнаруживающая себя в видимой организации. При попытке же понять ее в плане рассматриваемого миросозерцания она должна предстать как вполне видимое и человеческое учреждение. Иными словами — она должна строиться так же, как строится земное общество, земное государство. Это априорное соображение целиком подтверждается историей западной церкви, прежде всего — церкви католической. Она обладает исключительно стройною организацией, монархически организованной иерархией, отличается строгой и продуманной дисциплиной; живет по точному смыслу ясно формулированных законов. Как земное государство, она притязает на светскую власть и нуждается в территории — в Папской Области, которая не становится трансцендентною от того, что называется „вотчиною св. Петра“, хотя и превратилась в ноумен благодаря итальянскому королевству. Ее история наполнена эмпирическою борьбою с земными силами за обладание миром. И утрачивая свою самостоятельную государственность, она в протестантизме становится департаментом государства или совершенно исчезает при понимании ее как „corpus mysticum Christi“ признании религии за частное дело каждого. Всё это может быть понято, как характернейшие проявления теизма, т.-е. потенциально и как атеизм. Земная жизнь толкуется как средство к достижению потусторонней, небесной. Но небесную жизнь или (что последовательнее) признают совершенно непостижимой, или представляют себе по образцу земной, чем-то вроде ее продолжения и улучшения. В этом отношении чрезвычайно поучительны представления о рае, с одной стороны — у магометан, с другой — в вульгарном католицизме: у католических художников, у западных мистиков и теософов. Однако, еще характернее отказ от мечты о непостижимой небесной жизни и абсолютирование земной в идеале эмпирического общечеловеческого благополучия, на что с гениальною проницательностью указано Достоевским. Если относительное бытие будет признано вполне соединенным от абсолютного, вполне человеческим, эмпирическим, как мы наблюдаем это в протестанстве, цель его будет полагаться только в нем самом и более чем естественным окажется взаимоподобие Пруссии и Японии. Именно в этом аспекте своем западная культура и находит себе самые яркие выражения в позитивизме и релятивизме, в противоречиях позивитистического идеала прогресса с неизбежным развитием его в идеал материалистического социализма, в таких явлениях, как расцвет техники, капитализма, империализма. Но тут-то и становится совершенно очевидною гибель западной культуры, саморазложение ее в релятивизме, примером которого может служить уже упомянутая книга проповедника его Шпенглера.
Всем сказанным еще не исчерпаны характерные черты западно-европейской культуры. Тяга к абсолютному в ней неизбывна так же, как неизбывны идея Божества в католичестве и протестанстве, идея вещи в себе в кантианстве, оценка всего отнесением к абсолютному в практической деятельности. Но абсолютное не может уже мыслиться и в эмпирии. Поскольку оно в ней проявляется, оно отлично от нее и сказывается лишь в своих не мотивируемых эмпирией и необъяснимых действиях. Умалению Духа соответствует ограничение абсолютного бытия отнятием от него всякой пространственности и материальности, пониманием его в смысле чистой духовности. Но в этом случае и само абсолютное начинает пониматься как неразличенность, как чистая потенциальность. Иными словами, теистической тенденции западной культуры коррелятивна пантеистическая со всеми ее уже знакомыми нам обнаружениями. Отсюда — пантеизирующие тенденции западной мистики, католический аскетизм; отсюда — характерные уклоны германской идеалистической философии в тот же пантеизм, обостренный интерес к индийской религиозно-философской мысли, успехи буддийских настроений и теорий вместе с расцветом теософии и оккультизма, этих уродливых ублюдков пантеистического мистицизма и плоского материалистического рационализма.
Необходимо, во избежание печальных недоразумений, уяснить высказываемые мысли некоторыми предупреждающими оговорками. Я вовсе не склонен предполагать обособленность двух намеченных тенденций европейской культуры, в общем более близкой все-таки к теизму. Как должно быть ясным внимательному читателю, я предполагаю органическую и диалектическую их связь, взаимопереплетение и взаимослияние. Главное же в том, что при всем сосредоточении внимания на них, не в них я вижу существо. Они не исчерпывают европейской культуры даже в той мере, в какой исчерпывают восточную. Религиозность на Западе в большей степени актуализована, чем на Востоке. И как бы ни ограничивало себя в своих высказываниях западное богословие, оно все же — богословие триединства. Поэтому далее гибель исторически-ограниченных форм западной культуры еще не является гибелью ее сердцевины. Да и в исторических формах своих она эту сердцевину в той или иной степени обнаруживает.
В западной культуре еще теплится, а до критической эпохи так называемого Возрождения (правильнее было бы назвать его вырождением), повернувшей Европу на охарактеризованную выше узкую дорожку, по настоящему жило более глубокое и широкое понимание христианской идеи. Я усматриваю это более глубокое понимание в истории западной философии до XIII века и в истории одного из ее течений в дальнейшие эпохи. Христианская идея широко развернулась в „платонизирующих“ системах Эриугены, признаваемого ортодоксальном католичеством за еретика, и Ансельма Кентерберийского, особенно же в гениальном учении Николая Кузанского, к великому смущению католических богословов сопричисленного к лику святых. До известной степени то же течение выражается в спинозизме, шеллингианстве, лейбницианстве и некоторых исканиях современной философской мысли. С другой стороны, не только на почве теизма, но и на почве более глубокого понимания христианства ведется борьба с пантеизирующим дуализмом катарства, с пантеистической мистикой и своеобразно преломляется аскетическая тенденция. С самого начала своего аскетизм сталкивается со здоровым чувством действительности. Он побеждает, потому что в идеале мир должен быть не таким, каков он есть. Но, победив, он становится реалистичным, связывает себя с земною жизнью в большей степени, чем аскетизм восточного христианства, и, в общем, сторонится от пантеистических крайностей. Правда, он признает земную жизнь преходящею формою бытия, но он представляет себе жизнь истинную по образцу земной, а не в смысле каких-нибудь восточных нехристианских учений, например — буддизма, йогизма, т.-е. выражает, хотя и несовершенно,, мысль о сохранении эмпирии в ее преображении. Земная жизнь признается средством для достижения будущей и в таком признании утрачивает свою самоценность, одинаково — и в религиозном идеале и в позитивистическом учении прогресса. Поставленная в связь с абсолютным, она все же приобретает бо́льший смысл, чем то возможно в теизме; а в некоторых религиозных течениях (преимущественно в протестанстве) выдвигается идея освящения самой земной жизни (Beruf), хотя все-таки и без признания ее вечности. Но и помимо этого, «устроение земного бытия, как-никак, а освящено абсолютным заданием, хотя оно усматривается и не в ней самой, а в потустороннем: в царстве небесном или в идеальном строе неведомого будущего на земле. Не трудно, вскрыть релятивизацию абсолютного в западных идеях прогресса, права, государства; но надо быть справедливым и отыскать оборотную, на самом деле более ценную сторону того же; абсолютирование относительного во всех этих, идеалах, каковое абсолютирование истинно в смысле отнесения их к абсолютному.
С XIII века обнаруживаются явственные признаки падения христианской культуры на Западе — в росте теистических тенденций в богословии и философии, прибегающих к Аристотелю, в односторонности обращения к эмпирии. Эти признаки и черты с полною яркостью выступают в мнимом расцвете Ренессанса и трагических конфликтах „новой“ и „новейшей“ истории: в рационалистическом „строительстве“ абсолютизма и революций, в ожесточенной классовой борьбе, в мировых войнах. Может быть, особенно поучительно и наглядно развитие западно-европейского искусства. В началах своих и первом своем разцвете оно гармонично сочетает завершенность античных арок, абсид, сводов и двускатных покрытий с мощным, преодолевающим пассивную тяжесть камня, но не отрицающим ее плавным поднятием вверх. Оно еще сдержано и ясно в своей орнаментике, которая охватывает и согласует растительный и животный мир, и одухотворяет человеческое тело в своих уже вытягивающихся вместе с колоннами, плавно склоняющихся но линиям сводов и арок статуях. В зеленой мадонне из Гурка, в работах Дуччо ди Бонинсенья земное пронизывается и преображается „потусторонним“. Но в апогее своем, в готике, средневековое искусство переживает и роковой для него срыв. Связь материала с идеей разрывается во имя этой идеи, во имя трансцендентного, которое пытается уничтожить само эмпирическое, сделать кружевом и зажечь холодный и жесткий камень. Все громче звучат, перебивая друг друга, сказываясь в фантастике и реализме, знакомые нам пантеистические и теистические мотивы. Художник борется с естеством или рабствует ему в пластике и живописи. Неестественными становятся позы статуй; сказочные стебли неведомых растений держат своды или тянутся за ними; чудесными огнями сверкают окна, и странные чудовища садятся на кровли храмов или ползут по их стенам. И вдруг пламенеющая идея превращается в простую декорацию, покидая метафизический мир, начинает противоречиво украшать эмпирический. А в „хоре“ Кельнского собора Дева Мария стоит в напряженном ожидании, похожая на знатную, подкрасившую себе лицо даму; и скоро Христос Грюневальда заставит в ужасе своей человеческой муки забыть о его Божестве, горящем в пламенных красках…
Да не усмотрит читатель в моих словах принижения готики. Мне надо указать лишь на сказывающиеся в ней болезненные тенденции. Равным образом не для того, чтобы отрицать эстетическое значение за искусством Ренессанса и нового времени, отмечаю я и их болезни. Преодолев „готическое варварство“, уже умиравшее, Ренессанс на миг обольщает мнимою гармонией человеческого, красотою в себе законченных линий и трепетом красок. Он обольщает, но вместе с верным сыном католической церкви Микель Анджело уже и борется с Божьей природой, не удовлетворенный гармонией человеческого классицизма, не понимающий цели искусства преображать жизнь. Титанизм и красота Моисея и Давида скрывают неудачу; уроды Баччо Бандинелли обнажают немощь и тщету соперничающего с Божеством человека. А за человеческим божественное забывается. В тяжелой игре барокко и фантастически легкой резвости рококо открывается яркая прелесть мимолетных впечатлений, дрожание солнечных пятен на женском розовом теле или соблазнительные кривлянья маленького уродца в черном зеркале Бердсли.
Ѵ.
Россия переживает второй период острой европеизации (считая первым эпоху Петра). Самый факт этой европеизации, ее характер и интенсивность, разумеется, в высокой степени национальны. Но очевидно — не в европеизации смысл нашего исторического существований и не европейский идеал предносится нам, как наше будущее. Если бы было так, мы были бы народом неисторическим, годным лишь на удобрение европейской нивы (приблизительно подобного мнения держится известный писатель и коллекционер А. М. Пешков), и ни о какой русской идее не стоило бы и говорить. И не в „европейских“ тенденциях русской мысли, общественности и государственности надо искать эту идею. Не задаваясь целью определить ее с полною ясностью и отчетливостью, для чего, помимо всего прочего, надо больше места, чем допускают размеры моего очерка, не стремясь к выделению России из восточно-христианского мира, т.-е. сознательно допуская некоторую, неопределенность, я постараюсь сжато изложить основные свои мысли.
На Западе до ХІІІ–ХІѴ в.в. христианская идея не выразила себя с достаточной полнотой, после — выражала и выражает ущербно. Восточного христианства в догматическом ограничении христианской идеи винить нельзя. С полным основанием греки противопоставляли латынству горделивое заявление: „мы ничего не прибавляли к символу веры“! Догматически восточное христианство остановилось на седьмом вселенском соборе (787), закрепив свое учение в трудах великих каппадокийцев и Дамаскина и воздержавшись от увлечений местными, не вселенскими новшествами Запада. С 787 г. восточное христианство, можно сказать, не знало развития, вернее же — не понимало своего развития, как вселенского, как утверждающего неоспоримую, абсолютную истину. Несмотря на интенсивную и плодотворную работу философски-богословской мысли, на расцвет мистики, споры и ереси, православие за пределами установленного семью вселенскими соборами потенциально. Тем труднее его анализ и понимание, по необходимости субъективные.
Прежде всего следует заметить, что на долю Востока выпал почти весь труд раскрытия христианской догмы. В долгой и мучительной борьба он утвердил идею триединства, четко высказал ее в чеканных формулах символа веры. Правда, на Востоке же возникали и все главные ереси, нередко приобретая временное господство: и арианство, и монофизитство, и монофелитство. Но они были необходимою болезнью роста, историческим путем к раскрытию догматической истины, верным признаком того, что жив Дух Божий в церкви, в которой „надлежит и ересям быть“. Когда Запад религиозно и культурно обособился и попытался соединенно продолжать развитие догмы, признаваемое и выдаваемое им за вселенское, Восток остался, неподвижным, но верным несомненно-вселенскому. В учении о триединстве он не признал Filioque, не указан, однако, чем он восполняет это западное новшество. В спорах с арианами и несторианами, с монофизитами и монофелитами он положил незыблемые основания догме Богочеловечества, не опорочив ее следствиями того же Filioque, учением о непорочном зачатии (неизбежном при умалении Духа), антропоморфизирующим „Культом Сердца Иисусова“ и западным учением о церкви. Уже из этого вытекают весьма важные для нас выводы. Мы видим, как в связи с Filioque (а не трудно, то же самое показать и для других упомянутых сейчас учений) западная религиозная мысль устанавливает разрыв между абсолютным и относительным; проходящий даже чрез само триединство. Такого разрыва для православия нет. Как ни ограниченно, как ни несовершенно относительное бытие, оно представляется Востоку реальным и в некотором смысле божественным (не иллюзорным и преходящим только). Оно реально в самой эмпиричности своей и подлежит всецелому абсолютированию или обоже́нию. Поэтому и непостижимость абсолютного не понимается православным сознанием в смысле абсолютной его трансцендентности, статически. „Границы знания“ органически для православия неприемлемы, как, в частности, это хорошо иллюстрируется фактом безжизненности кантианства на русской почве. Познание абсолютного и заключается в преодолении его непостижимости, мыслимом и реальном как непрерывное обоже́ние человека, начинающемся здесь, на земле, а не переносимом в потустороннее, в идеале осуществимом и уже осуществленном, а не остающемся в Марбурге, т.-е. в состоянии вечного движения в дурную бесконечность и свойственной некоторым племенам земным суетливости. Точно также не является для православия непостижимым в нем самом и мир, а единство космоса мыслится не как единство системы атомов (что характерно для Запада), но как конкретное единство множества, как всеединство. Познание отнюдь не ограничено деятельностью разума (ratio); и основа его не в глухой стене незыблемых форм и категорий, а в „живой вере“ или „живом знании“, в единстве познания и деятельности. Проблемы, расколовшей религиозность Запада на католическую и протестантскую, для Востока просто не существует. В полной согласованности со всем сейчас указанным деятельность человека не является для православия ограниченно-человеческою деятельностью. Она есть деятельность человека в постоянном, непрерывном причастии его Божеству чрез Христа, богочеловеческая, все равно — в какой бы области она ни проявлялась: в индивидуальной, общественной, государственной. Человек для восточного религиозного сознания не раб, отпущенный на оброк в отхожий промысел и потом получающий мзду по делам своим; но — сын Божий, никогда окончательно не утрачивающий единства с Отцом.
Православной мысли в высокой степени присуща интуиция всеединства, на заре ее параллельно выраженная в умозрениях новоплатонизма. Как всеединство постигается само, абсолютное или триединое; как всеединство предстает идеальное состояние причаствующего абсолютному космоса; и всеединство же в потенциальности своей характеризует эмпирическое бытие. А интуиция всеединства непримирима с типичным для Запада механистическим истолкованием мира. И понятно, что Востоку чужды юридическая конструкция отношений между Богом и людьми, теория жертвы Христовой как удовлетворения Справедливого за грехи человечества, мучительные и неразрешимые для Запада проблемы предопределения и согласования благодати со свободой. На Востоке немыслима практика индульгенций, равно — и теория их вместе с догмою о чистилище, как немыслимо бухгалтерское понимание исповеди. Для православного — это отмечено протестантом Ад. Гарнаком — покаяние сводится не к точному возмещению грехов соответствующим количеством добрых дел, а к целостному преображению человека, не к „penitentia“ а к „metanoia“ или умопремене. В православии наименее выражен момент законнический, возмещаемый живым ощущением свободы и Богосыновства, хотя часто и сочетающийся с безобразиями блудного сына.
Живое сознанием подлинного единства с абсолютным, утверждением отмеченной нами выше (III) основной апории всякой религиозности, православие склонно в лице величайших своих учителей и мыслителей рассматривать все сущее как теофанию, как явление Божества в тварном. Теофания не односторонний, акт Божества. Она — единый акт двух субъектов: Бога, изливающего себя в свое творение, и творения, приемлющего в себя Бога. Этот акт нельзя рассматривать, как обусловление одного субъекта другим: такое рассмотрение уничтожает понятие свободы и возможно только при нелепом допущении, что множество первее единства. Божество изливает себя, поскольку тварь его приемлет; тварь приемлет его, поскольку оно себя изливает в нее. Сам акт творения также не что иное, как теофания. Называя его творением, не следует забывать, что акту Творца, как бы призыву Им твари к бытию, соответствует свободный отклик твари, свободное ее движение к нему. Космос не нечто самобытное, вне Бога лежащее (сам но себе и в себе космос — ничто), даже не риза Божества, но — сама Божественность, однако Божественность причаствуемая тварностью, в причастии реальною. Православие глубоко космично и потому сильнее и полнее, чем Запад, переживает в себе прозрения эллинства, сопряженные с жизнью мира. Так нашим далеким предкам, несмотря на недостаточность культуры, доступна в иконописи символика красок и сложных композиций, раскрывающая существо космической жизни. В некотором смысле православие ближе к языческому Востоку в его пантеизирующей стихии, как западная религиозность ближе к нему в стихии теистической.
Просвещенный читатель и сам сумеет конкретизировать развитые здесь общие соображения. Обратившись к истории русской мысли, он, надеюсь, отметит как национально-характерное упорную борьбу ее с рационализмом и эмпиризмом и согласится, что крупнейшие и оригинальнейшие русские философы (даже, не считая Сковороды, обязанного значительною долею своей известности своей фамилии) все-таки не позитивиты и не рационалисты, а „метафизики“, и что даже русский позитивизм или нигилизм отличается довольно большою своеобычностью. Он отметит далее и то, что в нашей философии преобладают течения, родственные по духу отмеченным выше тенденциям религиозности, а кантианство во всех своих проявлениях, как уже указано, отличается редким безплодием. Конечно, до европейских новинок мы падки, особенно в провинции (к счастью, Москва теперь получила возможность вслед за формальною приобрести и реальную столичность), но типичный путь русского философа ведет его из-под суровой руки Когена в лоно Плотина. С этим читатель согласится — нельзя же спорить с фактами. Но не менее значительными покажутся ему до оскомины часто указываемая связь русского философствования с жизнью, своеобразная идейная направленность русской художественной литературы (читай о „героическом характере“ ее), идеал „мыслящего реалиста“, активное народничество, Достоевский и Лев Толстой и многое другое, вплоть до пламенного увлечения формальным методом. В области религиозной жизни читатель, конечно, обратит внимание на русское старчество, хотя, может быть, и знаком с ним только но литературному образу старца Зосимы, и на бытовую связь духовенства (даже монашествующего) с жизнью; в области политики — на силу идеологических моментов от Священного Союза и легитимизма, проявленного Николаем І в усмирении венгров, чрез славянофильские войны до последка дней сих. Но не желая злоупотреблять риторическими приемами, я предоставляю читателя себе самому и перехожу к дальнейшему.
Указанные нами до сих пор черты все еще недостаточно определяют православие: они характеризуют его потенции, частью те же потенции христианской идеи, которые по иному актуализованы религиозностью Запада. В отличие от западного христианства, восточное с ѴІІІ в. и доныне пребывает в состоянии потенциальности. Все раскрывающееся в нем не становится органическим его моментом, формально — не признается им самим за вселенское и несомненное, реально — ограничиваемо противоположными, частью западными течениями. Применительно к православию можно говорить лишь о тенденциях развития, во многом столь же (хотя и по иному) односторонних, как и на Западе.
Никак нельзя умалять закоснелости православной культуры в состоянии потенциальности, не только догматической, но и всяческой. Это какая-то пассивность и недейственность, равнодушие почти сонное, нежелание двигаться, вовсе не крепостным правом и бездельничаньем помещиков обгоняемое, как полагают премудрые толкователи нашей литературы в забвении того простого факта, что русский купец и мужик не менее ленивы, чем русский барин, а немец-крепостник всегда был существом очень деятельным. Это — пресловутая русская лень, невольно заставляющая вспоминать о покое буддиста или, по крайней мере, „сонного грузина“ в „узорных шальварах“, о молчаливых чарах безконечной степи, о томящей грустью по непонятному и лениво-желаемому музыке. На первый взгляд кажется странным, но, если поразмыслить; то естественным — исконная, органическая русская пассивность cтoи́т в связи с устремленностью к абсолютному, которое как-то отчетливее воспринимается сквозь дымку дремы, окутывающей конкретную действительность. При этом абсолютное созерцается то в нем самом, то в космосе. При сосредоточении внимания на нем самом религиозность естественно становится отрицающей мир с несравнимо большею энергией, чем на Западе, если только, уклоняясь в пантеистическое созерцание, она не проникается безпредельным к нему равнодушием. Энергия отрицания понятна. — Абсолютное, как триединство и всеединство, необходимо обосновывает мир; и мир уже нельзя понимать как иллюзию, даже как преходящее средство, что мы наблюдаем на Западе. Мир реален, и отрицание его должно превратиться в активную борьбу с ним, рождающую дуалистические настроения. В этом смысле показательно, что из всех возникших на Востоке ересей и лжеучений иконоборство слабее всего отозвалось на Западе и что Восток — родина и классическая страна христианского аскетизма. Конечно, аскетизм известен и пантеистическому Востоку, но там он носит иной характер — уводит от мира в равнодушие к миру и в спокойное созерцание абсолютного. Конечно, аскетизм проявляется и на христианском Западе, но на Западе он не достигает такой силы и, в общем, остается средством. Лишь пантеистически-дуалистическое манихейство, христианизовавшееся и высказавшее себе опять-таки ранее и полнее всего на Востоке, да маздеизм в язычестве обнаруживают аскетическую энергию, по силе не уступающую энергии некоторых проявлений православного (впрочем, не русского) аскетизма. Точно также и иконоборство возникает на почве теизма в исламе и находит себе отклики на Западе, но ни там, ни здесь оно не отличается воинствующим характером и фанатизмом византийского. В исламе оно — иконоборство воздержания; на Западе появляется лишь ненадолго в эпоху борьбы с Filioque при Карле Великом и возобновляется только в ХѴІ в., как движение по духу своему более родственное исламу, по резкости проявлений не характерное.
Отчасти в связи с этим стои́т и отношение ко Христу, нередко уклоняющееся в докетизм. На Востоке немыслимы образы Христа, отраженные, с одной стороны, Дюрером и Грюневальдом, с другой — художниками Возрождения (даже не Содомой, а Микель Анджело и Рафаэлем), Ван-Дейком, наконец — Уде. Для православного в образе Христа выступает прежде всего божественное, умаляющее его человеческую природу, неуловимо влекущее к докетизму. Православию неприемлемы драстический язык Запада в применении к тому же Христу и конкретности западной мистики, в эксцессах своих доходящей до кощунственной эротики. То же самое вытекает из сопоставления западного культа Мадонны с восточным культом Богоматери. И понятно, что русская иконопись просто срывается и замирает на школе Ушакова, а не перерождается в нечто подобное „иконописи“ эпохи Ренессанса, и что для русского религиозного искусства типичны не Неф, не Ге, а Нестеров. Впрочем, это явление связано и с другими сторонами восточно-христианского аскетизма. — Реальность мира им, повторяю, не отрицается, и, поскольку сознание не поглощено абсолютным, оно сосредоточивается на идее преображения мира уже здесь, на земле, уже теперь, немедленно. Афанасий Великий в своем „Житии Антония“ ясно высказывает именно так понятую идею преображения, возвращающую аскетизму его первоначальный смысл средства. В излишествах афонского аскетизма эта идея создает страшный, почти дьявольский образ Иоанна Крестителя (в Русском Музее в Петербурге). В более гармоничном проявлении она обусловливает характернейшие черты древней русской иконописи с ее утонченными фигурами и преображающим земное благолепием, с ее тонкой символикой композиции и красок.
Много возможностей в восточном аскетизме, способном вызывать ожесточеннейшие споры о „Свете Фаворском“, пупоглядие и изощренную технику молитвы, а рядом с этим — нелепые, но тем не менее многих увлекающие бредни Федорова о магическом воскресении мертвых. Однако, чаще всего православный аскетизм остается равнодушным к миру, созерцает Божество и в нем самом и в его творении, недейственно умиляется красою и правдою Божьими, на зло же и безобразие не смотрит или старается не смотреть: как могут они быть, если все Божье? Все приемлется, все оправдывается, но — созерцательно, не для того, чтобы действенно усовершать эмпирию. В лучшем случае мир преображается только в сознании индивидуальном, в одном моменте всеединства, но и то не до конца. Ведь для полного преображения необходимо, чтобы этот момент стал индивидуализацией всего творения, что невозможно при его отъединении от прочих, при его недейственности. Преображение мира часто выражаемся в неколебимой уверенности, что оно само собой наступит, без достаточного сознания, что оно не может наступить, если вожделение о нем не станет действенным. Я не думаю, чтобы нужно было подтверждать примерами пассивность нашей религиозности (а она выражает всю нашу культуру), останавливаться на вялости и неорганизованности нашей церкви.
Абсолютное воспринимается в мире. Но мир в божественности своей предстает пассивному духу, как уже данное. Разумеется, он неполно выражает Божество, недостаточно, — греховен. Но ведь и в недостаточности своей он божествен, а недостаточность сама по себе бытие, но только недостаток бытие. Рано или поздно мир усовершится и станет истинным всеединством, обожи́тся всецело — в этом сомневаться нельзя. Если же так, то — возникает лукавая мысль — стоит ли деятельно стремиться к его преображению? Уверенность в будущем обеспло́живает настоящее, как на Западе обеспложивает его идеал прогресса, именно потому и соблазнительный для православного сознания. К тому же идеальное состояние мира, определяемое неотступно предстоящим умственному взору абсолютным бытием, не достижимо путем частичных реформ или поправок и отъединенных усилий. Оно может быть плодом только всеединой, вселенской деятельности и предельного напряжения деятельности каждого. А как я достигну этого предельного напряжения, если меня одолевает вольная моя лень и способен я только на небольшие усилия, которые не могут удовлетворить меня самого? Как я побегу спасать отечество от врага, если никто другой бежать не хочет, разсуждая точно так же, как я? Англичанин, какой-нибудь. „Гамиден суровый“, тот, небось, побежит без всяких разсуждений, но он зато и в одиночестве не останется.
Мы видим — в противовес католически-протестантскому антропоморфизму, православное религиозное сознание выдвигает понимание всего как божественного, вплоть до готовности оправдывать свои недостатки, и обнаруживает равнодушное невнимание к человеческому, иногда превращающееся в специфическую холодную жестокость. Теряют свою силу и бледнеют человеческий закон и нормы человеческой морали. Они признаются и наивно утверждаемы тем, что находят себе оправдание, как божественное. Они мертвеют и колеблются в признании неизбежности их несовершенства. Формализм и законничество католической этики отталкивают — не рабского послушания, а свободного сыновнего творчества требует христианская идея. Ригоризм протестантской морали становится непонятным. — „Немец честен в конечных разсчетах, а как дойдет дело до миллионов, так украдет“! Какой смысл быть ригористичным в мелочах, если нет ригоризма, в главном? И вполне последовательно воруются и миллионы и копейки: все, что плохо лежит. Нравственные требования абсолютны, но не сами по себе — категорический императив русскому человеку не более понятен, чем парламентаризм на аглицкой манер — а в силу обоснования их самим абсолютным. И стоит поколебаться вере в абсолютное, чтобы появилось полное отрицание морали и вообще всего исторически сложившегося. Недаром Иван Федорович Карамазов, человек очень русский, вместе с Ф. М. Достоевским полагал, что „все дозволено“, если нет безсмертия.
Исторически данная государственность приемлется как факт несовершенный, но все же оправданный, тем более, что совершенство (особенно если измеряется оно абсолютным идеалом) на земле неосуществимо. Она оправдывается религиозно, и не случайно, что только религиозным началом создалась и держалась византийская государственностъ. Да и русское православие больше связано с идеей самодержавия, чем то принято думать. Оттого-то катастрофа монархии стала катастрофою и для него. Достойно внимания, что до сих пор в России все живые политические и общественные идеалы всегда становились и религиозными идеалами, хотя бы это и неясно сознавалось самими носителями. Крайности сходятся. Идеал папской монархии, построенной по образцу человеческой, находит себе соответствие в религиозном идеале власти василевса над христианским миром и церковью. Внешне этот восточный идеал напоминает идеал (впрочем, заимствованный Западом у Востока, хотя и осложненный германскими традициями) западных императоров, боровшихся с папством на почве арианизируемого христианства. Но, при всем внешнем сходстве, первый по существу отличен от второго. Притязания василевса неопределеннее и шире: он не хочет быть только „епископом от внешних“, он считает себя „и царем, и иереем“, а волю свою каноном. Он — глава церкви; и не даром Святейший Правительствующий Синод в свое время ссылался на византийского канониста Вальсамона. Идея православной монархии так и осталась в недоразвитом состоянии, потому что, конечно, нельзя считать решением проблемы так называемую теорию симфонии. Но для нас существенна и другая сторона, дела. — Православное сознание сочетает признание абсолютной ценности во всяком проявлении жизни с признанием относительности и несовершенства всего человеческого. Поэтому идеал христианской монархии, при всем отношении к ней как к наилучшей форме земного общественного и государственного бытия, не только не формализируется, но, если он достаточно продуман, и не абсолютируется в необходимую форму, не признается даже в пределе своего развития полнотой совершенства. А в связи с этим стоит и возможность для Востока религиозно оправдывать революцию, что ясно не только в многострадальной истории Византии. — Один из русских в начале ХІХ в. чрезвычайно удачно охарактеризовал современный ему государственный строй России, как „despotisme moderé par l’assassinat“.
Итак, преимущество восточного христианства перед западным заключается в полноте и чистоте хранимого им предания — того, что выражено вселенским и соборным периодом церковной жизни. Оно само сознает это, сознает вплоть до чрезмерной гордыни и вражды к чужому, до сожалительного или презрительного отношения к латынству и люторству. Недостаточность же православия в том, что оно только хранит, не раскрывая и не развивая потенций хранимого, что оно не действенно, пассивно. Этою пассивностью в значительной мере объясняются рассмотренные нами уклоны религиозности и культуры Востока и, во всяком случае, тот факт, что для восточного сознания они, не получая догматического закрепления, не могут притязать на абсолютное значение. С другой стороны, в православном самосознании возникает и еще один характерный для него уклон, весь смысл которого выяснится нам в дальнейшем. — Неуверенность в ценности своего, поскольку оно не оправдано вселенски, естественно сопровождается недоверием к чужому, католическому и протестантскому, отрицательным отношением ко всякому новшеству, которое ведь тоже не может притязать на вселенское значение. В связи с этим, в себе самой православная культура усматривает в качестве положительного и ценного верность преданию, ею оправдывая и свою косность. Но верность преданию, возведенная в принцип, вызывает ревнивое до болезненности отношение ко всему переданному отцами, не только к смыслу, а и к букве, даже к внешнему облику. Она рождает староверие и старообрядчество, как столь же характерное для Востока явление, сколь для Запада характерна ересь. Восточно-христианская культура двоится в кажущихся ей самой недостаточно обоснованными исканиях и в попытках оправдать свою неподвижность.
Восточно-христианское сознание особенно остро и глубоко смущаемо идеалом всеединства. Но всеединое тварное бытие должно мыслить не как отвлеченное единство и не как систему множества. Оно всеедино, т.-е. и едино, и все, и всяческое, все свои моменты и каждый из них. И оно все в каждом из своих моментов, а каждый из них — все оно, хотя в разъединенности космоса, в эмпирическом бытии его только потенциально. Каждый момент может и должен быть всеединством, а, следовательно, и всеми прочими, но может только в своем индивидуальном бытии — как особая индивидуализация всеединства. Такая индивидуализация необходима по самой идее всеединства, хотя еще недостаточна для полноты его единства. Полнота же его осуществляется лишь в том случае, если каждый момент становится всеми прочими и всем в себе самом и в то же самое время совершенно перестает быть самим собою. Иначе говоря, он должен все принять в себя, утвердить себя в обладании всем и в то же время без остатка отдать себя всем и всему. Как нетрудно показать, второе является необходимым условием первого, а первое необходимым условием второго. А это значит, что для личности идеал всеединства выражается в полноте самоутверждения (хотя не в смысле утверждения эмпирической своей самости, каковая есть ограниченность) и в полноте самоотдачи, т.-е. смирения и жертвы собою.
Для полноты всеединства необходимо, чтобы всякий момент его, всякая индивидуальность, а, следовательно — и данная конкретная религиозность (православие), и данная культура, и данный народ, всецело восприняла в себя и сделало собою актуализованное другими индивидуальностями, явив в себе единственный, неповторимый образ всеединства. Для этого, далее, необходимо (и по существу и как необходимое условие первого), чтобы та же индивидуальность всецело отдала себя прочим, жертвенно растворилась во всеединстве. Но я могу сделать иное свободное моим и мною, даже при полноте моего самопожертвования, лишь тогда, когда иное так же свободно отдаст себя мне, как я отдаю себя ему. Условием всеединства является всеединое, т.-е. вселенское, соборное осуществление его, т.-е. всеединство осуществимо только в единой вселенской церкви. Однако, в этом случае идея церкви в православии должна быть понята иначе, чем в католичестве.
В католичестве, как указано выше, церковь понимается в смысле видимого земного учреждения, построенного по типу государства. По католическому учению, Христос установил церковь „по образцу общества“, как „общество видимое“, монархическое и иерархическое, венчаемое непогрешимым в делах веры викарием Христа, папою. Тем не менее, церковь не объемлет в качестве видимой организации всего бытия. Бог же установил и государство, поставив ему иную цель — достижение временного земного блага, при чем, таким образом, ни церковь не подчинена государству, ни государство церкви, но оба должны действовать в дружественном согласии. Притязания католической церкви не всегда ограничивались сейчас очерченными скромными пределами, но в идее церковь всегда признавалась содержащею в себе только часть мира — „относящееся к спасению души“ и противоставлялась различно в разные времена оцениваемому иному (государству), как некоторой самостоятельной величине. Это связано с эмпиризмом католичества, с ограничением себя в области разъединенности, с признанием эмпирического бытия за средство, само в себе не ценное, в конце концов — с тем же Filioque. Совершенно иначе понимается идея церкви в христианстве восточном. — Весь мир и есть церковь, но он — церковь в потенции, нечто становящееся церковью. Поэтому нельзя провести резкой грани между тем, что формально и явно относится к церкви, и тем, что ею только еще становится или станет, т.-е. — эмпирически церковь видима лишь частично, будучи всевременным единством. Крещение показывает лишь то, что принявшие его уже вошли в единение со Христом большее, чем единение иноверных, и сделались членами церкви в ее видимости. Поскольку мир существует, он — тело Христово и церковь. Поскольку он принял крещение, он — церковь, познавшая себя, поднявшаяся на ступень богобытия. Но это не значит, что видимо находящееся за оградою церкви не в ней. Эмпирически и в данный момент времени оно не в церкви, но по существу своему и в меру бытия своего в ней, хотя для эмпирии еще и невидимо, неосуществленно. Впрочем, для нас сейчас важна не эта сторона проблемы, связанная с решением целого ряда очень трудных вопросов. — Церковь в идеальном своем состоянии, для эмпирии только еще „заданном“, не что иное, как весь преображенный во Христе-человеке космос. Поэтому все сущее потенциально церковно, в актуализации же своей церковно более или менее и частью осознанно-церковно, составляя видимую церковь, единство принявших крещение. Отсюда ясно, что не может быть деятельности вне церкви, хотя не всякая деятельность осознанно-церковна, и что не может быть государства, как чего-то церкви противостоящего. В идеальном состоянии все человеческое бытие есть бытие единого во Христе человечества, в котором не может быть соперничества светской и „церковной“ властей, потому что всякая власть в нем есть власть церковная, и государь столь же является органом Божества, как и глава иерархии. При разрешении же вопроса в эмпирической действительности мы наталкиваемся на непреодолимые трудности. По существу своему церковь все; конкретно под церковью приходится разуметь иерархию, как некоторую параллельную светской и перекрестно с ней организующую мир силу. Признать господство и первенство иерархии церковной нельзя, потому что и светская тоже от Бога. Еще менее допустимо обратное. Но нельзя, с другой стороны, и разграничить сферы действия обоих властей, ибо сферы эти по самой природе церкви не разъединимы, или, что то же самое, разъединимы лишь отвлеченно, рационалистически. Поэтому, не допуская забвения истинной идеи церкви, допущенного во имя злобы дня сего католичеством, православие может лишь стремиться к идеальному состоянию, сознавая приближенность всякого эмпирического его осуществления. Идеал же заключается во взаимопроникновении церкви и государства, во взаиморастворении их, т.-е. в осуществлении истинного тела Христова, ни в одно из мгновений земного времени не достижимом.
Намеченная нами сейчас в самых общих чертах православная идея церкви объясняет земную связь византийской и русской церкви с государственностью и национальностью, дополняя многое из сказанного нами выше. Церковь и есть всяческое, т.-е. и государственное и культурное, и религиозное и церковное, всеединство. Но церковь — всеединство вселенское, т.-е. всяческое всеединство всего человечества. Это всеединство нельзя мыслить как безразличное единство всех народов или как такое же единство их под одною только церковною властью. Тогда оно не будет всеединством. Его необходимо мыслить по аналогии с живым организмом — оно живое тело Христово. И как нельзя создать органического единства, перемоло́в и перетере́в в однородные атомы человеческое тело, но надо исходить из сознания особого смысла и особого значения каждого из органов, в качественности своей необходимого для целого; так же нельзя создать единство человечества путем уничтожения культурных, национальных, религиозных и других особенностей. Человечество — организм, для существования и развития которого необходимы существование и развитие составляющих его личностей во всем их индивидуальном своеобразии. Но для единства человечества, для того, чтобы оно существовало как церковь, необходимо еще и непрерывное взаимодействие этих личностей, основанное на самоутверждении и самоотдаче.
Всеединое или соборное, всецерковное действие не является действием отвлеченным, одинаково, автоматически воспроизводимым всеми. Оно всеедино, т.-е., совершаясь во всех, в каждом совершается по особому, соответственно его индивидуальности. Но оно все-таки должно быть и действием всех, т.-е. предполагает согласованность и согласие всех. Такая всеединая деятельность со времени разделения церквей невозможна и стала еще более невозможною с эпохи разпадения западной религиозности на католичество и протестантство. Вселенская церковь разкололась, утратила свое единство и уже не в силах эмпирически осуществлять свою цель на земле. Отъединенная часть ее может пытаться собственными, частными усилиями выполнить общую задачу. Но, невосполняемая другими частями, она неизбежно придет, как мы и наблюдаем в западной религиозности, к участнению или ограничению цели и к дальнейшему расколу. Или же часть церкви, сознавая ограниченность отъединенной попытки может ждать возсоединения своего с другими, как первого и неустранимого условия общего дела. Но ожидание и есть пассивность, остановка развития и косность потенциальности, т.-е. тоже ограниченность. Пока отъединенное не восприняло и не сделало собою всего, что от него отъединилось и что должно было самостоятельно развиваться в живом взаимодействии с ним, и всего, что отъединенно, ограниченно актуализовано, оно не может своим восполнить единое и, возмещая ограниченность, осуществить всеединство.
ѴІ.
Задача православной или русской культуры и универсальна, и индивидуально-национальна. Эта культура должна раскрыть, актуализировать хранимые ею с ѴІІІ в. потенции, но раскрыть их путем приятия в себя актуализованного культурою западной (в этом смысл „европеизации“) и восполнения приемлемого своим. „Восполнение“ и есть национальное дело, без которого нет и дела вселенского. На богословском языке приятие и восполнение западного православно-русским и будет возсоединением церквей. Только не следует считать догмы и выводы богословия чем-то отвлеченным и далеким от реальной жизни. Возсоединение церквей вовсе не формальный акт, хотя должно выразиться и формально. Его понимает, как узко-формальный, западный рационализм, полагая, что прежде всего нужен какой-то подобный дипломатическому договор, в котором точно оговорены все спорные пункты: и Filioque, и непорочное зачатие, и папская непогрешимость. Католичество даже склонно и действовать-то дипломатически, например — до поры до времени оставлять местный обряд и язык, требовать чтения символа веры с Filioque только по-латыни и т. д. Но достаточно немного исторических знаний, чтобы убедиться, насколько безплодно такое „возсоединение“. Провозглашения „унии“ цели не достигают: большинство „присоединяемых“ их не признает. „Униаты“ же, в последнее время именуемые „католиками восточного обряда“, приняв католичество, оказываются потерявшими связь со своим народом и свою личность католиками второго разряда. Они и присоединяются-то к католичеству часто потому, что утрачивают веру в русский народ и православие: от отчаяния и для некоторого самоуспокоения. По существу они — выродки, не русские люди. „От нас изыдоша, но не от нас быша“, как говорит апостол. — Возсоединение церквей не дипломатический договор. Возсоединение церквей есть возсоединение культур, для чего необходимо, живое в православии, сознание единства культуры и религии и совсем недостаточно формальных, хотя бы и очень торжественных заявлений.
На деле возсоединение церквей давно уже совершается, но совершается неприметно для богословствующих юристов, не понимающих самого существа проблемы. От нас и от католичества зависит, как скоро и действенно это возсоединение будет осуществляться, приближая нас, может быть, и к венчающему его формальному акту. Чтобы всецело принять и сделать собой чужое, надо перестать быть самим собой, смириться и принести себя в жертву. Однако для возсоединения не менее необходимо выразить себя и все свое. Но это выражение себя не косность самоутвержденности или гордыня, наблюдаемая нами в католичестве, не убежденность в том, что, обладая истиною, обладаешь полнотою ее. Пока существует такая самоутвержденность, никакое возсоединение невозможно, а именно она и типична для самосознания Запада.
Православная культура стоит таким образом на распутье. — Или она осуществит вселенское, всеединое дело чрез освоение актуализованного Западом („европеизацию“) и восполнение воспринимаемого раскрытием того, что является собственным ее идеальным заданием. Или она раскроет только это свое, т.-е. подобно Западу — ограниченно актуализует всеединство, отказавшись от полноты труда и бытия. Или, наконец, она останется на распутье в состоянии потенциальности, упорно ли не приемля чужого в закоснелости староверия или в чужом теряя свое, обезличиваясь в европеизации, в том и в другом случае погибая. Повторяю, доныне она потенциальна, почему и нет данных для прогноза, хотя, конечно, можно привести факты в подтверждение всех трех возможностей и я, лично, склонен верить в частичное осуществление первой. Не притязаю на звание пророка и ясновидца — их и без меня достаточно — и, по глубокому внутреннему своему убеждению, полагаю, что надо не тешить себя гадательными мечтами о будущем, а действовать, как умеешь, в настоящем. Тем желательнее попытка хотя бы в самых общих чертах определить специфическое задание русской культуры, русскую идею. Вполне это невозможно в силу самой потенциальности нашей. Но, мне кажется, возможно частичное и приблизительное определение русской идеи путем установления того, в чем именно та, либо иная тенденция Запада ограничивает всеединство, чем она должна быть восполнена и восполняется ли эмпирически на Востоке.
Догма Filioque не просто плохое понимание theologumenon’a восточных богословов: „чрез Сына“ (per Filium, dia tu hyiu). В ней ограниченно и в ограниченности своей неприемлемо для нас выражается некоторая тенденция учения об абсолютном. И действительно, она пытается установить помимо сущностного единства абсолютного еще особое „ипостасное“ единство, восполняющее троичность ипостасей и, само собой разумеется, разпространяющееся и на Духа Святого. Если так, то она открывает нам путь к более полному учению о триединстве, как самом абсолютном, и, следовательно, к лучшему обоснованию идеи всеединства. Ипостасное единство ипостасей может быть понято лишь в том смысле, что каждая из них в себе — обе другие, т.-е. все Божество, откуда получается возможность полного абсолютирования сотворенного Отцом чрез Сына и освященного Духом бытия. Тогда эмпирия уже не призрак, не преходящее явление (средство), а в то же самое время и не что-то самодовлеющее. Она — божественна, поскольку существует или причаствует Божеству чрез Христа и Духом, всецело божественна для Бога и — в идеале или заданности — для себя самой, когда приемлет полноту Божественности. В формулировании этого основного положения и вытекающих из него выводов — задача православного сознания. А „выводы“ связаны с преодолением западного философского миропонимания, односторонностей рационализма и эмпиризма, и с установлением нового отношения к реальности: реальность обладает абсолютной ценностью и должна быть всецело абсолютирована в каждом из своих моментов. Знаменательно и то, что на Западе ипостаси преимущественно называются лицами. Это опять-таки указывает на абсолютное обоснование личности в триединстве и на отражающее ипостасное единство их взаимоотношение. И православная культура должна сочетать присущее ей признание ценности всякой личности с присущим Западу более четким и определенным пониманием личного начала.
Итак, эмпирическое бытие обожа́ется или абсолютируется чрез Христа силою Духа Святого. Забывая о Духе, сошедшем на Марию, католичество выдвигает догму непорочного зачатия. Но, заблуждаясь догматически, оно отмечает нечто очень важное. Дева Мария понимается церковью, как индивидуализация самой Церкви, Софии или тела Христова, т. е. человечества. По человечеству своему Христос — сын Церкви-Софии, т.-е. человечества, им же обожа́емого. От Марии он получает свое тело, в ней становится человеком. Но он должен стать всецелым Человеком, не человеком в греховной ущербленности. А потому и „тело“ его должно быть возполненным или обо́женным. Утверждением возполненности этого тела (т.-е. человечества) и мотивирована внутренно католическая догма. Она ошибается, измышляя непорочное зачатие там, где уже есть сошествие Св. Духа на Марию, и понимая возполнение чисто отрицательно — как непорочность. Но она ценна тем, что подчеркивает обо́женность человечества и реальность, а не только за данность его. Равным образом и католическое учение о церкви и восприятие католичеством Христа главным образом со стороны его человечества ценны потому, что подчеркивают значение эмпирически-конкретного, земной деятельности, которою склонно пренебрегать восточное христианство. Однако именно необходимость обращения во всякий момент к абсолютному настоятельно требует преодоления ограниченности западного эмпиризма и решительного отказа от суррогатов всеединства, именуемых идеалом прогресса.
Так раскрывается истинный смысл общественной деятельности, как актуализации всеединства в каждом моменте бытия, а само всеединство постигается в его всевременности и всепространственности, что не изключает, а предполагает полное напряжение эмпирической деятельности, в которой Запад выдвигает эмпирическое и Восток абсолютность. Вместе с этим даже атомизация всеединства в области мирообъяснения, религиозности и этики до известной степени оправдывается как неизбежная в реальной разъединенности мира. Понятно, что в связи со всем сказанным необходимо принципиально новое понимание жизни и культуры, ориентируемое не на гадательное эмпирическое будущее, а на настоящее, и завет: „довлеет дневи злоба его“, обнаруживается как основание не только индивидуальной, но и общественной этики; только „довлеет“ не в смысле „довольно делать и можно поспать“, а в смысле „делай немедленно“. Наконец, и самоутверждение Запада вскрывает свою правду в том, что самоутверждение и самоопределение приемлется в смысле необходимо (хотя и не в ограниченности своей) восполняющего самоотдачу момента. Оно учит ценить и беречь свое, а не уподобляться старорежимному обывателю, который, в опьянении пав на землю, выразил свою законопослушность и жертвенность классическим обращением к городовому „Бери, твое счастье!“
Не стану подводить итоги — они сами собой вытекают из развитых мною соображений, как не стану пояснять и иллюстрировать сказанное анализом того, что принято называть культурою, — руководствуясь вышереченным читатель и сам, если захочет, сможет это сделать. Укажу в заключение лишь на некоторые характерные черты русского народа, в данное время, по крайней мере — до данного времени главного носителя православной культуры.
Уже неоднократно отмечалось тяготение русского человека к абсолютному. Оно одинаково ясно и на высотах религиозности и в низинах нигилизма, именно у нас на Руси не равнодушного, а воинствующего, не скептического, а религиозного и даже фанатического. Русский человек не может существовать без абсолютного идеала, хотя часто с трогательною наивностью признает за таковой нечто совсем неподобное. Если он религиозен, он доходит до крайностей аскетизма, правоверия или ереси. Если он подменит абсолютный идеал Кантовой системой, он готов выскочить в окно из пятого этажа для доказательства феноменализма внешнего мира. Один возводит причины всех бед к осуждению Синодом имяславия, другой — к червеобразному отростку. Русский ученый, при добросовестности и вере в науку, нередко пишет таким ученым языком, что и понять невозможно. Русский общественный деятель хочет пересоздать непременно все, с самого основания, или, если он проникся убеждением в совершенстве аглицкой культуры, англома́нит до невыносимости. Русский не мирится с эмпирией, презрительно называемой мещанством, отвергает ее — и у себя и на Западе, как в теории, так и на практике. „Постепеновцем“ он быть не хочет и не умеет, мечтая о внезапном перевороте. Докажите ему отсутствие абсолютного (только помните, что само отрицание абсолютного он умеет сделать абсолютным, догмою веры) или неосуществимость, даже только отдаленность его идеала, и он сразу утратит всякую охоту жить и действовать. Ради идеала он готов отказаться от всего, пожертвовать всем; усумнившись в идеале или его близкой осуществимости, являет образец неслыханного скотоподобия или мифического равнодушия ко всему.
Итак — абсолютность идеала и сознание, что идеал лишь тогда ценен, когда целиком претворим в жизнь, истинно-философское понимание единства теоретической и практической истины. И заметим, что само многообразие конкретных идеалов тоже чрезвычайно показательно, как проявление смутной интуиции всеединства. При отсутствии веры в идеал мы опускаемся до звероподобного бытия, в котором все позволено, или впадаем в равнодушную лень. При недостатке энергии, вообще нам свойственном, возлагаем надежды на то, что „все само образуется“, сами же и пальцем не хотим двинуть, пренебрегая окружающей нас эмпирией, которою не стоит заниматься, раз предстоит абсолютное. При избытке энергии — лихорадочно стараемся все переделать, предварительно выровняв и утрамбовав почву. Отсюда резкие наши колебания от невероятной законопослушности до самого необузданного, безграничного бунта, всегда во имя чего-то абсолютного или абсолютированного. Отсюда бытовая наша особенность — отсутствие быта, безалаберность и неряшливость жизни.
Но рядом с этим русскому человеку свойственно ощущение святости и божественности всего сущего. Он преклоняется перед фактом, перед тем же поносимым им Западом. Он боится, готовый оправдать все, резких определений и норм, смутно чуя ограничение, скрытое во всяком определении и во всякой норме. Он не любит вмешиваться в течение жизни, предпочитая мудро выжидать. И не веря ничему определенному — слишком резкая определенность и есть выражение наибольшей неопределенности — он все призна́ет, отказываясь от себя самого. А в этом отказе от себя, в „смирении“ — условие исключительной возприимчивости его ко всему, гениальной перевоплощаемости, которая — в порыве к идеалу — сочетается с безпредельной жертвенностью.
Мы мудро выжидаем, а выжидая ленимся. Русские люди действительно ленивы, что весьма соответствует потенциальности всей русской культуры. Не свободна от лени и вызывающая ее сосредоточенность на абсолютном, созерцательность национального характера. Вселенские задачи по самой природе своей сразу не осуществимы. Пока же „все само собой образовывается“, стремление к абсолютному становится вялою мечтой лежебока, а абсолютное теряется. Если же нет абсолютного, утрачивают всякий смысл нормы нравственности и права, ибо вне отношения к абсолютному для русского человека ничего не существует. Потеряв веру, он чувствует, что „все позволено“, или старается убедить себя в этом превозмоганием последних граней, становится вороватым, пакостником, преступником. И ему уже не до смирения — он бахвалится и чванится, не до стыда — он озорничает, художественно воплощая свое озорство в образе „камаринского мужика“.
Мы переживаем самый, может-быть, глубокий кризис нашей исторической жизни, наш ХІІІ–ХѴІ век. Возможно, что мы его не переживем. Положение наше опаснее, чем положение Запада в поворотный момент его истории. — Мы не самоутверждением привыкли жить, а неполная, пассивная самоотдача грозит полною потерею себя. Но если велики опасности, велики и надежды, и в них надо верить, исходя из идеи всеединства. Исходя же из нее, мы поймем, что будущее в настоящем и что настоящее само по себе обладает непреходящею ценностью. Путь к цели человечества лежит только чрез осуществление и целей данной культуры и данного народа, а эти цели, в свою очередь, осуществимы лишь чрез полное осуществление каждым его собственного идеального задания во всякий и прежде всего в данный момент его бытия. Личная этика не отрывна от этики общественной и покоится на тех же самых началах. Обе подчинены положению: „довлеет дневи злоба его“ и обе определяют моральную приемлемость или неприемлемость акта и идеала теми плодами, которые они приносят. Только то будущее, которое и сейчас проявляется в добре, должно быть целью деятельности.
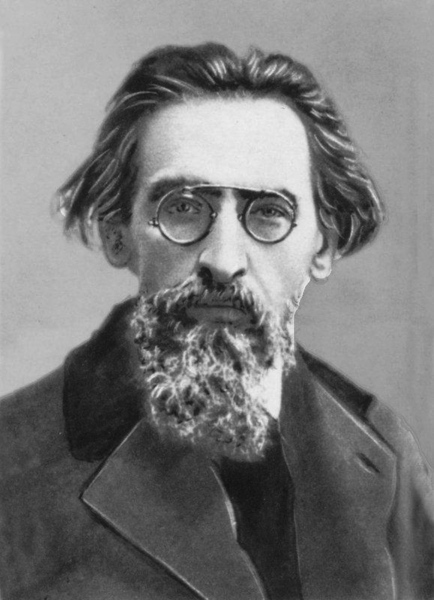
Русский религиозный философ, историк-медиевист, поэт.
1882–1952
☆☆☆
-
Введение в историю (Теория истории) изд. „Наука и Школа„ Петр. 1920. См. также С. Л. Франк, „Очерк методологии общественных наук“. М. 1922. ↩
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.