Искусство кино
Мой опыт
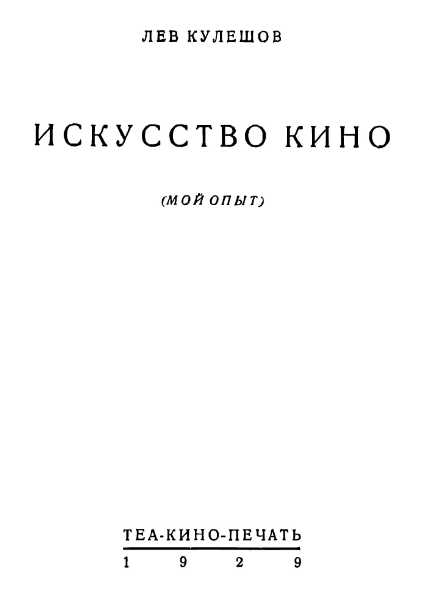
Содержаніе:
Кинематографии у нас не было — теперь она есть. Становление кинематографии пошло от Кулешова.
Формальные задачи были неизбежны, и Кулешов взялся за разрешение их. Его заклевали за то, что он пионер, за то, что силы его были всецело устремлены в четком направлении, за то, что иначе он делать не мог.
Работа велась в атмосфере невероятной расплывчатости. Для того, чтобы прорваться сквозь тягучую путаницу зарослей саргассов, нужно было отточенное лезвие бритвы. Отсюда аскетически суровая направленность в том, что делал Кулешов.
Кулешов первый кинематографист, который стал говорить об азбуке, организуя нечленораздельный материал, и занялся слогами, а не словами. В этом его вина перед судом расплывчатых мыслителей.
Некоторых из нас, работавших в группе Кулешова, определяют как „переплюнувших“ своего учителя. Такое заявление чрезвычайно неглубоко. Мы на его плечах прошли через саргассы в открытое море.
Мы делаем картины, — Кулешов сделал кинематографию.
Пудовкин. Оболенский. Комаров. Фогель.

Предназначаю „Искусство кино“:
- зрителю,
- директорам кино-фабрик,
- кинематографистам.
Зрителю потому, что ему необходимо знать о кино-культуре, о методах и приемах построения фильм. Прочтя книжку, он будет лучше видеть картины, лучше читать их, лучше в них разбираться.
Директорам потому, что „Правления уходят, искусство остается“. Помимо устройства киноаппарата, ателье, лаборатории, канцелярии, проката и бухгалтерии директор производства должен быть наскоро знаком с кино-культурой, при чем не меньше, чем зритель. Лучше знакомство по книжке, чем полное отсутствие опыта.
Кинематографистам потому, что мы не должны строить работу только на личном опыте и на „художественном вдохновении“. Пройденные пути, опыт товарищей должен быть учтен и изучен. Я хочу помочь этому чем могу.
Лев Кулешов
І. Монтаж, как основа кинематографии
Цель моей книги — ознакомить читателя с методами моей работы — работы кулешовской группы.
Я буду говорить не о состоянии этого метода на сегодняшний день, а о том, как этот метод развивался и в какие формы он вылился. Дело в том, что та работа, которую я проделал на кинематографе и которую проделала наша группа, началась 11–12 лет тому назад, и только в последние годы, благодаря революции, благодаря перемене всех производственных установок, удалось добиться значительных результатов.
Сначала приходилось очень трудно, и я считаю нужным отметить все те этапы, по которым продвигалась наша работа.
К началу империалистической войны русский кинематограф достиг довольно больших размеров; он начал производить товар, который шел на рынок и давал определенный доход. На кинематограф бросилась масса людей — актеров, режиссеров, сценаристов, операторов, жаждущих легко заработать на новом деле, но кинематографическая промышленность в России была настолько не организована, что туда бросились люди большею частью авантюристического склада. Таким образом, кинематографические работники представляли собой конгломерат из бандитов, авантюристов, людей очень неопределенных занятий и неопределенного общественного положения, а самое главное — людей, лишенных каких бы то ни было знаний, которые стремились во что бы то ни стало выжать из кинематографа деньгу и совсем не интересовались его культурным продвижением и развитием.
Вместе с тем, кинематографом стали страшно увлекаться, писать о нем в газетах и журналах. Одни говорили, что это и есть настоящее искусство, другие — что кинематограф не искусство, а вообще ерунда и т. п.
Появились поверхностные статьи, поверхностные восторженные отзывы и даже как будто критическая борьба, но все это было совершенно несерьезно.
И вот тогда группа людей, интересующаяся одинаково со мной серьезно кинематографом, поставила перед собой целый ряд вопросов и взялась за их разрешение. Прежде всего, мы сказали себе, что для того чтобы определить, что такое кинематограф, нужно узнать те специфические свойства и те специфические средства достижения впечатления на зрителя, которые присущи только кинематографу и ничему больше.
Скажем, если мы будем рассматривать какую-нибудь другую область искусства, например, музыку, то мы найдем в ней определенный звуковой материал. Звуков в природе чрезвычайно много, и эти звуки, этот музыкальный материал композиторами приводятся в определенный порядок, ставятся в определенную зависимость друг от друга, т.-е. организуются в некую форму — гармоническую, ритмическую, и, таким образом, получается музыкальное произведение.
Нам так же было совершенно ясно то, что делается в живописи: имея материалом формуй цвет, она организует их, и во всех других видах художественных ремесел совершенно так же точно можно было определить материал данного ремесла, способ его обработки и способ его организации.
Когда же мы стали разбираться в кинематографической картине, то в это время нам очень трудно было определить, что является её материалом, как этот материал организуется, как главное, основное впечатляющее средство кинематографа, чем отличается кинематограф от всех других видов зрелищ и от других видов художественных ремесел. Но нам было совершенно ясно, что кинематограф обладает своим специальным свойством воздействия на зрителя, потому что кинематографическое воздействие на зрителя резко отличалось от воздействия других зрелищ, оно было присуще только данному ремеслу.
Тогда мы начали разбирать картины и начали рассматривать, как они составлены; и для того чтобы определить главную силу кинематографического воздействия, мы взяли один кусок картины, разбили его на составные части и стали обсуждать, где и в чем лежит та самая кинематографичность, которая определяет основное в кинематографическом построении.
Представьте себе, что мы берем кусок ленты, в котором великолепные актеры, на великолепных декорациях разыгрывают великолепные сцены. Оператор эту сцену очень хорошо заснял. Мы посмотрели этот кусок на экране, и что же мы увидели? Мы увидели живую фотографию очень хороших актеров, живую фотографию очень хороших декораций, очень занятную сцену, занятно придуманный сюжет, замечательную фотографию и т. д., но ни в одном из этих элементов нет кинематографа. Совершенно ясно, что кинематограф — это такая штука, такое фотографическое приспособление, которое демонстрирует движение; а то, о чем я говорил, ничего общего с понятием о кинематографе, о кинематографической картине не имеет. Мы видим, что тут никаких особенных способов и средств кинематографического воздействия на зрителя нет. Придя к этим очень туманным выводам,—которые говорили нам, что в том, что мы рассматривали, кинематографа нет, нет никаких, ему одному присущих, особенностей, — мы стали продолжать наши исследования. Мы отправились по кинематографическим театрам и стали наблюдать, какие и как сделанные картины производят максимальное воздействие на зрителя, т.-е. посредством каких картин, каким методом сделанных картин мы можем овладеть зрителем и, следовательно, довести до его сознания то, что нами задумано, то, что мы желали показать, и так, как мы этого желали. Нам тогда было совершенно не важно, полезно ли это воздействие зрителю, или же вредно, — нам только важно было найти самое средство кинематографической впечатляемости, и мы знали, что если мы это средство найдем, то уж сумеем направить его туда, куда нужно. Мы решили начать наши наблюдения с центральных театров, но нам с самого начала стало ясно, что от этих театров будет очень мало толку для наших наблюдений. Во-первых — потому, что туда ходила более богатая публика, а- у богатой и воспитанной публики считается плохим тоном проявлять свои чувства: надо сдерживаться, как можно меньше реагировать на происходящее. Во-вторых, в дорогие театры, в те времена, ходили больше из романтических побуждений — там было темно, там были ложи и все это создавало удобную обстановку для приятного времяпрепровождения с хорошей знакомой или с хорошим знакомым. И в третьих, в дорогие театры очень большой процент зрителей ходил из побуждений психопатического характера, т. е. шли посмотреть „душку Полонского“, „душку Максимова“, „душку Холодную, Коралли“ и т. д.
Публика более дешевых театров хуже воспитана, гораздо грубее, гораздо непосредственнее, лишена психопатизма и потому гораздо ярче реагирует на то действие и зрелище, которые происходят перед ней. Поэтому, если ей нравится какой-нибудь момент в картине, то эта публика хлопает в ладоши, кричит, что это хорошо; если ей что-либо не нравится, она свистит и громко возмущается. На этой публике нам легче было наблюдать и подводить итоги своим наблюдениям. И вот оказалось, что больше всего нравились, во-первых, не русские картины, а картины заграничные.
Последние больше всего привлекали зрителя и заставляли его на себя реагировать. Это объяснялось очень просто. Дело в том, что техника построения заграничных картин гораздо выше техники построения картин русских; в заграничных картинах более ясная и четкая фотография, более тщательный подбор актеров, занимательнее и богаче сама постановка, и поэтому заграничные картины уже одной своей чистотой и своей технической стороной привлекали большее количество публики, чем русские картины. Из заграничных же картин максимум воздействия, больше всего шума и аплодисментов вызывали американские картины. Когда для нас стало очевидным, что американские картины в отношении воздействия на зрителя стоят на первом месте, мы принялись за их изучение; мы стали разбирать уже не отдельные куски картины, а изучать всю её конструкцию. Мы брали две картины, скажем — американскую картину и противоположную ей русскую картину, и увидели, что разница между ними чрезвычайно большая. Оказалось, что русская картина состоит из очень небольшого количества длинных кусков, снятых с одного места. Американская же картина состояла в то время из очень большого количества коротких кусков, снятых с разных мест, при чем, прежде всего, это объяснялось тем, что американский зритель за ту монету, которую он платит за вход в театр, желает получить максимум впечатлений, максимум зрелища, максимум действия. В американской картине надо было в определенный метраж накрутить чорт знает сколько событий и показать их самым выгодным и удобным способом, потому что, повторяю, за свой доллар американец желает получить полное зрелище.
И вот, благодаря этому коммерческому складу американских фильм, благодаря самому темпу американской жизни, гораздо более быстрому, чем темп русский и европейский, благодаря всему этому, в американских картинах бросается в глаза то, что они состоят из целого ряда мельчайших кусков, из целого ряда мелких сцен, склеенных в какой-то определенной последовательности, в противоположность русским картинам, которые в то время состояли из очень небольшого количества длинных сцен, чрезвычайно монотонно следующих друг за другом.
Работая дальше, проверяя воздействия картины на зрителя, сравнивая американские картины с русскими, мы убедились в том, что основное средство воздействия на зрителя через кинематограф, средство, присущее только кинематографу, — это не просто показ содержания данных кусков, а организация этих кусков между собой, их комбинация, конструкция, т.-е. соотношение кусков, их последовательность, сменяемость одного куска другим. Вот это и является основным средством кинематографического воздействия на зрителя.
Не так важно содержание кусков само по себе, как важно соединение двух кусков разных содержаний и способ их соединения и их чередования.
В американских картинах, Так как куски очень быстро сменяются один другим, — эти комбинации смен и чередований ощущаются зрителем ясно. В русских же картинах куски сменяются необычайно медленно, и та сила воздействия, которая должна бы быть от этих чередований, в русских картинах несравнимо слабее, чем в американских. Представим себе, скажем, забор, выстроенный верст на 10 длиной; первая половина этого забора выкрашена в красную краску, а вторая — в зеленую. Человеку, раскрасившему этот забор, важно добиться от человека, идущего мимо забора, осознания смены двух этих цветов — соотношения зеленого и красного, — понимания того, как они вместе звучат и воспринимаются. Представьте себе, что вы идете 5 верст вдоль зеленого цвета, потом он сменяется красным и 5 верст вы идете вдоль красного цвета; теперь представьте себе, что забор еще длиннее, — и дальше, еще на 5 верст, идет синий цвет; пока вы дойдете до синего цвета, вы забудете, что перед красным был зеленый, потому что вы потратили невероятное количество времени на восприятие одного и того же цвета. Если же этот забор будет через каждый аршин менять свой цвет — зеленый, красный, синий, зеленый, красный, синий и т. д. — 15 верст, — вы все время будете воспринимать комбинацию данных трех цветовых соотношений.
То же самое происходит и в кинематографе: на длинных кусках, на длинном чередовании сцен вы не видите всей конструкции, всей организации кинематографического материала. На коротких кусках, на быстром чередовании — соотношение отдельных частей, общая организация для вас чрезвычайно ясны: вы её сразу воспринимаете.
Итак, мы поняли, что средство воздействия на зрителя лежит в системе чередования кусков, составляющих кино-картину.
Склейка в установленном порядке кусков, из которых сделана картина, технически называлась монтажем. Поэтому мы объявили в 1916 году, что основным средством кинематографического воздействия на зрителя, т.-е. тем средством, над которым нам нужно, прежде всего, работать (отметая на некоторое время все другие кинематографические элементы, может быть — на несколько лет вперед), — является монтаж, т.-е. чередование кусков между собой.
Монтаж — организация кинематографического материала.
Отсюда стало совершенно ясно, что отдельные куски, отдельные составные части картины еще не есть кинематограф, а это есть только материал для кинематографа. Мы знаем, конечно, что к изготовлению этого материала нужно будет предъявлять самые строгие требования и что нужна будет чрезвычайно напряженная работа для того, чтобы этот материал был самого высокого качества. Но тогда у нас не оказалось на это времени, потому что настолько все было полно театральности, неверного подхода к кинематографу, что было полное отсутствие понимания кинематографичности, что необходимо было временно отмести работу над самим материалом, признать её ненужной для данного момента, для данных лет, а все внимание, всю работу нужно было направить на организацию материала, на организацию картины, т.-е. на монтаж.
Поэтому мы тогда провозгласили не совсем верную вещь, а именно; что не важно, как сделаны куски, а важно только то, как эти куски собраны, как собрана картина. Пусть материал будет скверный, важно только хорошо сорганизовать его.
Тогда это был определенный политический шаг. Иначе нельзя было пробить брешь в тех мозгах, от которых зависела наша работа, потому что сразу всего масштаба они охватить не могли. Не могли и мы победить на всех фронтах сразу. Основная война нашей кинематографической партии, которую мы объявили,— это была война за монтаж, зато, что он является основой кинематографа, а не отдельные куски, не материал, который стоит на втором месте и которым нужно заниматься во вторую очередь.
Короткий монтаж был тогда назван американским монтажем, длинный монтаж — русским.
Помимо того, что американцы строили свои картины на принципе быстрого монтажа, они показали еще новые, совершенно неведомые нам вещи. Эти вещи заключались в следующем. Предположим такую сцену: человек сидит в комнате за письменным столом; начинает думать о неприятном, решает застрелиться, вынимает из ящика письменного стола пистолет, подносит его к виску, нажимает собачку, пистолет стреляет — человек падает.
В России такую сцену снимали таким образом: ставили аппарат, перед аппаратом декорации, и рассуждали так: человек живет в комнате, — нужно построить комнату; 4-х стен не выходит, — построим 3 стены; в комнате должны быть окна и двери,— строим окна и двери; в комнате бывают обои, на обоях цветочки, — оклеиваем стены обоями. На стенах развешаны картинки. На окнах стоят цветы. В комнате должен быть шкаф, печка. Все это мы ставим; письменный стол украшается письменными принадлежностями, как бывает в жизни.
У стола сидит актер, изображает, что ему очень скверно, вынимает из ящика пистолет, подносит его ко лбу и стреляет. Оператор всю эту сцену снимает, проявляет, её печатают, показывают на экране, и когда зритель смотрит на экран, то он рассматривает одновременно — занавески на окнах, картинки на стенах и т. д., он видит маленького актера среди большого количества вещей, и в то время, когда актер изображает самые ядреные психологические переживания, зритель может рассматривать ножку письменного стола или картину, которая висит на стене, т.-е. у зрителя получается необычайная раздробленность учета того, что происходит на экране.
Американцы снимали совершенно по-другому: они каждую отдельную сцену разбивали на монтажные куски, на ряд составляющих эту сцену кусков, при чем каждый отдельный момент они снимали таким образом, чтобы в нем видно было только то, что определяет действие, только то, что категорически необходимо. Даже на общем плане они строили декорации так, чтобы в них не было подробностей. Если им нужно было добиться впечатления комнаты, они добивались этого какой-нибудь одной деталью. Если рисунок обоев не имел никакого рабочего задания, если он не должен был работать, то стены затемнялись, делались черными, а в свете оставлялись только те предметы, которые были необходимы для данного случая.
Кроме того, они снимали все сцены, так называемым, крупным планом, т.-е.: когда нужно было показать лицо страдающего человека, они показывали только лицо; если этот человек выдвигает ящик стола и вынимает револьвер, то они показывали ящик стола и руку, вынимающую револьвер; когда нужно было нажать собачку, они снимали палец, который нажимает собачку, потому что остальные предметы и вся та среда, в которой работает актер, для данного момента были неважны. Этот способ снимать только тот момент движения, который нужен в данном куске, и не снимать остальное — был нами назван способом „съёмки американскими планами“, — и он также был положен в основу той новой кинематографии, которую мы собирались делать.
Следовательно, перед тем, как начать нашу экспериментальную работу и добиваться каких-то новых результатов, мы объявили наш первый рабочий лозунг, который заключался в следующем: отдельные куски кинематографической картины являются кинематографическим материалом. Мы не имеем никакой возможности заниматься обработкой кинематографического материала и поэтому на определенное время заявляем, что кинематографический материал для нас как бы не существует, и нам безразлично, какой он. Сейчас мы работаем над способом организации данного материала, т.-е. над монтажем, потому что монтаж есть главная сила кинематографического воздействия, это есть то, что присуще одному только кинематографу, и максимум впечатлений достигается путем монтажа, при чем должен быть монтаж не простых сцен, а сцен, снятых американскими планами, т.-е. таких сцен, в которых каждый данный кусок показывает то, что необходимо видеть зрителю, и показывает самым крупным, самым ясным способом.
Вот те основные положения, которые были нами выдвинуты при начале нашей работы. Это было лет 10–11 тому назад.
Сейчас мы занимаемся в кинематографе уже совершенно другим. Но все то, чем мы сейчас занимаемся, родилось из этих основных предпосылок.
Метод, о котором я только что говорил, привел к довольно большим результатам: все лучшее, что сделано на советском кинематографе, сделано по этому методу. Вся европейская и советская кинематография работает этим методом, при чем родоначальником его являются американцы. Сейчас мы, развив и использовав то, что было создано американцами, переносим работу на другой фронт, — на фронт кинематографической культуры. Но если бы в наших руках не было основ впечатляющего воздействия кинематографа, то, конечно, мы никогда не смогли бы добиться никаких результатов, потому что, не владея кинематографическим материалом, мы ничего не могли бы дать.
Теперь я возвращусь опять к старому. Установив необходимость прежде всего работать над монтажей, мы начали разбираться в самом монтаже и устанавливать основные его свойства и приемы.
То, о чем я буду сейчас говорить, я думаю, всем покажется просто смешным, настолько это наивно, примитивно и общеизвестно. Но в то время (а это было совсем недавно) это казалось таким невероятным „футуризмом“, что с ним боролись самым жестоким образом. И вот, нашей группе и товарищам, с которыми я работал, и мне самому из за того, что мы были такими формальными революционерами, приходилось очень часто прекращать работу. У меня дело доходило до того, что я дома не имел ни денег, ни башмаков, и все это только потому, что я проводил определенную кинематографическую идею, которая никак не воспринималась кинематографическими обывателями.
Первое свойство монтажа, которое сейчас абсолютно для всех ясно и которое в то время приходилось с пеной у рта и невероятной энергией доказывать, заключается в том, что монтаж дает возможность параллельных и одновременных действий, т.-е. — что действие может одновременно происходить и в Америке, и в Европе, и в России, — что можно параллельно монтировать 3–4–5 сюжетных линий, а в картине они будут собраны в одном месте. Эта элементарнейшая вещь 10 лет тому назад требовала невероятной борьбы за её утверждение.
Все основные принципы монтажа, о которых я буду говорить, были впервые применены мною в картине „Проект инженера Прайта“. Снимая „Проект инженера Прайта“, мы были поставлены в некоторое затруднение: нам нужно было, чтобы действующие лица — отец и дочь — шли по полю и видели бы ферму, на которой держатся электрические провода. По техническим обстоятельствам мы не могли этого снять в одном месте. Пришлось отдельно снять ферму в одном месте, отдельно снять идущих по лугу отца с дочерью в другом месте; сняли, как они смотрят наверх, как говорят про ферму, как идут дальше. Снятую в другом месте ферму мы вставили в проход по лугу.
Это — самая обыкновенная, самая детская вещь, которая делается сейчас на каждом шагу.
Оказалось, что монтажей можно делать даже какую-то новую земную поверхность, которой нигде не существует: здесь на самом деле не ходили эти люди и здесь не было этой фермы, но в картине выходило, что люди идут и ферма находится перед их глазами.
Через несколько лет мной был сделан более сложный эксперимент: была снята сцена. Работали её Хохлова и Оболенский. Они были сняты так: Хохлова идет в Москве по Петровке около магазина Мосторга, Оболенский идет по набережной Москва-реки — это на расстоянии 3-х верст. Они увидели друг друга, улыбнулись и пошли друг другу навстречу. Их встреча снимается на Пречистенском бульваре; бульвар этот находится совершенно в другой части города. Они жмут друг другу руки на фоне памятника Гоголю и смотрят; здесь монтируется кусок из американской картины — „Белый Дом в Вашингтоне“. Следующий кадр — они на Перечистенском бульваре: решают итти, уходят и поднимаются по большой лестнице храма Христа Спасителя. Мы снимаем их, монтируем, и получается, что они поднимаются по лестнице в Белый Дом в Вашингтоне. Мы демонстрировали эту ленту, этот кусок, и всем было ясно, что Мосторг стоит на берегу Москва-реки, что между Мосторгом и Москва-рекой Пречистенский бульвар, где стоит памятник Гоголю, а против памятника — Вашингтонский Белый Дом. При этом — не было сделано никакого фокуса, никакой двойной экспозиции; эффект этот был достигнут исключительно организацией материала, методом его кинематографической обработки. Данная сцена доказала невероятную силу монтажа, который, действительно, оказался настолько могущественным, что сумел изменить коренным образом материал. Из этой сцены понятно, что главная сила кинематографа — в монтаже, потому что монтажем можно и разрушить, и наладить, и окончательно переделать материал.
Теперь дальше: когда мы снимали эту сцену, то во время съёмки недоставало одного куска — не было здоровавшихся Хохловой и Оболенского, которые в данный момент отсутствовали. Тогда мы взяли пальто Оболенского, пальто Хохловой — и сняли на фоне памятника Гоголю две чужие руки, как они здороваются друг с другом. Мы вмонтировали эти руки, и так как перед этим были показаны Хохлова и Оболенский, то замена осталась абсолютно незаметной.
Это навело меня на мысль о втором эксперименте. В первом эксперименте мы создали произвольную земную поверхность; при одной линии действия, мы создали произвольную декорацию; при втором эксперименте — мы оставили фон один и тот же, линию движения человека одну и ту же, но перекомбинировали самих людей. Я снял девушку, которая сидит перед зеркалом, подводит глаза и брови, красит губы, надевает башмак.
Одним только монтажем нами была показана девушка так, как в природе, в действительности она не существует, потому что мы сняли губы одной женщины, ноги другой, спину третьей, глаза четвертой. Мы склеили куски в определенной связи между собой и получился совершенно новый человек при наличии полной реальности материала. Данный пример также показывает, что вся сила кинематографического воздействия — в монтаже. Никогда вы не достигнете одним только материалом таких абсолютно небывалых, казалось бы, невероятных вещей. Это невозможно ни в каком другом зрелище, кроме кинематографа, при чем достигается это не фокусом, а только организацией материала, только приведением его в тот или иной порядок. Возьмем более простой опыт: человек стоит около двери, — это снимается общим планом; затем переходим на крупный план — и крупным планом снимается уже голова другого человека; таким образом, вы можете к фигуре Наты Вачнадзе приклеить лицо А. Хохловой, при чем это опять таки будет не фокус, а монтаж, т.-е. организация материала, а не технический трюк.
Когда у нас получились такие реальные достижения, когда мы почувствовали за собой уже определенную силу, мы установили еще две вещи. У нас перед этим был спор о том, зависит ли от монтажа то, что актер переживает в данном психологическом состоянии. Говорили, что уж этого-то монтажем не переделаешь. У нас был спор с одним крупным кино-актером, которому мы говорили: представьте себе сцену — человек сидит долго в тюрьме и изголодался, потому что ему не дают есть; ему приносят тарелку щей, он необычайно радуется этой тарелке и лопает.
Другая сцена: человек сидит в тюрьме, ему дают есть, его хорошо кормят, он сыт по горло, но тоскует по свободе, по птичкам, по солнцу, по домикам, по облакам, ему открывают двери, выводят его на улицу, ион видит и птичек, и облака, и солнышко, и домики и радуется этому. Вот мы и спрашивали этого актера: лицо реагирующего на суп и лицо реагирующего на солнышко — будут ли в кинематографе одинаковы, или нет. И нам возмущенно было отвечено: ясно всякому, что реакция на суп и реакция на свободу будут совершенно различны.
Тогда мы сняли эти два куска и — как бы я куски эти ни переставлял и как бы их ни рассматривали, — никто никакой разницы в лице этого актера не увидел, при чем игра его была абсолютно различна. При правильном монтаже, если даже взять игру актера, направленную на другое, — это все равно будет доходить до зрителя так, как нужно монтажеру, потому что сам зритель дорабатывает этот кусок и видит то, что ему внушено монтажем.
Я видел в картине, кажется, Разумного, такую сцену: квартира попа, и в ней висит портрет Николая ІІ-го; город занимают красные; испугавшийся поп переворачивает портрет, а на обратной стороне царского портрета — портрет улыбающегося Ленина, при чем это известная мне карточка, на которой Ленин никогда не улыбался, но в картине это место настолько смешное и его так весело принимала публика, что я сам, несколько раз проверяя портрет, видел, как портрет Ленина смеялся. Я этим специально заинтересовался, взял портрет, который снимали, и увидел, что выражение лица на портрете было серьезно. Монтаж был так проделан, что мы невольно насыщали серьезное лицо тем выражением, которое этому игровому моменту было присуще, т.-е. путем монтажа изменилась работа натурщика. Таким образом, монтаж имел колоссальное влияние на работу материала. Работу актера, его движения, его поведение оказалось возможным менять монтажем в ту или иную сторону.
Когда мы начали делать свои, построенные на монтаже, картины, то на нас накинулись: „Помилуйте, вы совершенно сумасшедшие футуристы, вы показываете картины, составленные из мельчайших кусков, в глазах у зрителей получается невероятный кавардак — куски скачут один за другим и настолько быстро, что никак нельзя разобраться в действии“. Мы учли это и стали думать, — каким же образом можно комбинировать куски, чтобы не было этих скачков и мельканий. Скажем: по куску движется поезд, при чем он движется с правой на левую сторону экрана, и в последней клетке предыдущего куска поезд занимает некое положение в левом углу экрана; в первой же клетке последующего куска новый предмет занимает некое положение в правом, углу экрана; если вы эти куски склеите, те перескок глаза с одной стороны экрана на другую даст впечатление скачка, даст нервное раздражение, которое будет беспокоить зрителя, не даст ему впечатления легкого перехода.
Таким образом, линии движения последней клетки предыдущего куска и первой клетки последующего — должны совпадать; если же они не будут совпадать, то обязательно получится скачок.
Если вы снимаете круглый предмет, а монтируете его с квадратным, то это должно быть учтено; если вы снимаете большое лицо, а монтируете с чуть-чуть меньшим, это тоже должно быть учтено: тогда у вас не будет никаких мельканий и скачков. Если же этого учета не будет, то у вас получится раздражающий глаза ералаш.
ІІ. Материал кинематографии
Перейдем теперь к разбору кинематографического материала. Мы с вами бегло прошли временную категорию построения кинематографической картины; теперь перейдем к разбору пространственной категории.
Если мы с вами возьмем написанный художником на полотне стул, при чем — написанный самым лучшим художником, самыми лучшими красками, на заграничном холсте, при чем все будет сделано очень реально и очень хорошо, и если вы будете смотреть на это изображение стула, то вы будете восторгаться, потому что стул вышел прямо-таки замечательный и очень похож на настоящий. Попробуем снять этот нарисованный стул на кинематографе. Затем возьмем настоящий, реальный стул, поставим его в настоящем пространстве, осветим его и также снимем на кинематографе.
Если мы сравним эти два стула на экране, то увидим, что настоящий стул, если он снят правильно, вышел очень хорошо. Если же мы посмотрим кусок, где заснят стул, изображенный художником на полотне, то никакого стула мы там не увидим; мы увидим полотно, фактуру полотна и нанесенные в различных комбинациях краски, т.-е. мы увидим тот материал, на котором и которым сделано изображение стула. Повторяю, что на экране выходят только реальные вещи, т.-е. соотношения различных красок, полотно, плоскость, — но стула, как такового, стула, находящегося в трехмерном пространстве, того стула, который был изображен художником на полотне, — на экране не будет.
Из этого примера совершенно ясно, что кинематографическим материалом являются, прежде всего, реальные вещи, находящиеся в реальном окружении; условный материал, условное изображение стула в кинематографе не выходит.
Теперь дальше. Попробуем снимать человеческую работу, например — работу актера Камерного театра или театра Мейерхольда, или Художественного театра. Попробуем на ряду с этим снять работу обывателя, или просто возьмем обывателя и заставим его разыграть ту же сцену, которую разыграл актер. Содержание сцены: грузчик грузит мешки с мукой на пароход. Это трудовой процесс. Значит, мы имеем куски совершенно различные по своему человеческому составу и одинаковые по содержанию, по работе.
Когда мы просмотрим все эти куски на экране, то увидим, что работа актера Камерного театра или театра Мейерхольда не будет доходить с экрана, потому что в ней имеется целый ряд таких нарочитых, неестественных для кинематографа движений, которые сами по себе являются условными и не дают той реальности материала, которая для кинематографа обязательно нужна. То, что будет делать актер Камерного театра, совершенно не похоже на нормальный трудовой процесс, на жизнь, а похоже только на театр: фотография на куске будет живым изображением театра со всеми условностями и негодными для кинематографии элементами.
Далее, если мы посмотрим работу актера Художественного театра, то увидим, что она к кинематографу подходит гораздо больше, и что выходит она значительно лучше, выразительнее, естественнее. Однако, если начнем разбирать её по косточкам и следить за всем, что делается в этом куске, то увидим, что, в конечном счете, сущность работы актеров Камерного и Художественного театров одна и та же; работа последнего максимально приближается к жизненным, реальным формам, а первого — максимально от них отдаляется, но и та, и другая не являются тем реальным материалом, который для кинематографа нужен.
Если мы возьмем простого человека, не имеющего никакого отношения к театру, и заставим его проделать то, что нам нужно, то увидим, что работа его на экране выйдет все-таки лучше, чем работа театрального актера, и даст более реальный материал, из которого легче будет строить потом кинематографическую картину. Если вы, наконец, снимаете организованный трудовой процесс, то этот кусок — и только этот кусок! — даст настоящие кинематографические результаты. Если вы снимаете настоящего грузчика, который грузит тюки на пароход, то увидите, что он старается работать самым выгодным для себя способом, для того чтобы в кратчайшее время, с наименьшей затратой сил выполнить работу. Вследствие долгих лет работы, у него появилась привычка стандартизованного, выработанного жеста: он ловко берет мешки, просто вскидывает их на плечи, хорошо, просто и экономно их тащит, сваливает и т. д., и т. д. Такая работа дает на экране самые ясные, самые выразительные, самые четкие результаты. Конечно, со всеми предыдущими моментами, со всеми предыдущими кусками этот кусок нельзя и сравнивать, так как все предыдущие куски дадут меньший эффект: они или насыщены театральной условностью, или полны обывательского неуменья обращаться с предметами, — неуменья сидеть, ходить, вскакивать в трамвай и т. д., и т. п.
Лучше всего, естественно, на экране выйдет специалист по бегу, если вам нужно снять бег, — специалист по ходьбе, если вы снимаете ходьбу. Если мы будем снимать какой-нибудь трудовой процесс, то только хорошо натренированный специалист по данному трудовому процессу даст самые выразительные результаты.
Дальше. Вы снимаете, например, осенний пейзаж: имеется полуразвалившаяся хижина, облака на небе, тут же какой-нибудь прудик. На ряду с этим вы снимаете железнодорожный мост. Просмотрев оба эти куска на экране, вы увидите, что, для того чтобы разобраться в этом живописном пейзаже, для того чтобы его разглядеть и разобраться. в нем, нужно очень большое количество метров, так как все в нем немножко наклонно, немножко изломано и уж очень много в нем всяких предметов.
Для того же, чтобы сразу понять конструкцию и основные линии железнодорожного моста, нужно гораздо меньше времени, потому что вы оперируете с очень простыми формами и направлениями, которые быстро читаются с экрана. Для того, чтобы показать такой пейзаж и зритель его рассмотрел бы, нужно, скажем, 10 метров, а для того, чтобы показать железнодорожный мост, нужно 3 метра.
Вот, исходя из всех этих соображений, можно уже наметить ту основную линию, которой следует придерживаться при изучении кинематографического материала. Кинематографический материал должен быть необычайно прост и организован. Если картина построена монтажно, то каждый кусок идет некоторое, очень короткое, время. Для того чтобы в данное короткое время рассмотреть, сообразить и учесть все, что показывается, нужно давать содержание данного куска в необычайно конкретных выражениях и, значит, необычайно организованно.
Почему же для этого не годится работа театрального актера, которая тоже происходит в некоторой организованной форме? Потому что вся работа театрального актера сводится к совершенно другим, абсолютно противоположным кинематографу движениям. Дело в том, что зритель н зале театра видит актера с различных точек зрения: с правой стороны первого ряда и с левой стороны галерки; один сидит близко, другой далеко, — и, для того чтобы работа театрального актера доходила до всех зрителей более или менее одинаково, у актеров вырабатывается особый стиль жеста, так называемый — широкий жест. Например, если актеру нужно вытаращить глаза, то он их таращит таким образом, чтобы их молено было разглядеть с самого дальнего места; если нужно сделать какой-нибудь жест рукой, то он его делает так, чтобы самый дальний зритель и справа, и слева, и с середины мог бы увидеть данное движение. В течение большого количества лет театральная культура на этом строилась. Она не могла не учитывать того, ч.то актер работал на сцене для зрителей, занимающих огромную площадь, огромное количество точек зрения, и на всю эту площадь нужно было строить работу по законам, диктуемым техническими условиями — конструкцией театрального здания. Когда театр стал развиваться, то и тогда, какого бы он ни был стиля и направления, — все равно: подсознательно этот закон, это правило обслуживания зрителя, сидящего перед сценой, все время существовали и накладывали печать на всю театральную технику. Какой бы ни был актер, и как бы его работа ни приближалась к реальному (а кинематографически материал, безусловно, — реальность: реально существующие, реально расположенные вещи), — все равно: законы театра накладывают печать на его технику.
Кинематограф же построен иначе. В кинематографе. каждый зритель видит действие только с одной точки зрения — точки зрения объектива; он видит действие не со своего места, а с того, на которое он поставлен режиссером, так как режиссер, монтируя и снимая картину, берет зрителя как бы за шиворот и, скажем, сажает его под паровоз и заставляет видеть с точки зрения паровоза, затем — сажает на аэроплан и заставляет видеть пейзаж с точки зрения аэроплана, или же заставляет крутиться вместе с пропеллером и видеть с точки зрения крутящегося пропеллера. Таким образом, зритель в кинематографе все время швыряется режиссером с одного места на другое и — то приближается к предмету, то находится в движении, то в недвижимости и т. д и т. д. Следовательно, зритель в кинематографе видит совершенно иначе, на совершенно других основаниях, чем театральный зритель. И театральный актер, как бы культурен он ни был для работы, в кинематографе абсолютно не пригоден, так как техника его построена на совершенно обратных, противоположных кинематографу принципах.
Условия съемки с одной точки зрения дают возможность чрезвычайно точного восприятия. Скажем, имеется угол поднятия руки — и все зрители в кинематографе этот угол поднятия увидят совершенно одинаково, в то время как в театре этого сделать нельзя, так как там движения воспринимаются вообще, а не с какой-то определенной точки зрения. Следовательно, техника театрального актера совершенно противоположна технике кинематографического актера.
Для того чтобы в театре показать, что человек стреляет из пистолета и убивает своего противника, — достаточно вынести картонный пистолет, ударить раз в барабан, человеку закачаться, противнику, которого застрелили, упасть, продолжая дышать, и все зрители, даже самые требовательные зрители Художественного театра, будут совершенно удовлетворены, и им будет казаться, что все это так и происходит. Следовательно, чтобы показать в театре то или иное событие, достаточно его разыграть, изобразить. Для того чтобы то же самое показать в кинематографе, — необходимо, чтобы данное событие реально произошло.
Здесь на помощь приходит кинематографическая техника. Благодаря ей, возможны такие невероятные вещи, которые, казалось бы, немыслимо исполнить. Возьмем, например, драку. Конечно, нужно было бы, чтобы артисты дрались по-настоящему: чтобы вскакивали синяки, чтобы били изо всех сил по морде. Если же вы будете только изображать драку, то на экране ничего не получится. Получится: как будто бы закачался человек, как будто ему больно, как будто бы они дерутся. Но благодаря кино-технике, вы можете на экране совершенно реально воспроизвести драку, при чем, для того чтобы её заснять, не нужно, чтобы актеры дрались по-настоящему. Они могут драться с тем же количеством напряжения и с тем же направлением всех ударов и движений, как и в настоящей драке, — но, уменьшив скорость съёмки, вы одновременно можете уменьшить скорость движения актерской работы, и поэтому на экране будет казаться, что актеры дерутся по-настоящему, и это не нарушит их доброго здоровья. Затем, прибавив к уменьшенной скорости их работы увеличенную скорость на экране, вы получите совершенно реальное воспроизведение драки. Возьму другой пример. Нужно, скажем, изобразить мертвого человека, который не дышит. Мы всегда можем сделать неподвижный кадр, и человек не будет дышать. Снять человека на фото, потом с фото переснять на кино-пленку. Нет почти такого положения, которого нельзя было бы сделать настоящим, реальным событием, и эти положения, безусловно, выходят очень хорошо в кинематографе. Но как только вы начнете что-либо изображать, представлять, — вы сейчас же получаете в кинематографе театральную фальшь; вы получаете такой же эффект, который получился от нарисованного стула. Вы не будете иметь настоящего смысла, настоящего движения, — получите движение условное, а условность в кинематографе совершенно не выходит, — выходит только тот реальный материал, которым она выражена.
Вот эта необычайная любовь кинематографа к реальному материалу и объясняет то, что в последнее время имеется такое тяготение к хронике. Есть люди, которые ничего, кроме хроники, не признают в кинематографе, вне зависимости от своих основных убеждений.
Почему это происходит?
Потому что в хронике дается максимально реальный материал и все происходит абсолютно реально и по-настоящему. Но и в хронике, если вы будете показывать хаотические, неорганизованные движения по неопределенным линиям и направлениям, то зрителю придется тратить огромное количество энергии, для того чтобы разобраться но всем хаосе, происходящем в четырехугольнике экрана. Для того чтобы зритель мог ясно и просто читать с экрана то, что ему предлагается, для этого нужно движение и направление движений на экране показывать в некоторой организованной, а не в хаотической форме, при чем — материал должен быть не только реальным, но и организованным на данном четырехугольнике, на данной плоскости, которая в кинематографе постоянна.
В кинематографе мы всегда имеем плоскость с определенным отношением сторон, и для этой плоскости, для этого четырехугольника очень легко вывести свои законы. Если вывести эти законы и следовать им, то что бы ни происходило на экране — будет чрезвычайно легко читаться зрителем.
Представьте себе, что мы имеем четырехугольник экрана, и на этой плоскости происходит какое-то примитивное движение. Если это движение будет параллельно нижней и верхней сторонам экрана, то положение данного движения по отношению ко всем граням экрана и по отношению к данной плоскости чрезвычайно легко прочесть. Если движение-линия резко наклоняется и идет под углом в 45°, вы его чрезвычайно просто и ясно прочтете и вам ясен будет его наклон и направление. Если же наклон будет варьироваться чрезвычайно незначительно, то эти уклончики и изменения по отношению к данному четырехугольнику вы будете читать с чрезвычайным трудом.
Таким образом, если вы на экране построите движение по основной прямой параллельно верхней и нижней сторонам и по основной прямой, параллельной правой и левой сторонам, т.-е. перпендикулярной предыдущим, а также по косым, соединяющим все эти квадратики, то все направления для вас будут необычайно ясны, необычайно просто прочитываемы, и на них нужно будет тратить очень маленькое количество пленки. Если в получившуюся сетку будут вписывать кривые на основе данного движения, то кривые также будут легко восприниматься. Чем больше будут усложнять строение сетки, чем больше запутывать, — тем больше энергии и времени нужно потратить на то, что показывается на экране. Вот почему железнодорожный мост или городской пейзаж, построенные на очень определенных линиях, читаются гораздо яснее и отчетливее, нежели пейзаж с облаками, деревьями, водичкой, травой, домами и т. п., потому что линия дома чуть-чуть кривая, облака — не круглые и не квадратные, форма всего этого настолько неопределенна, что нужно потратить массу времени, для того чтобы ясно и отчетливо прочесть на экране то, что нужно. В конечном счете — вы от этого пейзажа не добьетесь такого впечатления, как, например, от выстрела из револьвера. Кадр должен действовать, как знак, как буква, чтобы вы его сразу прочли и чтобы зрителю было сразу исчерпывающим образом ясно то, что в данном кадре сказано. Если зритель начинает путать, то кадр свою роль — роль знака, буквы — не выполняет. Повторяю, отдельный кадр должен работать так же, как отдельная буква, при чем буква сложная, например, — китайская. Кадр — это целое понятие, и оно должно быть немедленно прочтено от начала до конца.
Для того чтобы довести до зрителя данный кадр, как знак, нужно потратить очень много организационного напряжения, а для этого имеется чрезвычайно мало средств. В кинематографе вы имеете определенную плоскость — четырехугольник экрана, нет глубины цвета стереоскопичности. Поэтому, для того чтобы дать максимальную выразительность знаку, нужно с максимальной экономией использовать данную плоскость экрана, т.-е. на экране не должно быть ни одного лишнего места, и если вы показываете вещь, которая не может занимать всю площадь, то все лишнее должно сходить на нет. Экран должен быть максимально насыщен и до конца использован. В нем не должно быть ни одного миллиметра неработающего пространства. Каждый кусочек, каждая клеточка на экране должна работать, при чем работать организованно, в простых, ясных и выразительных формах.
Эти соображения привели к созданию технической тренировки кинематографического актера. Об этой технике, об этой школе я сообщу позднее, а сейчас отклоняюсь немного в сторону, потому что иначе дальнейшее не будет понятно. Поговорим о следующем: мы установили, что в кинематографе должен работать реальный материал. Изображать, притворяться, играть — невыгодно, это очень плохо выходит на экране. Если человек курносый и вы гумозой сделаете ему длинный нос, то на крупном плане подделка будет совершенно ясна, и нос будет не настоящий, а наклеенный. Если вам нужен высокий, толстый человек, а у вас актер худой, и если вы худого актера набьете подушками, ватой и т. п. штуками, то в результате на экране вы получите совершенно бесформенное ватное чучело, движения которого никак не будут соответствовать основной конструкции его фигуры, т.-е. получится на экране определенная фальшь, театральность, бутафория, игра.
Исходя из этих положений, нами было своевременно объявлено, что: из-за того, что техника актерской работы в кинематографии совершенно отличается от техники театральной, и из-за того, что в кинематографии нужен реальный материал, а не игра под реальность, — из-за этого в кинематографии должны работать не актеры, а, так называемые, натурщики, т.-е. люди, которые сами по себе, по тому, как их сделали папа и мама, — представляют какой-то интерес для кинематографической обработки. То-есть — человек с характерной внешностью, с определенным, ярко выраженным характером есть кинематографический натурщик. Человек же с обыкновенной нормальной внешностью, каким бы красавцем он ни был, — ненужный кинематографический материал.
В кинематографии все строится на определенных взаимоотношениях людей с различными характерами. Для того чтобы человек оправдал то, что он делает, для этого у него должен быть соответствующий вид. Никак нельзя хорошего актера заставить перевоплотиться, переделаться в другой тип, потому что в кинематографии никакой грим, никакая бутафория не выходят. Нельзя низкого человека сделать высоким, худого — толстым и т. д. Поэтому совершенно ясно, что кинематографическая картина в основе должна делаться из той группы подобранных людей, которые представляют собой интересный материал для кинематографической обработки.
Если данный человек высокого роста умеет так сокращаться в мышцах, что может стать человеком маленького роста, то это высшая степень перевоплощения. Если человек с приподнятой конструкцией бровей может в данный момент сделать брови опущенными, то этот человек вполне приемлем в кинематографии. Натурщик может перевоплощаться сколько ему влезет, но постольку, поскольку все это делается на основе реального материала. Поскольку же все это будет делаться внешне, путем наклеек, утолщений и изменений искусственных, а не мускульных, постольку это для кинематографии неприемлемо. Я здесь оговорюсь; можно, конечно, раскрасить женские губы, приклеить бороду почти незаметно, потому что техника приклеивания бороды достаточно совершенна… Опыт показал, однако, что если снять актера с приклеенной бородой, то она выйдет гораздо хуже бороды настоящей.
Если действительно подходить к обработке игры актера, то следует максимально приближаться к хроникальному материалу и создавать настоящий реальный материал. Далее. Если мы имеем таких людей, на которых нужно делать кинематографические пьесы и сценарий, то на этом строится вся работа сценариста и режиссера, потому что они определяют собой характер вещи. Если мы имеем в группе высокого и худого человека и очень толстого, то это уже само собой определяет целый ряд сюжетов, но если, скажем, сюжет будет требовать какого-нибудь третьего человека, а его у нас нет или он специально не тренирован, то результат получится настолько слабый, что бесполезно придумывать вещи на несуществующий материал. Всякую вещь нужно строить на подходящем материале, например, — если в Батуме будут снимать картины на материале северного полюса, то ничего из этого не получится. То, что относится к натуре, относится и к людям.
Эти натурщики, которые должны работать в художественном кинематографе, не могут просто проделывать ту работу, которая задана по сценарию. Они должны проделать эту работу самым лучшим, самым организованным способом. Все, что они делают, все трудовые процессы их должны быть четки, ясны и просты, убедительны и максимально организованы, потому что иначе они не могут быть хорошо прочтены с экрана.
Я приведу еще один пример, который часто наблюдал в кино-школе. Когда приходит человек, желающий готовиться на кинематографического натурщика и ему говоришь, что в комнате жарко— откройте форточку, — он начинает изображать жару, подходить к воображаемому окну, играть — будто бы он открывает форточку и т. д., и т. д. Он не может проделать обыкновенной реальной работы — взяться за настоящую форточку и по-настоящему её открыть, при чем сделать это максимально хорошо, максимально просто, как всякую другую деланную работу, которая должна быть выполнена самым лучшим способом. Иногда к этой схеме работы добавляется та характерность движения, которая определяет тип, но и это делается физическим способом, а не игровым, — например: движениями не по прямым, а по кривым линиям, движениями угловатыми или плавными, но сама схема расположения данной работы все равно должна происходить в организованной форме.
Теперь возвращаюсь к тому, с чего я начал. Все эти соображения и создали школу кинематографического воспитания человека. Прежде всего, для того чтобы натурщика научить действовать организованно управлять своим механизмом и, следовательно, выполнять всякое рабочее задание, которое ему дано, — для того чтобы учесть весь механизм работы, всю механику движений, — мы разбили человека на составные части. Дело в том. что количество движений человека так же не ограничено, как. и количество звуков в природе. Для того чтобы сыграть любое музыкальное произведение, — достаточно определенного, ограниченного диапазона — системы звуков, на основании которого и можно строить любое музыкальное произведение. Точно так же можно создать какую-то одну систему человеческих движений, на основе которой можно строить любое задание на движение.
Мы разбили человека на основные сочленения.
Движения же членов сочленения рассматриваем, как движения, происходящие по трем основным осям, по трем основным направлениям, как, например: голова на сочленении шеи.
Движения по первой оси — движение головы вправо, влево. Это жест, соответствующий отрицанию. Движение по второй оси — вверх, вниз — жест, соответствующий утверждению.
Движение по третьей оси — наклоны головы к плечу.
Глаза имеют одну ось, по которой движение — вправо и влево, вторую — вверх и вниз; третьей оси, к сожалению, нет, и вращение глаза кругом есть комбинация из осей первой и второй.
Ключица имеет движение плеча по первой оси вперед и назад, по второй — движения нет, а по третьей — движение вверх, вниз.
Плечо и вся рука от плеча имеют движения: по первой оси — впереди назад, по второй —вверх и вниз, по третьей — движение „скручивания“ и „ввинчивания“.
Дальше идут остальные сочленении; локоть, кисть, пальцы; талия, потом нога — бедро, колено, ступня. Если человек будет двигаться по всем основным осям своих сочленений и по комбинациям их, то его движения можно записать, и если его движения ясно выражают комбинацию этих осей, они просто будут читаться с экрана, и работающий человек сможет все время учитывать свою работу, будет знать, что он делает.
Как актер учитывает свою работу по отношению к той среде, которая его окружает, так и среда эта должна быть соответствующим образом учтена. Та среда, в которой работает актер, есть пирамида, верхушка которой опирается в центр объектива. Это пространство, — которое берется объективом под углом в 45–50–100 градусов и которое должно быть помещено на четырехугольнике экрана, — может быть разделено на такие основные клеточки, квадратики, которые составят канву для движений с таким расчетом, чтобы они занимали очень ясное и легко читаемое положение по отношению к четырехугольнику экрана.
Если человек работает по ясно выраженным осям своего механизма, а движения по этим осям распределяет по делениям пространства, рассчитанного на экране — по „пространственной сетке“, то вы получите максимальную ясность, максимальную чистоту в работе натурщика. Вы очень легко, как на стеклышке, прочитаете все, что он делает на экране.
Если надо проделать целый ряд трудовых процессов, то каждый трудовой процесс должен быть максимально организован, а организовать его очень легко, благодаря наличию сетки, а также благодаря наличию осей человеческого механизма. Для того чтобы человек научился, не думая, работать по осям и по данной сетке, существует своего рода гимнастика, своего рода тренаж, который приводит человека в такое состояние, в какое приводит тренаж при езде на автомобиле, Весь секрет управления автомобилем заключается в том, что человек управляет им бессознательно, т.-е. он не знает, когда нужно переводить скорость, так как все это делает механически, инстинктивно.
Плох тот шофер, который думает — когда нужно выжимать конус и переводить скорость; а хороший шофер на вопрос, сколько раз он переводил скорость в течение одного выезда, никогда не сможет на него ответить, так как он делает это механически. Точно так же в результате такой тренировки получается квалифицированный кинематографический актер, у которого вся техника рассчитана на удобное чтение своей работы с экрана.
Работая по осям, необходимо помнить, что все кино-действие есть ряд трудовых процессов. Весь секрет сценария и заключается в том, чтобы автор давал ряд трудовых процессов, при чем: и наливать чай — трудовой процесс, и даже целоваться — трудовой процесс, так как в этом есть определенная механика.
Повторяю: только организованная работа выходит хорошо в кинематографии.
Повторяю: такой натурщик, который не может изменить своей внешности работой своих мускулов и недостаточно кинематографически тренирован, такой натурщик для работы в кинематографе не годен.
ІІІ. О декорациях
Я начал свою кинематографическую работу в качестве художника-постановщика декораций. Работать пришлось с режиссером Евгением Францевичем Бауером над картиной „Тереза Ракен“. Когда мне было дано предварительное задание, я сделал эскизы, принес их на фабрику. В них очень тщательно были разделаны и разукрашены орнаменты, окна, вывески и пр. детали пассажа — главной декорации в картине. Все то, что я показал, понравилось, как „миленькие картинки“, но вместе с тем меня разругали самым беспощадным образом. Оказалось, что постановка кинематографической декорации заключается не в том, чтобы так или иначе разукрасить стенки, а в конструкции, в построении самой декорации, т.-е. в том, каким образом декорация распланирована, в какой зависимости стенки её друг от друга. Важен план комнаты, её построение, а не отделка, не внешний вид. Чем больше всевозможных углов, переходов, лестниц, чем больше всяческих изменений, хотя бы в обыкновенной жилой комнате, тем это интереснее для съемочного аппарата, потому что углы, переходы, пролеты, лестницы, площадки дают возможность максимально использовать кинематографический свет и наиболее интересно, наиболее выразительно строить актерскую игру. Работа художника должна заключаться не в том, чтобы давать эскизы общего вида декорации, а в том, чтобы вычертить, построить, размерить планы арены кино-действия.
Обычно, когда художники приходили в кинематограф, они подходили к постройке декорации чисто живописно, тогда как передовые декораторы строили свои декорации более архитектурно, нежели живописно, и ими был выдуман очень важный для кинематографической декорации прием использования первого плана, заключающийся в том, что характер декорации, сущность, смысл её выражались в первом плане, находящемся перед самым аппаратом.
На первом плане ставилась какая-нибудь крупная вещь — или колонна, или арка, или какой-нибудь другой характерный предмет; при чем предмет выбирался так, что он определял собою свойства и особенности всей декорации. Оказалось, что первопланная декоративная деталь очень увеличивала перспективу, делала фотографию пластичнее и восприятие декорации более рельефным, а так как кинематограф склонен уменьшать глубину и стереоскопичность, то это свойство оказалось чрезвычайно полезным. Я в то время особенно увлекался использованием этого метода. Я все время думал, как бы найти первопланную диковинную вещь, чтобы сделать декорацию особенно характерной и интересной. На фабрике родился специальный термин: „диковинка“ и все, что придумывалось для первого плана, называлось этим именем.
Следующим этапом в работе над декорацией было использование уже имеющегося декоративного материала. Дело в том, что все время строить новые и новые декорации, новую мебель, новые украшения обходится чрезвычайно дорого, да и, и конце-концов, это не дает такого уже большого художественного результата, а материальные затраты не оправдывают себя ни художественно, ни коммерчески. Пришлось думать над утилизацией уже имеющихся декоративных элементов в самом ателье или в том месте, где декорации строятся. Мною тогда была поставлена декорация вокзала, которая была сделана следующим образом: с одной стороны была стеклянная стена ателье, очень похожая на стеклянную стену перрона, куда приходят поезда, а с другой стороны стояла стенка, построенная из деревянных щитов, поставленных обратной стороной. Эти щиты, с изнанки перегороженные и укрепленные рейками, я выкрасил серой краской, и они дали впечатление бетонной стены, скрепленной железными перекладинами.
Художником Егоровым для картины „В море“ была поставлена декорация, изображающая пароход. Он сделал её чрезвычайно просто: построил трубу от парового котла, потом вытяжную трубу от пароходного вентилятора, сделал перила палубы, расчистил все ателье и в конце его поставил обыкновенный таз с водой. Вся декорация была на фоне черного бархата и таким образом освещена, что луч света падал в таз с водой, давая световой блик на воде: вода дрожала, поблескивая рябью. Первый план — труба, вентилятор и перила были также освещены, а все остальное затемнено. На экране получалось полное впечатление, что действие происходит на пароходе, находящемся на море: вода в тазу под умелым светом давала полное впечатление, полную иллюзию морского пейзажа.
После первых опытов по постройке декорации я перешел к изучению режиссерской работы. Занимался в первую очередь экспериментами над монтажем и игрой натурщиков.
Таким образом, работа над декорацией отошла на второй план. С ней снова пришлось столкнуться только тогда, когда я практически начал делать режиссерские опыты над постановкой картин быстрого монтажа. Поскольку в этих картинах приходилось учиться у американцев, так как вся монтажная культура шла из американского кинематографа, постольку пришлось изучить и американское декоративное оформление, познакомиться с его характерными свойствами, с его особенностями.
С этого момента наступает новый период в работе над декорациями: планировка перспектив упрощается, а на первое место выдвигается материал и качество материала, т.-е. не просто берутся стенки, которые обклеиваются теми или иными обоями с рисунками, а уже использовывается материал стенок, т.-е. прежде всего принимается во внимание, из чего эти стенки сделаны.
Пробы начались с максимального использования досок. Приходилось строить сараи или внутренние помещения таким образом, чтобы стенки и щиты покрывались не обоями, а обшивкой из досок, при чем если нужна была бедная или простая комната, доски подгонялись одна к другой и никак не отделывались; если нужна была богатая комната, тогда доски строгались, красились, покрывались лаком или морилкой, иногда заключались в отдельные рамы. Иногда в рамки — вместо досок, вбивалась целыми листами фанера, которая тоже представляла собой ровную гладкую деревянную поверхность ясно выраженного материала.
В картине „Приключения мистера Веста“ очень много было использовано щитков обратной стороной, потому что они уже представляют собой фанеру, заключенную в рамки и планки. Эти фанеры давали очень выразительный, ясный и приятный для глаза материал. Еще более заставляло делать деревянные декорации то, что щитки на наших фабриках — в особенности в то время, когда еще только начинала строиться после разрухи советская кинематография, — были в ужасном состоянии: кривые, косые доски, и обои, наклеиваемые на них, давали впечатление кривых изломанных стен, как бы их ни освещали. Когда же декорация делалась деревянная из досок или фанеры или из обратной стороны щитов, вид её при любом освещении был вполне доброкачественным.
Все эти постройки производились нами, все-таки, по сложному плану, т.-е. с большим количеством углов, переходов и изломов. Делалось это оператором, во-первых, для того, чтобы дать большой простор в использовании света и тени; во-вторых — детективные сюжеты картин того времени тоже требовали возможно больших изломов в декорации — или для того, чтобы можно было прятаться, подкрадываться, соскакивать, или чтобы были препятствия, которые можно было преодолевать, чтобы был материал для драки, преследования и т. п.
В дальнейшем, когда пришлось отойти от примитива американских детективов, когда американский монтаж был уже изучен, когда .была намечена элементарная техника натурщика, — мы перешли на более сложные задачи и по монтажу, и по сюжету, и по актерской игре. Этот переход сразу изменил или, вернее, уточнил наше отношение к декорациям. Нам стало ясно, что чем декорация менее заметна, чем меньше на нее внимания будет обращать зритель, чем меньше она будет мешать действию людей, вещей и пр., чем более она будет служить фоном, помогающим выявлять действие, — тем декорация будет лучше. Мы хотели, чтобы действие, т.-е. главное в кинематографической ленте, было наиболее ясно, рельефно, а фон затушеван и выполнял бы только вспомогательную работу.
Лучше всего человеческое лицо, предмет и всяческая работа по движению выходят на темном фоне; рельефнее всего предметы получаются на черном бархате: их лучше можно осветить, их лучше всего тогда видно. Поэтому, нам стало совершенно ясно, что если мы добьемся темных декораций или почти темных, то они представят собою самый удобный фон для движения и действия.
Особенно изобретать для этого ничего не приходится, потому что в лучших образцах мировой кинематографии уже в достаточной мере были использованы затемненные декорации. Мы видели в ряде заграничных картин только намеки на декорацию, как раз такие, какие необходимы для того, чтобы представить себе то место действия, в котором оно происходит.
Когда же снимаются крупные планы, когда натурщики или нужные предметы находятся вблизи от декорации, тогда нужно добиваться максимального выявления свойств материалов, из которых декорация построена, и чем лучше сделана фактура поверхности декорации, тем лучше получается результат: она выходит более настоящей, более реальной.
Таким образом, последний этап работы над декорацией заключается в том, что декорация строится из расчета на затемнение, на то, что она будет темным фоном для действия, и из расчета на максимальное выявление свойств её материала.
Стены покрываются штукатуркой или специальной мастикой. Используется мастика и штукатурка с гладкой поверхностью, с шероховатой поверхностью, с шероховатостью равномерной, шероховатостью грубой. То же самое и в отношении дерева: оно было использовано раньше, но только прежняя работа с деревянными поверхностями оказалась недостаточно тщательной. Дело в том, что раньше пробовали, для того чтобы выявить строение рисунка деревянной поверхности, покрывать дерево морилкой. Но морилка дает дереву очень резкий блеск: на экране получаются пятна, „ореолы“ слишком белые, слишком контрастные, а само строение — узор дерева — получается малозаметным.
Тогда перешли на покрытие дерева масляной краской. Если нужен был тот или иной узор, который давал представление, скажем, орехового или красного дерева, или корельской березы, — он делался уже в „разделку“ масляной матовой краской, т.-е. так, как делаются конторские двери и т. п. При чем глянцевая масляная краска не годна так же, как и морилка, потому что дает очень резкие блики и ореолы. Масляную краску необходимо делать с воском, — тогда она дает матовый отблеск, получающийся на экране очень ровным.
Одновременно с этим началось использование материи для покрытия стен, потому что обои, как уже раньше было сказано, почти всегда дают отрицательные результаты из-за кривизны щитов. Наиболее пригодным оказался вельвет, при чем, как говорят, даже наружные стены декоративных зданий американцы покрывают рубчатым бархатом-вельветом. Все эти глыбы и арки зданий, основные камни огромных построек, покрываются бархатом. Он обыкновенного серого цвета, дает чрезвычайно ровную поверхность, по которой очень плавно распространяется свет. Стены внутренних помещений, покрытые бархатом или сукном различного цвета, также дают спокойный фотографический тон, очень хорошо выходящий на экране. Любая декорация, как бы она ни была хорошо построена, погибнет при неумелом освещении. Поэтому последняя система работы с декорацией сводится к тому, чтобы фон декорации совершенно не освещать.
Декорация и фон должны быть возможно более простои конструкции и возможно более затемнены. Освещается, выявляется только то действие, которое происходит на фоне декорации, преимущественно задним светом. Декорация обыкновенно строится таким образом, что наверху стен, находящихся напротив аппарата, ставятся прожектора, которые просвечивают действие, происходящее на данном фоне. Общий рассеянный свет дается спереди и сбоку, при чем — таким образом, что у источника света — „юпитера“ — ставятся особые щиты, загораживающие падение света на стены декорации. А яркий эффектный свет, свет, дающий скульптурность всей снимаемой фигуре или предмету, — этот свет помещается сзади, т.-е. он светит с верха стенок по направлению к аппарату.
Такого рода съемки декораций дают самый выразительный результат, и самый большой процент стандартных кадров должен быть построен таким образом.
Если же приходится работать на светлых фонах, для того чтобы показать, как главное, самую декорацию, тогда необходимо применить для обивки щитов бархат или сукно, потому что материя даст возможность наиболее мягко, наиболее притушеванно распределить свет по стенкам.
На основе приведенных положений довольно правильно удалось поставить декорации в „Журналистке“. Художник Родченко, который со мною делал „Журналистку“, очень быстро понял мои требования и дал декорации, которые оператор Кузнецов в состоянии был осветить по-новому, таким образом, что они не мешали людям и вещам, не мешали основному действию, а помогали и упрощали его восприятие. Декорации в „Журналистке“ большей частью делались или темно-коричневого или совершенно черного цвета; некоторые декорации были сделаны ярко-красными. Они были освещены таким образом, чтобы чувствовалось присутствие стенок — даже рисунок на обоях; но в то же время декорация затемнялась настолько, насколько нужно для того, чтобы человеческое лицо или предмет очень ясно, очень рельефно выделялись на данном фоне.
Обыкновенно, когда приглашают художника в кинематограф, он считает своим долгом показать свою необычайную ретивость в декоративных изощрениях. Он ломает голову, чтобы придумать хитрую декорацию, эффектно разукрашенную, и бывает огорчен, когда режиссер или оператор мало снимают его декоративное произведение. Если снимать декорацию художника так, как ему хочется, то это будет фильма не о действии и не о сюжете картины, а фильма об измышлении и выдумке художника, потому что в таком случае декорация начинает превалировать над всем остальным, и уже все внимание зрителя переносится на нее. Так декорацию можно снимать только в том случае, когда она сама должна работать, как монтажный знак, как кусок сюжета, как сценарная деталь,— тогда, конечно, надо выявлять декорацию полностью. Когда же декорация никакого иного значения, кроме характеристики данного места действия, не имеет, тогда она должна быть показана самым экономным и самым не мешающим действию образом.
В „Журналистке“ впервые была использована необходимая скупость в расстановке вещей и деталей. Обычно раньше, если нужно было показать какую-либо комнату, то все то, что в жизни бывает в такой комнате, все это вешалось на стенки, становилось на столы, шкафы и т. п., и когда зритель смотрел эти загромождения, то он не разбирал ни актера, ни вещей в кадре, все путал, все мешал друг с другом. На то, чтобы все это разглядеть, нужно столько времени, сколько данный кусок продолжаться по условиям монтажа не может. Каждый кусок по действию имеет ограниченную длительность: он в монтажной конструкции имеет свое начало, имеет свой конец; он чрезвычайно точен по длине. А всякое загромождение лишними бытовыми вещами никакого характера декорации не дает: производит ужаснейшую кашу, все запутывает, и результат, конечно, получается плачевный.
Оказалось, что и сейчас так же, как 12 лет тому назад, в самом начале моей работы, нужно было найти „диковинку“, нужно было на 2–3 деталях подчеркнуть основной характер данной постройки.
Предметы в декорации нужны только те, которые необходимы для действия. Все то, что стоит, потому что просто полагается в данном случае стоять, или висит, потому что полагается в данном случае висеть, все это не нужно, совершенно легко убирается, давая возможность зрителю лучше воспринимать кадр.
Если, напр., в декорации — письменный стол, то на него полагается ставить и подсвечники, и фотографии, и пресс-папье, и статуэтки, разбросанные бумаги и т. д. Такой письменный стол выходит очень плохо: масса лишних вещей запутывает восприятие зрителя, заставляет его напрасно утомляться.
Если нужно поставить какие-нибудь безделушки, какие-нибудь нелепые вещи, для того чтобы показать, что хозяин данного стола — человек нелепый и имеет дело с нелепыми вещами, то для этого не надо накладывать целый ворох этих вещей: для этого достаточно одной характерной вещи, которая бы сразу все выразила.
Родченко уже приводил в своей статье о работе над „Журналисткой“ пример такого использования вещи. Когда нам нужно было построить декорацию комнаты актрисы, у которой журналистка что-то покупает, то, что мы ни пробовали, каких безвкусных вещей мы только ни натаскивали, — ничего не получалось. Когда мы все вынесли, все убрали и оставили только — на стене на полочке — стеклянного нелепого слона, а на диване в вазе — вешалку из-под платья, то этого оказалось достаточно для того, чтобы выявить всю сущность комнаты. А все остальное только путало и затушевывало характерные свойства этой комнаты.
Особенно удачными по декорациям из работ Родченко я считаю уже всем известные по журналам стулья в кабинете заседания Чугункомбината. Эти стулья получились особенно выразительными, потому что они чрезвычайно просто расположены в данном декоративном пространстве. Та самая метрическая пространственная сетка, о которой пришлось говорить, когда мы разбирали материал кинематографа и построение кадра, в полной мере касается и постановки декорации; стулья, поставленные на основании её законов, дали лучший кадр картины, Только ясное взаимоотношение предметов хорошо и легко читается с экрана. Чем проще расположение вещей в кадре, чем яснее расположение стенок и площадок, тем выразительнее, понятнее получается результат.
Одним из самых больных для советских фабрик вопросов в постройке декораций, — больных потому, что наши фабрики еще слишком бедны, — являлся вопрос о постройке пола. Пол в ателье обычно бывает из досок, при чем из таких, которые годятся только для изображения сараев или очень бедных комнат. В обыкновенных комнатах чаще всего нужен паркетный или простой ровный пол. Самый легкий способ — покрывать пол коврами, при чем, поскольку ковры бывают с рисунками, лучше всего их класть не лицевой, а обратной стороной — изнанкой. Изнанка не имеет рисунков и бывает из грубой сетки темно-серого цвета, выходящей очень ровной.
Добиться хорошего паркета или гладкого простого пола всегда было чрезвычайно трудно. До сих пор у нас делалось это следующим образом: бралась тонкая фанера, на ней рисовались масляной краской узоры паркета. Фанерные листы составлялись, потом покрывались лаком и получался игровой паркетный пол. Обыкновенно места стыка, места пригона этих фанерных листов бывают обломаны, изуродованы и паркет получается как бы сделанный из больших плит, плохо сходящихся друг с другом. Кроме того, такой паркет быстро пачкается, быстро грязнится и теряет свой рисунок— до того, что он становится совершенно незаметен, а блеск, который получается от лака по неровной поверхности фанеры, дает при фотографировании недопустимые ореолы и резкие белые пятна, а в результате — из такого пола ничего не получается.
До самого последнего времени ни одна советская ф-ка не сделала настоящего паркета, или паркета, составленного из листов толстой фанеры. Если сделать паркет из двенадцатимиллиметровой фанеры, нанести на него рисунки и не лакировать его, а натирать воском, т.-е. давать настоящий паркет — таким, каким он бывает в жизни, — то он, безусловно, будет фотогеничным. Кажется, только в картине Пудовкина „Конец Санкт-Петербурга“ такой опыт был сделан и дал очень хорошие результаты.
Раньше, когда я начинал работать в кинематографе, довольно эффектный пол делали на фабрике у Ермольева: накрывали его блестящей клеенкой, но, при неровности пола в ателье и при непрочности клеенки, этот способ мало себя оправдывал.
Самый изумительный пол, показанный в кинематографии, был сделан в „Розите“. Этот пол, совершенно как стеклянный, отражал фигуры в своей зеркальной поверхности. Как он был сделан, нам неизвестно. По всей вероятности, это был или стеклянный пол, или же очень хороший паркет покрывался жидким стеклом.
Заканчивая разбор декораций, перехожу к оператору, в контакте с которым должна происходить работа художника. Не зная основных приемов операторской техники, не зная в совершенстве использования солнечного и искусственного света, художник никогда не даст удовлетворительных построек для картины.
ІѴ. Работа оператора
Когда появились новаторские фото-работы с неожиданных точек зрения и к ним отнеслись, как к новому, — мы, левые кинематографисты, заявили, что никакого изобретения в этом нет.
Строя нашу кинематографию на американских образцах, на образцах самой совершенной для того времени в мире кино-культуры, мы у наших учителей давно уже видали примеры „новых“ точек зрения, „новой“ установки на фотографирование. Съемка с „пупа“ гораздо раньше показала свою несостоятельность, и наши учителя уже применяли с успехом другие методы, другие точки зрения.
Дело в том, что сама природа кинематографа диктовала нарождение новых приемов фиксирования кадра. А необходимое условие картины — наличие монтажа —заставляло кадры строить просто, ясно, отчетливо. Иначе — короткого времени „мелькания“ монтажного кадра не хватало бы на полное рассмотрение всего его содержания.
Поэтому наиболее четкие, убедительные кадры были технического и архитектурного содержания. Железнодорожные мосты, небоскребы, пароходы, аэропланы, автомобили и т. п. создали, выходя лучше всего, кино-эстетику того времени. Так же убедительно и четко выходят животные, организованные процессы человеческого труда, дети — в противовес актерам и актерству, живописным пейзажам и проч. красотам и искусству. Вот почему первые классические картины почти никогда не пользовались деревенскими сюжетами, а исторические — так плохо выходили. Позднее, когда надоел материал технический, когда американцы перегрузили им свой рынок, началась реакция: производство было заполнено историческими сюжетами и сюжетами бытовыми и деревенскими. Появились: „Ураган в Техасе“, „Виргинская почта“, знаменитый „Крытый фургон“ (Крюзе, а не Фрелиха). Картины эти вышли очень хорошими, хорошими потому, что к этому времени техника съемки стала чрезвычайно совершенной.
Первое же слово кинематографии требовало преимущественно технического материала. Таким образом, появившаяся мода на новые установки, на фото и материал для фото, для нас, кинематографистов, была несколько запоздалой. При чем — мы знали, что это новое возникает у нас в картинах из-за природы кинематографа, из-за его особенностей и технических свойств. „Эстетика конструктивизма“ нас ни в коей мере не увлекала. Жизнь показала, что, несмотря на колоссальную заслугу утверждения новой фотографии путем перенесения в нее приемов кинематографа, новаторы уперлись в тупик засъемки домов сверху и снизу.
Произошло это оттого, что новые фото-съемки возникли не органически, тогда как новые кино-съемки возникали органически, исходя из природы кино и кино-сюжетов.
Основная разница кинематографа и театра заключается в различном восприятии зрителем зрелища. В театре действие смотрится с различных, но для каждого зрителя постоянных точек зрения. Каждый сидит на своем месте, и каждый со своей собственной точки зрения видит спектакль, происходящий на сцене. В кинематографе зритель, хотя и сидит на стуле, не двигаясь, за него двигается и перемещается аппарат: кино-зрелище происходит перед ним не с его, зрителя, точки зрения, а с точки зрения передвигающегося аппарата.
Монтаж фильмы дает возможность показывать действие не только извне, а и с точки зрения самих действующих лиц.
Герой смотрит и видит то-то. Если герой наверху — на лестнице, на башне, — он видит действие сверху вниз, и обратно: смотрящий на него с земли, видит действие снизу вверх. Предмет или лицо можно показывать „мелко“, а в случае необходимости его особой отчетливости — показывать „крупно“ во весь экран.
Происходит драка; одного из действующих лиц переворачивают в разгаре драки — новая точка зрения: переворачивающаяся натура или декорация в глазах перевертываемого.
Так родились съемки в кинематографе с новых точек зрения.
Дальше: действие, происходящее перед аппаратом, должно быть снято так, чтобы его возможно было разглядеть.
Кадр не должен затруднять внимания лишним заполнением, а также не должен иметь неиспользованных пустых пространств. Пример: наши операторы не умеют расположить в кадре крупное человеческое лицо. Из ста случаев девяносто девять они снимают так, что над головой его остается пустое пространство, совершенно ненужное, нарушающее укомплектованность снимка.
Теперь представьте себе, что снимается массовая сцена: разговаривающая группа людей, к ним приближаются еще люди, образуется толпа. Толпа расступается, по образовавшемуся проходу идет человек. Если мы снимем всю эту сцену с обыкновенной точки зрения — с „пупа“, то на экране едва-едва разглядим намек на описанное мною действие. Произойдет это потому, что человеческие фигуры будут крыть друг друга; план действия, его пространственное оформление до зрителя не дойдет — потому, что не будет заснято аппаратом. Большая часть сцен будет происходить так, что действующие неминуемо будут „крыть“ друг-друга, заслонять. Поэтому очень часто рациональна съемка всяческого действия сверху, при чем — только в тех случаях, когда это существенно необходимо (как это было указано). Съемка сверху, кроме того, усиливает перспективу, что очень важно для экрана, так как кино-аппарат дает малую стереоскопичность.
Кино-кадр — не фотография. Кадр — это знак, буква для монтажа. Изменение нормальной точки зрения должно пользоваться режиссером с учетом работы кадра, как знака. Гордого человека можно снять снизу — ракурс подчеркнет, поможет выявить основную установку на гордость. Приниженного, подавленного человека можно снять сверху — подавленность усилится точкой зрения аппарата. Пример — работа Пудовкина в „Матери“.
Лишние вещи и лишнее пространство в кадре должны быть убраны. Пропорции экрана не всегда позволяет показать нужное действие так, чтобы оно поместилось на экране без излишнего окружения. Американцы для этого изобрели, так называемую, „американскую диафрагму“. Этот изменяющий свои размеры кружок ставится перед объективом кино-съемочного аппарата, и на экране получается черный фон со светлым кругом действия посередине. Темные края диафрагмы затушеваны, сходят на нет. (В аппарате есть еще внутренняя диафрагма, находящаяся между линзами объектива. Она служит для получения особой резкости и изменяет светосилу объектива).
При применении американской диафрагмы удается добиться особой компактности кадра. Все лишнее диафрагмой из него убирается. Глубоко ошибаются считающие съемку с американской диафрагмой красивостью и эстетизмом. У этой диафрагмы большое рабочее значение, и красоты рамочки она не дает и не должна давать. Конечно, если ею пользоваться неправильно, результат получится отрицательный. Все надо пользовать правильно — это не подлежит сомнению. Привожу примеры неправильного пользования американской диафрагмой.
Диафрагма слишком резка. Нельзя ею пользоваться на светлых, фонах, лучше всего её употреблять при съемках с темной декорацией или на темном фоне.
Ни в коем случае вместо диафрагмы нельзя пользоваться для ограничения кадра ,,кашэ́“, т.-е. пластинкой с различными вырезами, вставляемой перед окошечком съемочного аппарата и дающей эффект „виньетки“ из-за резких краев.
Плохо, если диафрагма употреблена не для ограничения кадра, не для удаления ненужного, а вообще для красоты.
Кашэ́ употребляется для того, чтобы показать действие, видимое сквозь замочную скважину, через бинокль и т. п., — тогда его рисунок имеет рабочее значение.
Американская диафрагма пользуется еще и для того, чтобы показать действие, происходящее в отдалении, в памяти, чтобы показать — „что видит“, в отличие от того — „кто смотрит“. То-есть: в этом случае она — условное обозначение, к которому все привыкли и как бы сговорились правильно понимать.
Как видно из всего сказанного, точки зрения съемок и различный характер фотографирования зависят не от оригинальничания и не от простого желания новизны во что бы то ни стало, а от органических и технических задач кинематографии.
Оператор и режиссер должны работать по-новому, но рассуждая, обосновывая то, что они делают, иначе — получится эстетизм и бессмысленная извращенность кадра.
Где-то в дебрях нашего кино-быта рождены „в глубине веков“ предрассудки и „правила“ классических приемов кино-операторов. Один от другого, ученик от учителя, товарищ от товарища передают бессмысленные, нелепые навыки и традиции. Как трудно, чтобы оператор, даже из самых квалифицированных, при настоящей работе сразу отбросил несостоятельные приемы.
Существует, например, теория, что при съемке пейзажа общим планом необходимо показать линию горизонта, да еще так, чтобы она отделяла одну треть (верхнюю) кадра. Неужели не достаточно примеров исключительно выразительных кадров, заснятых не с „горизонтальной третью?“
Товарищ Кузнецов (так прекрасно работающий со мной на двух картинах), разве не помните, как в начале нашей работы мы спорили о линии горизонта? И разве позднее вы не сами выбрали кадры в „По закону“ с горизонтом, занимающим одну десятую кадра внизу, и куски совершенно без горизонта?
Теперь вы один из лучших советских операторов. Разве не легче стало работать, когда мы с вами похоронили добрую старую традицию, которой грош цена?!
Пусть фотографы-художники работают по канонам, — мы будем строить кадр на основах зрелищной логики и экономичности. Раньше человек видел окружающее „с пупа“, с движения лошади, в крайнем случае — с горы. Теперь он может видеть и воспринимать отовсюду, да еще с вариантами скоростей своего передвижения. Кинематограф ему в этом поможет. Точка зрения работающего углекопа или водолаза доступна экрану так же, как точка зрения летчика на самолете.
Теперь перейдем к другому, важнейшему в работе оператора, элементу — к свету. Умение использовать, строить свет — главное в операторской работе. Самые передовые, самые лучшие левые фотографы и кино-операторы не имеют элементарного умения пользоваться освещением, а в свете — сущность кино и фотографии.
Для получения удовлетворительной съемки необходимо, чтобы то, что снимают, было освещено. Элементарно: имеется предмет, свет перед ним, значит — снимать можно. Так и снимают вначале: с лобовым солнечным освещением. Что получается на экране? Снятые предметы не имеют ясно выраженной формы, сливаются с окружающим фоном. Для ясности представьте себе, что снимается цилиндр или колонна. Колонна будет плоской, в одной тональности с вещами, находящимися около нее и позади. Плоским светом в кинематографе часто пользуются, и поэтому — фотография получается слепой: все сливается, все кажется как бы вырезанным из бумаги.
Лучше получаются на экране материалы, освещенные боковым светом.
Представьте себе опять цилиндр или колонну: форма колонны, её закругленность четко и ясно выступит при применении бокового освещения.
Но при съёмке нескольких предметов, при заполненном кадре, снятом с боковым светом в теневых сторонах предмета, опять получается однообразие тональностей, плоскость и серость.
Кроме того, боковой свет слишком подчеркивает и выявляет все мельчайшие детали, которые находятся на снимаемом.
Для коротких кусков смонтированной картины необходимо обобщение элементов кадра. Чем проще и экономнее расположены вещи и чем сами по себе они пластически яснее, тем лучше доходит кадр с экрана.
Поэтому — самым выгодным светом для кино является свет сзади, так называемый, контржур. Этот свет дает возможность видеть четко и ясно силуэт предмета, дает большую стереоскопичность и глубину.
Представьте электрическую ферму для высоковольтной передачи. Её конструкция, ажур её скрепления лучше всего выйдет при свете сзади.
Конечно, освещением, позволяющим максимально выявить снимаемое, добиться идеальных результатов, — явится одновременная комбинация заднего и бокового света. При таком освещении мы получим на экране максимальный результат. Необходимо отметить, что работа комбинированным светом или только контржуром технически чрезвычайно трудна.
Объясню почему. Кинематографический аппарат еще очень несовершенен. Если мы снимаем сразу два предмета: один очень светлый, скажем, вышивку гладью на белой материи, второй — очень темный — вышивку гладью на коричневой материи, — то на экране мы получим или хорошо проработанную, со всеми световыми переходами, черную гладь, или же белую. Одновременно проработать и то и другое чрезвычайно трудно. Для этого надо пользоваться специальными приспособлениями, светофильтрами, реньоном и т. п. При чем — благоприятный результат достигается не всегда. Для получения хорошей нормальной фотографии необходимо проработать — отчетливо выявить — свет, полутон и тень. Проработка этих трех элементов и дает понятное, четкое изображение на экране.
Постоянно на практике или свет или тень бывают завалены, лишены переходных тонов.
При съёмке с задним светом на натуре обыкновенно бывает очень трудно не завалить теневую сторону. Резкий контржур дает тогда силуэты, окаймленные „световой ленточкой“, чрезвычайно соблазнительные своей красивостью и не дающие четкой простой фотографии. А то заднее освещение, о котором мы говорим, должно быть рабочим — просто работающим, а не эффектным, эстетическим. Для того чтобы снимать с задним светом, необходимо в большинстве случаев употреблять искусственное подсвечивание и пользоваться отражающими солнце экранами и зеркалами, или прожекторами и электролампами.
Вот почему при съёмках хроники чрезвычайно трудно добиться исключительных фоторезультатов. Несовершенство нашей кино-техники делает невозможными для съёмки целый ряд важнейших явлений в окружающей нас жизни. Когда получит широкое распространение особо чувствительная пленка и когда возможно будет добиваться одинаково четкой проработки тени и света, черного и белого, — материал кино-искусства чрезвычайно обогатится. Само собой разумеется, что пользуя подсвечивание при заднем свете, мы получаем максимальный рабочий эффект: соединение положительных качеств света бокового и заднего.
Не следует, однако, думать, что снимать можно только так; снимать можно и плоским светом, но только тогда, когда это надо. Все, что пишется в этой книжке, пишется, как результат некоторого опыта в кино-работе, но выведенные установления верны в большинстве случаев, исключения же не только возможны, но и обязательны, хотя они и не уничтожают основных первоначальных положений.
Примером исключения из только что сказанного могут являться кадры умышленно-контрастные: воры, с карманным электрическим фонарем крадутся по комнате, или лицо, освещенное пламенем из топки и т. д. Лобовой же свет дает исключительно эффектные результаты при применении светофильтров. Пример: яркое добела освещенное поле ржи на фоне черного неба.
Почти никто из фотографов и операторов, даже очень известных, не знает, как следует свет и пользуются им стихийно.
Обыкновенно при действии фон имеет второстепенное значение, часто он является намеком на то, где действие происходит. Детали и подробности фона бывают не нужны. За исключением тех случаев, когда обстановка, окружение играют второстепенную роль.
Обратите внимание, как тщательно опытные американцы с этим считаются, даже в своих стандартных картинах. Как-то я смотрел две дешевенькие американские картины. Во всех натурных съёмках и в павильонах режиссер так строил действие, что натурщики всегда снимались на темном фоне. Или все действие было освещено, а фон был в тени, или при освещенном фоне натурщики приходились то на темной двери, то на темной занавеске, то на фоне теневой полосы.
Теперь перейдем к работе над декорациями, к работе в павильонах.
Перечислим, отмеченное нами, основное в работе оператора и режиссера:
Выбор точки зрения съёмки.
Чистое простое построение кадра — ясное и отчетливое использование света.
Учет степени проработки света, полутонов и тени.
Все это также относится и к съёмке в декорациях в ателье.
Как обыкновенно снимают в ателье операторы? Имеется поставленная декорация, скажем, комната. В ней происходит действие. Так же, как на натуре, самое простое воспользоваться лобовым светом, — так же в ателье проще всего „засветить“ всю декорацию. Если бы ставили один источник света в лоб, это было бы полбеды. Приходится ставить много источников света, потому что для достаточной проработки снимка на пленке интенсивность каждого отдельного светового прибора на кино-фабрике слишком мала. На среднюю декорацию ставят от 10–30 разных ламп (агрегатов, прожекторов ауфгеллеров).
Следует отметить одно существенное свойство кино-аппарата: чем больше будет задиафрагмирован объектив (междулинзовой, внутренней диафрагмой), то-есть — чем меньше отверстие объектива, тем резче фокус, яснее изображение на экране. Но чем больше диафрагма, тем меньше светосила объектива, следовательно, тем больше надо освещать снимаемую декорацию. Боясь нерезких снимков, операторы обыкновенно дают на декорацию невероятное количество световых единиц. Что же получается на экране?
Свет лобовой и со многих точек зрения. Получается раздражающая раздробленность света. Люди и предметы бросают от себя на стенки множество едва заметных теней, лучи пересекаются. В результате световая каша губит начисто и работу режиссера, и натурщиков и художника. В природе и в комнате очень ограниченное количество источников света. В природе светит солнце, луна, иногда яркие, иногда рассеянные притушенные рефлексы и отражение света от светлых плоскостей. В комнате днем свет идет через окна, яркий или притушенный слегка через двери и отражается., отбрасывается светлыми плоскостями. Вечером свет ламп, которых обыкновенно не так уже много. Следовательно, необходимость освещать декорацию из многочисленных точек, лишь бы светло было, — нелепа. Плоское же расположение этого света, — мы знаем из аналогичных примеров на натурной съёмке, — еще более усугубляет беспомощность подобно снятого кадра. Следовательно, работа оператора в ателье должна сводиться к тому, чтобы при съёмке было расставлено минимальное количество осветительной аппаратуры. При чем интенсивность её, ампераж каждой отдельной светоединицы должен быть максимально увеличен. Необходимо работать на „перекале“. При перекаливании, при легкой перегрузке ламп — увеличивается количество ультрафиолетовых лучей вольтовой дуги, которые снимает кино-аппарат. Рассеянный свет, фоновой — световая ванна, в которой должна находиться декорация, должен даваться приборами, наиболее мягко его распространяющими; идеалом для основного рассеянного света являются ртутные лампы.
Конструкция освещения павильона должна быть такова: для проработки полутеней все снимаемое освещается рассеянным светом, совершенно плоским, не сильным, идущим от компактно расположенных ламп.
Достижение рельефности, ясности действия должно производиться минимальным количеством сильных прожекторов, они и выполняют основную работу в производстве оператора. Так же, как на натуре, принципы заднего света с подсвечиванием — самые лучшие, так же в ателье должны применяться сильные лампы преимущественно сзади и сбоку, роль подсвечивания будет выполнять рассеянный световой „фон“.
В главе о декорациях я уже подробно остановился на основных приемах освещения декораций. Повторять их не стоит. Приведу описания нескольких рабочих примеров, сохранившихся у меня в памяти.
Когда снимались „Приключения мистера Веста в стране большевиков“, наша кинематография только-что вылезла из пеленок. На вновь сорганизованных фабриках Госкино „М. Вест“ был второй, снимающейся картиной. В ателье не было не только приличной световой аппаратуры, а даже отопление не работало сносно. С каким энтузиазмом, с какой бешеной энергией и затратой сил мы тогда работали, и как этот энтузиазм и энергию сшибали тогда и позднее бюрократизм и бездарность „липовых“ директоров!
Освещали, главным образом, „солнцем“ и „арками“, лампами с одной парой углей, построенными преимущественно осветителем Кузнецовым. Рассеянный свет давали допотопные „юпитеры“ — лампы с двумя световыми точками, совершенно негодные для работы. И каких поразительных результатов достигал в съёмке А. А. Левицкий, лучший советский мастер-оператор, и помогавший ему осветитель В. Кузнецов (брат оператора)! Впервые в нашем кинематографе Левицкий применил необычайно простую экономную конструкцию света. Источников было особо мало, да и взять их было негде. Соответствующая нагрузка аппаратуры дала необходимую интенсивность. „Солнце“ и „арки“ с успехом заменяли прожектора. Правда, натурщики страдали от постоянных ожогов и рисковали получить тяжелые раны от непрерывно падающих углей. Предохранительные сетки нельзя было поставить — они скрадывали свет. Глаза были сожжены у большинства снимающихся крупным планом. Постоянные задержки и поломка света, ожоги от углей, ожоги глаз требовали невероятных усилий в работе. Я обязан при этих воспоминаниях отметить исключительную дисциплину и прямо-таки героизм работников руководимого мною коллектива. Комаров не сдвинулся с места при съёмке крупного плана, когда ветхая, очень тяжелая дверь свалилась ему на голову. Слетов, голой рукой разбивая стекло, получил глубокие порезы и категорически продолжал работать дальше. Хохлова, заразившаяся на фабрике же корью, снималась с температурой до сорока. Галаджев, голый, на улице, на морозе натирался снегом. Подобед снимался на морозе в пижаме и т. п. И все это из-за желания сдвинуть и получше пустить в ход на нашей фабрике нашу кинематографию. А когда я в беседе с репортером рассказал о плохой аппаратуре и падающих раскаленных углях (температура кратера вольтовой дуги 3600 градусов Цельсия) и это было напечатано, дирекция и Правление Госкино сделали мне строжайший выговор за то, что не держится в тайне техническое убожество фабрики.
Теперь мы работаем с более или менее совершенной немецкой аппаратурой. И все-таки большинство операторов, вместо простого, четкого, ясного освещения, дают невыносимую пестроту и засвеченные кадры. Что бы получилось тогда из кадров „Веста“, впервые всем показавшего, что мы технически далеко не беспомощны, если бы их снимал другой оператор?
Оператор и все кино-работники должны обладать особой способностью приспособляться к условиям. Недостаток технического оборудования и плохие условия съёмки должны быть использованы, как материал.
Но из этого не следует заключать, что фабрики не должны добывать, строить, выписывать, пополнять свой технический инвентарь последними усовершенствованиями.
Прежде всего — работники должны помнить, что наша страна и наша кинематография еще в чрезвычайно тяжелом материальном положении. Мы обязаны приспособляться и изворачиваться как можно хитрее, лишь бы добиться максимальных результатов. Обыкновенно мы требуем самых невероятных для нашего масштаба вещей. Совсем недавно я проводил очень сложные съёмки в Москве с талантливым, но неопытным оператором. Чего он только не понаписал, чтобы ему предоставили для ночных съёмок! Конечно, несмотря на все старания, всего достать не удалось. С колоссальным трудом я убедил его снимать с тем, что имеется. Для пополнения пробела я предложил ряд вывозящих недостатков освещения трюков. Например, был использован дым костров, его осветить нам было легко, игра дыма дала эффект, возмещающий недостаток освещения. Большие планы пришлось снимать, освещая только необходимое, только центр. Кругом все оставалось в темноте, и, конечно, результат получился вполне удовлетворительный Необходимость заставила нас срочно закончить натурные съёмки, нельзя было ждать светлых, солнечных дней, погода была серая, туманная. Солнце едва светило. И что же, заснятое сквозь туман солнце дало поразительнейшие результаты. Этот опыт еще раз подтвердил нам, насколько лучше примениться, воспользоваться обстановкой, а не ждать, не требовать непременно привычных условий съёмки.
Надо пробовать, пытаться находить, пытаться находить в неблагоприятных условиях неожиданный фотографический эффект.
Мне рассказывал О. Брик: на хроникальной съёмке похорон оператор, стоящий на своем удобном месте, крикнул в процессию — „гроб на аппарат“.
Я работал у Ханжонкова художником и поставил декорацию, которую должен был снимать очень хороший оператор. Уйдя на время из ателье вниз позавтракать, я был взбудоражен криками этого оператора. Пришлось подняться. Оказалось, что декорация не умещалась в кадре, и он требовал, чтобы её отставили подальше от оператора.
Бедняга… он не сообразил, что можно отодвинуть назад аппарат, — места было сколько угодно.
В свое время — мы, мечтая о работе в американских условиях, шутя говорили, что будем забираться в склады и слегка портить, вуалировать пленку, а то с идеальной не сумеем справиться, плохо выйдет.
Вначале против выдвинутой нами монтажной теории построения кино-картин восставали еще из-за того, что по-новому очень трудно работать.
Монтажницам приходится клеить мельчайшие куски, актерам сложно тренироваться, операторам постоянно менять точку зрения, лазить, карабкаться быстро и ориентироваться, передвигаться. А раньше было раздолье! Снимает оператор сцену в 120 метров, вертит ручку аппарата попеременно правой и левой рукой, чтобы не уставать; а на сто десятом метре меланхолически заявляет: „а лестницу забыли убрать“…
По-моему — лучшие работы по съёмке в ателье у нас за последнее время сделал оператор Кузнецов в моей картине „Ваша знакомая“.
Основной принцип, упомянутый в статье о декорациях, таков:
Декорация особо темная. На её стенках вверху расположены прожектора для заднего и бокового света, направляемые на нужное действие. Рассеянный свет дает основную проработку, стенки почти совершенно закрыты от очага.
Не надо забывать, что на кино все необходимое особо ясно и четко должно быть видно.
Пользоваться светом для красоты, затемнять нужное, пестрить кадры, „контржурить“ под Рембранда нелепо, пошло и невыгодно.
Категорически предостерегаю от этой опасности.
В кадре, прежде всего, должно быть светло, ясно, понятно. Лишнее необходимо во что бы то ни стало убрать и затемнить.
Увлечение эффектами может привести к несостоятельной путанной „рембрандовщине“.
Работайте проще! Не ломайтесь, не изощряйтесь, крепче стройте основную конструкцию!
Ѵ. О сценарии
Основой кинематографического сценария является чистое действие. Движение, динамика—материал кино-зрелища.
Поэтому, когда люди, пришедшие на кино-работу, как следует с ней ознакомятся, они непременно проходят через увлечение картиной без надписей.
Естественно возникновение этого увлечения: динамика, чистое действие все время питает киноленту; разговоры, следовательно, надписи — как бы чуждые, противоестественные элементы сценария.
При всей своей понятности — это стремление не верно.
Конечно, надпись, как передача разговора, как передача того, что не является кино-материалом, противоестественна в картине.
Беспомощность кино-искусства не должна заменяться суррогатом — надписями. Хорошая надпись должна работать так же, как кадр. Надпись такой же кино-материал, как заснятые куски картины, лежащие перед режиссером на монтажном столе.
Обыкновенно картину смонтируют, а потом вставляют надписи, — это неправильно: и надписи и кадры должны монтироваться вместе.
Конечно, часто приходится чинить ленту, исправлять, изменять её титрами (надписями), но починка дело другое, хороший товар чинить не приходится.
Уже писалось, что надо мыслить кадрами, то-есть представлениями как бы уже заснятых вещей и действий, монтируя, собирая их в сюжет.
Если имеется мысль-фраза, частица сюжета, звено всей драматургической цепи, то эта мысль выражается, выкладывается кадрами-знаками, как кирпичами.
Поэт кладет слово за словом, в определенном ритме, как камень к камню. Цементирует их, слова-образы дают в результате сложные понятия.
Так и кадрами, которые подобны условным обозначениям, как буквы китайского алфавита, даются образы и понятия. Монтаж кадров является постройкой целых фраз. Содержание слагается из кадров. Лучше, если сценарист дает содержание, определяя характер кадрового материала. Режиссер выражает мысль сценариста монтажей кадро-знаков.
Предположим — у сценариста или у режиссера возникает мысль эпизода. Он не должен вначале придумать содержание эпизода, а потом подыскивать пластический (кадровый) материал для его оформления. Мысль об эпизоде, рассуждения о нем должны возникать из зрительных образов, из того материала, который будет засниматься. При чем, различные смены, различная конструкция — монтаж кадров — дадут различный смысл целому эпизоду. Из открывающихся окон, выглядывающих в них людей, скачущей кавалерии, сигналов, бегущих мальчишек, воды, хлынувшей через взорванную плотину, равномерного шага пехоты—можно смонтировать и праздник, скажем, постройки электростанции п занятия неприятелем мирного города (пример заимствован, кажется, у Пудовкина).
Думать же сценарно о „торжественном взрыве плотины“ или о „врывании неприятеля в город“ необходимо не литературным методом, а кинематографическим — кадрами: скачущими лошадьми, шагающей пехотой, взрывом и т. д., все время представляя их как бы на экране, зрительно.
При таком методе работы, естественно, задуманная вещь будет кинематографична — легко оформляема режиссером.
Проследим постепенное изменение сценарных форм,, разбирая различные виды сценария. Обратимся опять к американцам, которые так сильны своим стандартным товаром. Их средние картины построены по всем правилам кинематографичности. Американская стандартная картина в начале — в первой своей трети — слегка скучна, неподвижна, медленно развивается.
Вторая треть заполнена нарастанием динамического или психологического действия. В ней центр завязки, сплетения интриги и т. п.
Последние части заполнены максимальной кино-динамикой.
Простейшие движения — беготня, борьба, погоня, драка с максимальными препятствиями и бешеным темпом — в быстром монтаже заставляют зрителя напрячь остатки своего внимания. При чем — вызывается это обострением кино-материала, чистого действия, преимущественно борьбы или соревнования.
Американская конструкция картины очень разумна; зритель всегда досмотрит так построенную вещь, потому что его внимание расходуется закономерно.
Первые шаги в чистой кинематографической работе над сценарием, естественно, сводились к насыщению фильмы максимальным количеством действия. Отсюда родились детективные сюжеты с их преследованиями, борьбой, погонями и т. п.
Перепроизводство детективных, приключенческих, как теперь их называют, лент потянуло режиссеров и сценаристов на другие сюжеты — бытового и психологического характера. Подобные темы оказались чрезвычайно трудными для добротного кинематографического оформления. Внутренняя динамика, — состояния человека в его обыкновенной жизни с минимальным количеством элементарного кинематографического движения, — плохо укладывается в кино-действие, требующее чистое движение — прежде всего. Основная ошибка в работе над психологическими вещами сводилась к тому, что различные состояния., действующих персонажей выражались через переживания на их лицах.
Случилась с героем или с героиней неприятность, весь смысл кино-показа сводился к самой совершенной демонстрации мимикой неприятности на лице актера. В результате создался невыносимый, ложный, неестественный жанр — психологизм, недопустимый в кино, сугубо игривый, не настоящий.
В подобных темах удавались куски, заполненные скрытой динамикой, возможность возникновения элементарного кино-действия.
Кажется, режиссер Анощенко приводил удачный пример этого.
Люди сидят на бочках с порохом и спокойно ждут. А бочки, об этом знает только зритель, вот-вот должны взорваться.
В такой сцене люди не переживают и минимально действуют — нормально сидят, напряженность же в восприятии зрителем эпизода, безусловно, существует.
Увлечение психологизмом, явно негодным для кинематографии, доходило до таких тонкостей, что один из режиссеров утверждал: кинематограф — это не то, когда герой проигрывается в карты, а когда он, стоя у окна, смотрит на улицу и думает о своем проигрыше.
Два мировых мастера создали школу кинематографии; эти мастера — Давид Гриффит и Чарли Чаплин.
Гриффит работал то на чистой кино-динамике, то на чистом переживании натурщиков, заставляя их сложнейшими движениями своего механизма передавать психологическое состояние.
Но эти движения были не элементарным кривлянием, а являлись движениями рефлекторными, очень тщательно проработанными, почему и достигали нужной цели. У Гриффита натурщики не просто таращили глаза, скажем — на ужасе, а делали другие движения, более верно передающие их состояния.
Покусывание губ, перебирание, заплетение рук, трогание предметов и т. п.— характерные признаки гриффитовой игры. Нетрудно догадаться, что они наиболее подходили к моментам сильного переживания и чаще всего к моментам, доходящим до истерики.
На сплошных сильных эмоциях нельзя построить всю картину, поэтому промежутки между сильными переживаниями Гриффит в своих сценариях заполнял чистой кино-динамикой.
Конструируя таким образом свои ленты, он добивался исключительных результатов, и долгое время его работа и его сценарии не были превзойдены.
Перевернул же классические сценарии Чаплин в „Парижанке“. По своей конструкции, сценарий является идеальным и показал новые методы киноработы. Чаплин свел почти на нет элементарный показ переживаний на лице. Он демонстрирует поведение человека в различных случаях его жизни через общение с вещами, с предметами. От состояния изменяется способ обращения героя с окружающей обстановкой и людьми, изменяется его поведение.
Таким образом, вся работа сводится к установлению различных трудовых процессов, потому что делается что-то с вещами, нарушая или налаживая обыденный их порядок; берясь за них то рационально, то бессмысленно, натурщик демонстрирует трудовые процессы. Трудовой процесс — механика, следовательно — движение, следовательно — абсолютный материал кинематографии. Таким образом, работа сценариста должна сводиться к выявлению фабулы через обращение действующих людей с вещами, через поведение человека и его рефлексы. „Парижанка“ показала, что они являются безусловно кинематографическими и могут быть интереснее элементарного движения.
Многие говорят, что „Парижанка“ вышла хорошей не потому, что хорош сценарий: „сценарий мы никогда бы не приняли к постановке!“ Абсурдное определение; именно сценарий „Парижанки“ исключительно хорош.
В нем все следует одно за другим в непрерывной логической связи: ни одного эпизода нельзя выбросить — потеряется беспрерывная кино-драматическая цепь.
Когда у нас стараются подражать чаплиновскому сценарию, то нанизывают бессмысленно ряд эпизодов человека с вещами один за другим, так что любой можно выкинуть или заменить. Исключительное качество сценария „Парижанки“ в том, что оттуда ничего нельзя выкинуть, что каждый эпизод в нем необходим и обязателен. Если бы дали сценарий „Парижанки“ плохому режиссеру, картина вышла бы, безусловно, хорошей, у Чаплина — она получилась гениальной.
Наша кинематография всегда страдала слабой игрой актеров, плохим оформлением кадра; поэтому виртуозность гриффитовой работы была для нас долгое время недоступна. Впервые основы гриффитова метода были разработаны в Госуд. Школе Кинематографии, ныне Г.Т.К., а лучшие наши картины, — правда, в очень небольшой части их и только за последнее время, — показали подлинную кино-технику.
Сценарный же метод Чаплина почти не дал никаких результатов, потому что при его использовании не учитывают сказанного выше: необходимости игры через рефлексы, через поведение человека, заключающейся в крепкой логической связи сценарных деталей. Наши „Парижанки“ — это набор более или менее удачных трюков человека с вещами, лишенных основной логической линии кино-сюжета.
А не умеющие работать по-новому и технически совершенно режиссеры и натурщики делают из подобных вещей провинциальное бессмысленное подражание, приводящее к самым плачевным результатам.
У нас существуют следующие типы сценариев:
1. Сценарии, берущие материалом простейшее кино-движение. Их удача зависит от правильно придуманной темы. Обыкновенно подобные вещи делаются со среднего качества оформлением, но имеют успех из за новой и верной тематики.
Примеры: „Красные дьяволята“, „Стачка“, „Броненосец Потемкин“.
В этих вещах занимательность движения, столкновений и разрешения их на новом советском материале создают им широкую популярность („Красные дьяволята“). Не могущие не захватить зрителя исторические моменты революционной борьбы, как в „Стачке“ и „Броненосце“, показанные рядом остроумно придуманных эпизодов, по существу не используют новую совершенную кино-технику, а используют только новые советские темы, под прикрытием которых только иногда проглядывает новая по форме кинематография. Поэтому, успех сценариев подобного рода часто может быть случайным. Их качество — в материале эпизода, а не в его кинематографической обработке. Вот почему за кинематографическим признанием „Потемкина“ последовал художественный провал „Октября“ и за невероятным успехом „Красных дьяволят“ — забвение Перестиани.
2. Второй основной тип сценария — сценарии, использующие результаты предыдущей кино-культуры, построенные с учетом её законов, опыта и приемов, и разработанные на наших советских темах.
Примеры: „Мать“, „Конец Санкт-Петербурга“. Эти вещи хотя и имеют ряд недостатков, главным образом — режиссерского, а не сценарного характера, но безусловно являются вещами подлинно кинематографическими, не случайными, — фильмами добротной, культурной и добросовестной продукции.
3. Третий тип наших сценариев — это конгломерат самых разнообразных сюжетов, то под заграничные, то бытовые и национальные, с широким использованием гармошек, лезгинок, оперной бутафории и костюмов, то „проблемные“, то действенно-детективные, то псевдо-производственные, а в целом — несостоятельные.
Почему? Потому что в этих сценариях нет материала для демонстрации поведения человека через его обращение с окружающей средой. Если есть, то только, как набор надуманной игры с вещами, лишенной логической сценарной связи и необходимости своего существования, а в худшем случае даже нет элементарного кино-действия.
4. Четвертый тип наших сценариев — это сценарии экспериментального, опытного характера. В этих сценариях то удачно, то неудачно делаются попытки установления или изучения новых кино-форм, новых выразительных средств кинематографии.
Такие работы имеются у факсов и у ряда молодых мастеров, большей частью вышедших из левых художественных группировок или из киношкол.
Об их значении говорить не приходится — оно очевидно: без таких работ не будет подлинной кино-культуры.
Почивание на лаврах и отсутствие формальных изысканий неминуемо приведет к катастрофе.
Самая крупная, самая главная ошибка наших сценаристов заключается в том, что они пишут сценарии, не исходя из имеющегося материала, а „из под себя“ — вообще фантазируют. Поэтому наши картины:
- Чрезвычайно дорого стоят.
- Всегда несостоятельно демонстрируют быт.
- Натурщики в них не подходят к ролям.
- Режиссеры снимают их неохотно.
Конечно, более чем сценаристы, в этом виноваты руководители наших кино-фабрик и сценарно-литературно-художественные отделы. Только через изучение и использование материала бытового, актерского, технически-съёмочного и др. можно сделать подлинную кино-вещь.
Если организация имеет возможность использовать аэропланы, поезд и, скажем, северный полюс, то необходимо на этом строить сценарий.
А если в сценарии есть аэропланы, поезд и северный полюс, до которых организации очень трудно добраться, стоимость картин приобретает гиперболический характер.
Если делается сценарий бытовой, то необходимо, чтобы сюжет органически рождался из бытовых явлений, чтобы он мог возникнуть только на них, не был бы возможным в другом окружении, в другом быту.
Иначе получится кино-опера, а опера — не материал кинематографии, это теперь известно каждому.
Правда, я помню, когда производственным отделом „Кино-Москвы“ заведывал хороший оперный режиссер т. Лапицкий, и даже был подписан договор с великолепным опереточным артистом Яроном, но кино-толк из этого получился маленький.
Повторяю, в бытовой вещи сюжет рождается из условий данного быта, а не пристегивается к нему.
У нас даже заводов не могут как следует использовать.
Каждому режиссеру хочется быть идеологичным, и каждый с удовольствием пристегивает к любовной драме то или иное производство.
Перемените фабрику, скажем, стеклянную на консервную, все равно — любовь останется та же. Почему же, по каким признакам выбирается то или иное производство? Неужели трудно понять, что в салонах происходят салонные драмы, и те же ситуации не могут измениться от костюмов и заводского фона? Само производство должно продиктовать сюжет. А у нас часто восхищаются подобными картинами.
Не то у Аверченко, не то у Тэффи есть рассказ о молодой писательнице, написавшей пьесу и показавшей её хозяину театра. Он потребовал, чтобы писательница драму переделала в фарс. Писательница ничего не переменила, только около каждого действующего лица написала: „голый“, чтобы было неприлично, как в фарсе.
Так и наши идеологические сценарии: в них действующие лица — рабочие или коммунисты, а место действия завод, только не органически, а по-старому рецепту — голые!
Чаплин добился таких поразительных результатов от работы натурщиков в „Парижанке“, главным образом, потому, что снимал её около двух лет. Он не только ставил картину, он одновременно обучал натурщиков.
Такой метод работы доступен американской кинематографии, мы пока не можем так много времени тратить на постановку одной фильмы. Как же добиться идеальной работы натурщиков?
Натурщиков надо обучать и вытренировать заранее, каждая фабрика должна иметь их квалифицированные кадры. Каждый режиссер должен иметь свою группу работников, обученную, владеющую в совершенстве кино-техникой.
На этих людей должен специально писаться сценарий, тогда качество актерской работы будет гарантированным. Если же людей придется подыскивать и по сценарию обучать на съёмке, то на это не хватит времени и выбора, а в результате получится неудовлетворительный товар.
Необходимо заставить сценаристов писать сценарии, исходя непосредственно от материала; разговоры, что от этого пострадает их художественное творчество, несостоятельны: налицо кино-фабричное производство, а не кустарное.
Если делать вещи только по заказу, не исходя из удобного материала, а исходя из темы,—то они будут исключительно дорогими, часто неудачными художественно. Такой подход к делу не выгоден. Нам необходимо наладить дешевое производство большого количества картин, стопроцентных — и по выполнению и по содержанию,
ѴІ. Обучение натурщика
Мы знаем из разбора материала кинематографии, что лучше всего выходят на экране люди, проделывающие организованную целесообразную работу. Вспомните пример с грузчиком, укладывающим мешки на пароход. Из-за того, что он делает свои движения особо экономно, ловко и разсчитанно, потому что он этим делом занимается много лет, его работа выходит на экране исключительно четкой, быстро и ясно воспринимаемой зрителем.
С демонстрацией трудовых процессов человека может сравниться только съёмка движения детей или животных, покоряющих своей глубокой непосредственностью, естественностью и простотой. Театральная игра, актерство — плохой материал для ленты; причины были объяснены в главе о материале кино. В то же время мы должны снимать драмы, комедии, комические-игровые ленты потому, что их производство представляет собой основную отрасль кино-промышленности. Очевидно, возможно найти такие методы работы над игровой лентой, когда засъёмка натурщиков даст вполне благоприятные результаты. Если, с одной стороны, трудовые процессы выходят особо хорошо, то, с другой стороны — даже чистая эксцентрика Чаплина получается исключительно кинематографичной.
В чем же дело?
Дело в том, что надо построить работу кинонатурщиков так, чтобы она представляла собой сумму организованных движений, с довоенным до минимума перевоплощением. Сценарии должны давать рефлексы действующих лиц на происходящее, выражающееся в обращении человека с вещами и людьми через движения. Это движение и может организовываться режиссером, подобно трудовым процессам. Об этом мы уже говорили и в главе о материале, и в главе о сценарии. Лучшие наши кино-натурщики приготовлены в кино-школах. Когда они приходили в школу, то с самых первых шагов пытались актерствовать — перевоплощаться и переживать. Для того чтобы их перевоспитать по-новому, чтобы сделать из них кинематографистов в отличие от театральных переживальщиков, т.-е. сделать из них специалистов в экранном деле, обладающих специфической техникой, их пришлось заставлять проделывать несколько лет ряд упражнений — учиться игровой кино-технике.
Наши упражнения, наш тренаж был придуман на основах тех законов, которые удалось вывести из разбора устройства экрана, аппарата и человеческого механизма натурщика. Основные упражнения, определяющие собой канву кино-актерского тренажа, и являются материалом настоящих глав. Вот пришел человек работать в кино-школе. Он уже думает, что может проделывать отдельные эпизоды и сценки. Как они делаются? Делаются они в порядке перевоплощения и вольного изобретения содержания эпизода. Натужится человек, постарается себя представить тем, кого он изображает, затем начнет делать все, как придется, как ему кажется, как будет у него выходить. Если предложить начинающему придумать самому задание, то задание обязательно будет сложное и запутанное. Только раздирающая драматическая сцена и сложный комический эпизод смогут привлечь его внимание. Для начала же необходимы элементарнейшие задания и, если их дать даже законченному театральному работнику, то выполнение из ста случаев девяносто девять будет крайне неудовлетворительным.
В Академии Художеств когда-то был профессор рисования Чистяков; он доказывал людям, владеющим карандашом, что, в сущности говоря, они рисовать не умеют. И действительно, он заставлял их срисовать с натуры карандаш или коробочку, а потом с линейкой и отвесом в руках доказывал их полное невладение рисовальной техникой.
Так же и актеры, пришедшие на обучение нашей кино-работе, не могут справиться с таким элементарным заданием, как войти в комнату, взять стул, подойти к окну и открыть форточку. Обыкновенно подобное задание делается с пренебрежительной насмешливостью — так кажется оно легко и элементарно. Если вы будете просить натурщика несколько раз проделать это задание, то увидите, что оно делается по-разному, разными движениями и выходит иногда лучше, иногда хуже.
Как же задание должно делаться?
Прежде всего, общая задача должна быть разбита на ряд элементарных отдельных задачек.
Человек входит в комнату — первый пункт задачи.
В комнату можно входить по-разному (разбор начинаем с уже открывающейся двери).
Какой рукой держаться за ручку двери? Как лучше держать самую руку? Какая нога войдет в комнату первая?
В каком положении будет корпус?
Что будет делать вторая рука, в каком положении она будет? Что делает голова? (О лице, его работе, его выражении мы пока говорить не будем).
Все эти вопросы нужно задать себе, и всем указанным сочленениям, всему телу должны быть найдены соответствующие положения. Поскольку мы не имеем в данном этюде задания на выявление того или иного типа - образа натурщиком, постольку характер всех этих движений и тело-положений должен рассчитываться из логической целесообразности и экономичности данного рабочего процесса.
Сложнее работа будет при учете образа, когда характер движений будет определять намеченный характер данной роли. Итак, все мельчайшие подробности должны быть учтены. Но, может-быть, это необходимо только для исходного положения. Отнюдь нет. Дальнейшее также потребует самого точного расчета и учета всего действия. Только тогда получится нужная четкость, нужная убедительность работы натурщика, соединенная с ясным и простым восприятием зрителя.
Разбираем наше задание дальше. Человек делает первый шаг. Как он делается? В каком положении все сочленения человека? Как рука отрывается от ручки двери или как она закрывает дверь? Какое положение корпуса самое выгодное и самое нужное для данной работы? Что делает голова и т. д.? Дальше надо будет осмотреть комнату. Когда её осматривать? Сейчас же по закрытии двери, или пройдя несколько шагов? Если пройти несколько шагов, как итти и на какое расстояние? Сколько шагов сделать, с какой ноги начать? А что делает корпус, руки, голова? На все эти вопросы должен ответить себе натурщик или получить на них ответ у режиссера. Каждая отдельная задачка должна тщательно разучиваться, каждая проделываться много раз, пока натурщик не научится в совершенстве выполнять именно то, что надо.
Как осматривать комнату?
Ведь можно неопределенно поводить головой, делая вид, что рассматриваешь, но толк от этого получится маленький. Необходимо точно наметить, куда, в какие точки, в какой последовательности переходят глаза работающего человека. Одними ли глазами надо осмотреть комнату? Не лучше ли включить и движения головы для облегчения работы глаз? А как стоит человек в это время? На какой ноге тяжесть? Может быть — на двух. А если на одной, то вторая свободна, — в нормальном, или напряженном состоянии, то-есть — на носке ли она, или на ребре башмака, или на каблуке? Если тяжесть на двух ногах, действительно ли она распределена равномерно, и не возможно ли оторвать от земли одну ногу? Если тяжесть всего корпуса на одной ноге, верно ли это, отрывается ли свободная нога от земли? Что делают руки? Что делает корпус? Как дальше будет найден стул, как его натурщик возьмет, за какое место? Как перенесет его? И т. д. и т. д. — до самого конца задания высчитывать, примеряться, проделывать до тех пор, пока все будет учтено, и до тех пор, пока все не будет совершенно выполнено.
Тренировки над подобными заданиями — с тем, чтобы они выполнялись исключительно точно и четко, должны занимать все начальное время обучения кино-натурщика. Задания должны придумываться то самостоятельно, то их должен давать руководитель или тренер. Привожу еще типичное задание в этом плане (оно дается общими фразами, натурщик сам должен разбивать целое на составляющие элементы).
Человек приходит к себе в комнату, прибирается, кипятит чай, пьет его, ложится спать. Натурщик такое задание пополняет самостоятельным придумыванием того, что он будет делать, и самостоятельно устанавливает все отдельные моменты работы. Только после того, как он все фактически рассчитает и одинаково точно и совершенно научится выполнять, он может сдать этюд руководителю.
Обыкновенно для выполнения этих заданий не хватает дома или в классе необходимых предметов. Появляется необходимость в работе с воображаемыми предметами, необычайно полезная для воспитания натурщика.
Попросить кого-нибудь выпить из воображаемого стакана и затем его поставить на стол. Вы увидите, что по расположению пальцев пьющего человека стакан не имеет ни размеров, ни формы. А ставится на стол он, как-будто сделан не из стекла, а из тряпки.
Попробуйте поговорить по воображаемому телефону или писать воображаемым карандашом. Вы сожмете руку в кулак до отказа, как-будто внутри нее ничего нет, и будете водить пальцами по бумаге, не учитывая возможной длины карандаша. Одновременно с подобными упражнениями необходимо тренировать натурщиков на бессюжетные точные задания.
Скажем, натурщик должен перелезать через ряд препятствий, затем садится на стул или падает. Каждое движение каждого его сочленения, заранее определенное руководителем, представляет по своему выполнению технические трудности — сразу не выходит и должно быть совершенно выучено, вытренировано. Упражняясь над деланием сложных и трудных для выполнения движений, натурщик после десятка подобных заданий значительно укрепляет свою технику.
Когда достигается элементарная четкость натурщика, следует переходить к временной категории его работы, к метру и ритму. Мало делать четкие и размеренные движения, надо уметь их делать во-время. Длительность же движения, то время, которое идет на его проделывание, должны укладываться в основном метрическом счете (ритм). Очень часто хорошо проработанные по движению этюды кажутся неестественными, неправдоподобными. Происходит это от неверного темпа движений и от неверного соотношения длительности отдельных манипуляций, т.-е. неучтенного метра и ритма действия. Тренировку надо начинать с введения счета в этюдах.
Метроном отсчитывает метрическое деление, а натурщик — каждое движение, по заранее распределенному плану, делает в нужный такт. Основной счет такой же, как и в музыке: или двухчетвертной, или трехчетвертной, или комбинация из них. Так же, как и в музыке, трехчетвертное метрическое деление времени больше подходит к лирическим темам (вальс), двухчетвертное — к бодрым, энергичным темпам (марш). Наиболее удобный счет для работы этюдов — на четыре четверти. Без введения метрического измерения действия оно обязательно будет неясным и расплывчатым. Представьте себе расстояние от одного места до другого, скажем, от Москвы до Ленинграда. Для нас представление расстояния будет ясным только потому, что мы знаем измерительные единицы пространства — километры; если бы мер пространства не было, не было бы и понятия о нем. Крупные города между двумя основными помогают лучше ориентироваться в чувстве измерения пространства. То же самое и с измерением времени работы кино-натурщика: длительность этюда может быть расчленена на основные единицы измерения. Так же как промежуточные города помогают нам лучше, разбираться в участках пространства в примере с Москвой и Ленинградом, так же ударные сильные четверти отделяют один такт движения от другого. Счет ведется так: раз, два, три, четыре; раз, два, три, четыре и т. д. Первая четверть — сильная, на ней делаются основные движения, энергичные, определенные движения. Равномерно повторяясь одно за другим, хотя бы и пропуском, такие движения будут восприниматься зрителем спокойно, в основном темпе этюда. Если необходимо движение, резко подчеркнутое, неожиданное и оно должно делаться из-за такта (синкопа), тогда желаемый результат неожиданности будет достигнут. Конечно, можно строить целиком синкопические этюды. Должно предупредить музыкантов, что мы по совершенно понятным причинам берем из музыки её элементарный метр и ритм и по техническим соображениям пользуем эти понятия в самой простой, самой доступной форме. Когда мы имеем дело с категорией пространства, мы изучаем пространство на основах пластически-зрительных законов. Когда мы имеем дело с категорией времени, мы естественно должны использовать метод временного искусства; поскольку кино-искусство молодо, постольку мы пользуем этот материал упрощенно и элементарно.
После того, как обучающийся натурщик освоится рядом упражнений с работой под счет, надо переходить на нотную запись движения и на ритмическую тренировку. Представьте себе, что ваша рука вытянута вперед и занесена сильно влево, кисть держит стакан; вам надо отнести руку сильно направо и поставить стакан на стол, после этого руку положить в карман.
Этюд делается на четырехчетвертной счет. Если движения будут делаться по счету, скажем — на первую четверть первого такта рука переносится направо, на вторую четверть второго такта рука ставит стакан и на первую четверть третьего — рука кладется в карман, то это не значит, что длительности движений, их продолжительности будут учтены. Возьмем первый такт: движение руки может занять и весь такт, и три четверти, и две, и две с половиной, или две с восьмой и т. д.
Учет времени движения на уже учтенном временном месте движения и будет являться следующим этапом в тренировке натурщика над ритмом. Система позволяет точную запись движений нотными знаками так же, как в музыке.
Пример.
1-й такт: ♩ рука со стаканом идет вправо
2- й такт: ♪ рука ставит стакан
3- й такт: ♩ рука направляется в карман
Движение руки происходит в первом такте 3 четверти, во втором — ⅛ четверти, в третьем— две четверти (паузы не записаны). На работу каждого сочленения необходим временный расчет. Соображать при сложных этюдах для всех параллельных движений их ритмический распорядок с непривычки очень трудно, и упражняться в этом надо до тех пор, пока не приобретается умение делать движения по нотной записи так лее, как музыкант играет по нотам — почти бессознательно.
Параллельно с перечисленными упражнениями элементарные задания на четкость надо усложнять, делать попарно или по нескольку человек и вводить в них первоначальные элементы напряжений (подробно напряжения: смены сильных и слабых, энергичных и расслабленных движений — будут разбираться позднее). Очень полезны для приобретения техники этюды борьбы и драки. Лучше всего, чтобы их делали натурщики, хорошо владеющие акробатикой, борьбой-боксом и гимнастикой. Спорт и перечисленные физические дисциплины необходимо изучать и стараться возможно лучше знать каждому кино-натурщику; преподавание их в школах обязательно, но преподавать их надо особо, не в чистом виде, а применительно к кино, с расчетом на широкое использование накопленного тренажа и знаний.
Когда даже дисциплинированным натурщикам дается задание на драку, вначале этюды сводятся к хаотической неразберихе движений. Не поймешь, кто сильный в каждый данный момент, кто слабый. Впечатления энергичной борьбы не получается, этюд кажется кривлянием, потому что натурщики боятся друг друга попортить или, наоборот, в глупом раже калечат друг друга, а результата никакого не получается. Для драки должна быть составлена схема смены напряжений действующих. Разбивая целый этюд на периоды, необходимо установить, когда А сильнее Б, когда их сила ровная и когда один рядом сильных моментов начнет преодолевать другого. Составив схему, надо каждое движение, каждый перенос тяжести, каждую схватку разработать до мельчайших деталей, научиться проделывать все медленно и затем уже делать с нормальной скоростью.
Одновременно ведется тренаж на падения, для хорошего выполнения которых нужны большой опыт и умение.
С большой осторожностью следует переходить на работу с лицом. Кинематограф не терпит подчеркнутой, грубой работы лица, театральная техника для экрана неприменима, потому что радиус движений на сцене слишком велик. На экране самые незаметные изменения лица выходят слишком грубыми, — зритель не поверит в такую игру. Лицо тренируется рядом упражнений обязательно с учетом метрического и ритмического времени работы. Лицо может изменяться от работы лба, бровей, глаз, носа, щек, губ, нижней челюсти. Лоб может быть нормален, нахмурен, приподнят, брови — то же самое, глаза нормальны, закрыты, полуоткрыты, раскрыты, широко раскрыты, повернуты вправо, влево, вверх, вниз. Нос может морщиться, щеки надуваться и втягиваться, губы и рот сжаты, открыты, полуоткрыты, приподняты (смех), опущены; нижняя челюсть может быть энергично выставлена вперед, может сдвигаться вправо и влево. В общем, для работы лица и всех сочленений человека очень полезна система Дальсарта, но только — как учет возможных изменений человеческого механизма, а не как способ игры.
Актерская часть этой системы для кино-натурщиков неприемлема, основной же смысл системы деления всех телодвижений на нормальные, эксцентрические и концентрические и комбинации их должны быть изучены кино-натурщиком.
Вернемся к упражнениям над лицом.
Вот примерный этюд:
- Лицо нормальное,
- глаза прищурены, идут вправо,
- пауза,
- лоб и брови нахмуриваются,
- нижняя челюсть выдвигается вперед,
- глаза резко передвигаются вправо,
- нижняя челюсть влево,
- пауза,
- лицо нормально, но глаза остаются в предыдущем положении,
- глаза широко открываются, одновременно полуоткрывается рот и т. д.
Таково задание; его необходимо положить на счет, определить длительность каждого положения, длительность прихода в это положение и длительность нахождения в нем. Добросовестная тренировка над лицом скоро обучит натурщика владеть им в совершенстве, так, что он сможет выполнить любое свое и режиссерское задание. Существует много специальных упражнений для глаз; например, им очень трудно, без толчков, ровно передвигаться по горизонтальной линии вправо и влево; чтобы достигнуть плавного движения, надо на вытянутой руке держать карандаш все время смотреть на него и водить им перед собой, параллельно полу. Такое упражнение быстро приучает глаза плавно работать, что на экране выходит гораздо лучше порывистых, рваных движений (если они, конечно, не нужны специально).
Помимо того, что каждая группа частей человеческого тела может быть нормальна, концентрична и эксцентрична, весь человеческий механизм во время работы стремится то к наибольшему эксцентрированию, то к концентрированию, т.-е.: все тело как бы собирается, свертывается, то как бы расправляется, развертывается. Реже бывают чистые виды свертывания и развертывания; чаще эти процессы происходят с нарушениями и с преобладанием уклона в ту или иную сторону. На свертывании и развертывании чистом и с нарушениями проделывается ряд этюдов как бессюжетных, так и сюжетных. Для тренировки полезно заставлять натурщика на уже данную схему эксцентрации и концентрации придумывать сюжет. Пример: руководителем дается схема — шесть тактов постепенного развертывания, шесть тактов свертывания, три такта развертывания, один такт свертывания и т. д., а обучающийся должен придумать сюжет к этой канве так, что намеченные процессы как-раз подходили бы к содержанию, к теме. В эти же упражнения включается учет площадок декорации — повышение и понижение тела работающего по отношению к полу.
Теперь перейдем к важнейшему в тренировочной технике натурщика — к пространственной метрической сетке и к работе по основным осям всех сочленений человеческого организма. В главе о материале кино мы уже останавливались на этом вопросе; необходимо его повторить заново, еще более подробно. Начнем с пространственной метрической сетки.
Представьте себе четырехугольник экрана. Он всегда одинаковый, его стороны имеют одинаковое отношение длин. На этой экранной плоскости происходит движение света и тени скинематографированного действия. Все, что происходит на экране, читается глазами зрителя, как-то укладывается в его сознании, при чем иногда этот процесс происходит легко, без затраты лишнего напряжения, иногда трудно, заставляя зрителя напрягаться, с трудом воспринимать происходящее. Очевидно, что, учтя постоянные данные экрана, длину показываемых кусков и воспринимательные способности зрителя, можно установить законы, по которым можно строить простое и ясное движение вещи и натурщиков в кинематографе. Представьте себе, что экран — ничем не заполненный белый четырехугольник. Пути возможного движения по экрану можно записать линиями. Если мы запишем линиями хаотическое, непосредственное действие на экране, то легко догадаться, что запутанные разнообразные линии очень трудно дойдут до сознания зрителя. Если действие будет происходить, скажем, по одной линии, если его схематически можно изобразить чертой, тогда оно будет восприниматься зрителем значительно легче. Дальше, когда линия совсем хорошо прочтётся, когда её расположение на экране будет особенно четким, особенно ясным? Тогда, когда она будет расположена в пространстве экрана так, что её местонахождение будет легко определяться определяющими форму экранной плоскости гранями. Если линия параллельна нижней или верхней стороне экрана и перпендикулярна к правой и левой, — естественно, местоположение этой линии будет для зрителя ясным. Если мы начнем линию очень медленно и осторожно поворачивать на экранной плоскости, то её восприятие будет у зрителя осложняться. Чем незаметнее мы передвинем (наклоним) линию, тем труднее понять, как она расположена; чем отклонение линии будет яснее, тем легче произойдет прочтение её зрителем.
Следовательно, если мы заснимем линию конкретно — просто расположенную на экране, то на её зрительное усвоение потребуется кино-демонстрации значительно меньше, чем в том случае если она будет чуть-чуть наклонена. Вот почему на куски индустриального или архитектурно-конструктивного характера надо меньше метров пленки, чем на витиеватый деревенский пейзаж, — чтобы хорошо рассмотреть его, надо кусок дольше показывать.
Если записывать на экране линии движений обыкновенного актера, получится хаос; если записать рассчитанную организованную работу — получится линейный строгий узор, который прочтётся гораздо легче предыдущего путанного.
Таким образом, если по экрану будут (в примитиве) происходить движения, параллельные одной паре сторон экрана и перпендикулярные другой, то эти движения будут наиболее ясно, наиболее легко восприниматься зрителем.
Если в движении будут незначительные отклонения, то восприятие зрителя усложнится. Если движения отклонятся значительно, примерно, под углом в 45 градусов, то опять их зрителю легко будет рассмотреть.
Если нужны движения по окружностям и комбинации окружностей, по кривым, то эти сложные движения должны быть как бы вписаны, вчерчены в основные прямые. На экране получается как бы, воображаемая сетка, по ней-то и надо двигаться при элементарном действии, а при сложном — кривые движения надо укладывать в основные параллельные и перпендикулярные деления.
Эта воображаемая сетка на экране и называется нами метрической пространственной сеткой.
В расчете на нее и должна строиться работа кино-натурщика, с той разницей, что натурщик передвигается не на плоскости экрана, а в трехмерном пространстве в ателье или на натуре. Сфера его действия представляет собой пирамиду (как бы положенную), вершина которой упирается в центр объектива съёмочного аппарата. Таким образом, экранная двухмерная сетка должна для натурщика трансформироваться в трехмерную, расположенную в пирамидной сфере действия. Следовательно, натурщик будет передвигаться как бы по кубатуре, по сетке прямо перед ним, по сетке на полу и по сетке сбоку его (это в том случае, если натурщик стоит лицом к аппарату). Продолжения пересечения линий всех этих трех плоскостных сеток и создадут кубатуру его действия. А кубатура расположена в пирамиде, определяемой углом зрения объектива съёмочного аппарата.
Перейдем к осям движений.
Казалось бы, что человек имеет возможность двигать своими сочленениями как угодно, что учесть эти движения немыслимо. Подумаем, и окажется, что нет. Пространство измеряется тремя плоскостями — длиной, шириной и глубиной; следовательно, движения каждого сочленения происходят по трем основным осям: по вертикальной — вправо и влево, по горизонтальной — вверх и вниз и по поперечной — в стороны. Пример: движение головы: 1) по первой оси — жест, соответствующий отрицанию, 2) по второй оси — жест, соответствующий утверждению, 3) по третьей оси — жест, соответствующий сомнению или порицанию (ну!., ну!..).
Все остальные движения по этому сочленению будут комбинациями из трех основных осей. Других движений быть не может.
Составим таблицу осевых движений для главных частей человеческого тела:
| Сочленения. | Ось № 1. | Ось № 2. | Ось № 3. |
| 1. Глаз | Вправо, влево. | Вверх, вниз. | Нет, есть комбинация № 1 и № 2, круговое движение. |
| 2. Нижняя челюсть | Вправо, влево. | Открывание и закрывание рта. | Нет. |
| 3. Шея | Отрицание. | Утверждение. | Сомнение. |
| 4. Ключица | Движение плеча вперед и назад. | Нет. | Вверх, вниз. |
| 5. Плечо (рука от плеча до кисти) | Скручивание всей руки | Вперед (перед собой). Назад (от себя). | В бок, в сторону. |
| 6. Локоть (рука от локтя до кисти) | Скручивание (запираете замок). | К себе. | В бок, в строну. |
| 7. Кисть | Нет. | К себе. | В бок. |
| 8. Талия | Поворот корпуса. | Наклон корпуса вперед, назад. | Наклон корпуса в бок. |
| 9. Бедро | Повороты всей ноги (скручивание). | Жетэ вперед, назад. | Жетэ в бок. |
| 10. Колено | Скручивание. | Вперед, назад. | Нет. |
| 11. Ступня | Развернутая, свернутая. | Вытянутый и собранный подъем. | Ступня, на ребро, внутри, наружу. |
Натурщик должен строить свою работу по основным осям или по их комбинациям, а располагать их — в пространстве по метрической пространственной кубатуре. Возьмем для примера движение на сочленение талии по оси № 2.
В таблице мы видим, что это будут наклоны всего корпуса от талии вперед. Какие же положения корпуса, двигающегося по второй оси, будут самыми четкими? Те, которые займут простые, ясно читаемые положения по стенке плоскости, идущей по направлению движения, т.-е. ясно прямое положение человека, ясен наклон корпуса под углом в 45 градусов, ясен наклон корпуса, образующий прямой угол корпуса и ног по отношению к полу. Промежуточные положения будут трудно восприниматься зрителем и потребуют более долгой демонстрации.
Опыт показал, чем лучше работает натурщик, чем совершеннее его техника, тем ювелирнее он может строить свои движения. Хороший натурщик справляется с самыми сложными комбинациями осей и самыми мелкими наклонами и косыми метрической сетки. Самое трудное — переходить из одного положения в другое: здесь-то и требуется высокая техника кино-натурщика. Поэтому, если режиссеру приходится работать со слабым техническим материалом, ему приходится его пользовать примитивно, заставлять двигаться по чистым осям и просто распределять движения по метрической сетке. Если натурщик совершенен, он самые тонкие, самые малозаметные движения сделает в совершенстве, а главное, сумеет в совершенстве перейти от одного положения в другое. В этом и заключается виртуозность его техники.
Категорически предостерегают заставлять делать сложную работу неопытных — результат получится отвратительный, при работе по простым схемам все персонажи выйдут хорошо, добросовестно и понятно работающими. Путь же к совершенствованию и к достижению широкого диапазона, больших возможностей в экранных движениях — лежит через тренировку этюдами, построенными на осях и сетке.
Конечно, на производстве нельзя думать об этом методе, необходимо, чтобы он в школе всосался в плоть и кровь, чтобы натурщик подсознательно четко и ясно работал, чтобы он не мог двигаться иначе. Недоучки произведут впечатление дергающихся марионеток, что категорически неприемлемо экрану, требующему реальность и простоту — прежде всего.
За осевой тренировкой следует учет напряжений, смена сильно-энергичных движений, движения с ослабленной энергией и слабые. Человеческое тело состоит из мяса и костей, они имеют вес, притягиваются землей, и если энергия ослабевает, то человек падает. Чем легче преодолевает человек силу притяжения, тем большей энергией он обладает. Движения могут быть энергичными, сильными, легкими и слабыми — тяжелыми.
Представьте, что в руке держится гиря; чем легче вы выбросите руку с гирей кверху, тем больше у вас силы. Чем медленнее будет подниматься рука, тем больше будет продемонстрирована тяжесть.
Обратно: чем больше вес, тем быстрее упадет рука вниз; чем медленнее она опускается, тем сильнее человек. Следовательно, медленные движения книзу и быстрые кверху — признак наличия энергии; изменение скоростей верхних движений на медленные и нижних на быстрые демонстрирует ослабление энергии. Быстрое падение человека и медленное поднятие — признаки слабости.
Избыток энергии обыкновенно совпадает со стремлением развертываться, принимать эксцентрические положения; упадок, наоборот, приводит к свертыванию, к концентрации.
Упражнения на „тяжелое и легкое“, то-есть — на повышение и понижение энергии, являются особо трудными и в то же время необходимыми, потому что приучают натурщика к окончательному владению своим телом.
Все разобранное до сих пор суммируется в специальных упражнениях, называемых партитурами действия. По партитурам этюды сначала разыгрываются индивидуально, затем делаются вдвоем, втроем и т. д. Партитура — это данный руководителем точный план — схема действия, при чем для каждой разновидности движений имеется своя линейка. По этой линейке дается канва основных положений. Все линейки согласованы между собой, а дело натурщика придумать на них сюжет, высчитать логически нужные схемы линеек.
В таком этюде должна иметься линейка счета и ритма, в которой тщательно разработана временная сторона этюда, определен порядок и длина всех движений.
Вторая линейка — пластическая, запись движения достигается зарисовкой основных положений, отметкой осей или комбинаций их, отметкой направлений по сетке.
Третья линейка — свертывание и развертывание с нарушениями или без нарушений. В этой линейке определено количество тактов то одного состояния, то другого, и смены их друг за другом.
Четвертая линейка — учет повышения и понижения тела по отношению к полу и к игровым площадкам на полу.
Пятая линейка — учет напряжений, как повышается энергия, как понижается, в какой момент наступает перелом в состоянии, как происходят смены максимума и минимума напряжений.
Каждая линейка имеет свои условные обозначения, свою запись. Получается нечто в роде нотной записи, по которой видно, что происходит в каждом такте действия по каждой линейке.
Эта работа самая интересная, придающая натурщику максимум технической виртуозности и приучающая его уметь управлять собой в совершенстве, отдавая отчет во всем том, что он делает. Конечно, эти упражнения необходимы только для тренировки.
Перечисленный тренаж внешней техники натурщика должен параллельно пополняться изучением рефлексов поведения человека. Но в материал этой книжки не входит разбор этой самостоятельной дисциплины воспитания. Повторяю, что не надо бояться, что изложенная тренировка может привести к излишней схематизации, черствости игры перед кино-аппаратом. Не надо воспринимать систему, как стиль, не надо допускать в работе излишней угловатости, грубости. Работать надо мягко, спокойно, а главное — свободно и уверенно.
После того, когда будет пройден полный курс обучения, — наступит у натурщика нужная уверенность в движениях, соединенная с естественной простотой. Хаос же неорганизованной, мятой, запутанной работы будет уничтожен, заменен выразительной четкостью, убедительность которой доказана всему миру Чарли Чаплиным, Лон Ченэем, Адольфом Менжу, Мэри Пикфорд и др. первоклассными натурщиками.
ѴІІ. На производстве
Одно дело работать экспериментально в школе, другое — перейти на производство. Без практических съёмок, без экспериментов уже на картинах невозможно окончательное совершенствование. Только проверяя свои знания опытом, пополняя их, ища новые методы работы, можно продвинуть, развить кино культуру. А самое главное то, что теоретически нельзя все рассчитать, практика иногда в корне ломает теоретические установки, если в них была допущена ошибка.
Есть ошибки в предварительном расчете, могущие обнаружиться только на производстве.
Как же нужно вести работу?
Прежде всего не должно быть ничего халтурного, ничего случайного и необдуманного, Для съёмки картины должен быть составлен твердый производственный план, установлено количество съёмочных дней, сценарий разработан до мельчайших деталей, составлена смета и т. п.
Залог успеха будущего фильма — в правильной организации съёмок и обдуманный тщательный подход режиссера. Без хорошего администратора, снабженного рядом расторопных помощников, халтурность картины будет обеспечена.
Нельзя работать со случайными людьми: все члены производственной группы должны быть известны друг другу, должны сговориться, знать свойства и особенности каждого. Не может быть ни одной съёмки, тщательно не съорганизованной заранее. Режиссер должен заранее все знать и точно записывать свои требования помощникам.
Я помню, как реально перед нами возникло основное правило съёмок, которое мы заранее, теоретически, никак не могли учесть. Приступая к работе, мы тщательно разрабатывали сценарий, определяя место каждому кадру и точно зная, что в каждом кадре делается. Сценарии конструировались монтажно. Из экономии пленки и времени снимались только те кадры, которые были зафиксированы в плане. Оказалось, что случайности, новые мысли, неожиданный материал, отсутствие точного монтажного учета мешают монтажу ленты, если, материал её заготовлен не с запасом. Если в сценариях имеется общий план, перебиваемый рядом крупных планов, затем продолжающийся заново — необходимо вместе с крупными планами снимать то же действие и на общем. На одни крупные планы надеяться нельзя, вы никогда не будете гарантированы от провалов в действии или во времени. Лучше всего общие сцены, имеющие единую продолжительность, снимать несколько раз с различных точек зрения, а детали, крупные планы снимать уже после или одновременно вторым аппаратом (если позволяет свет).
Режиссер при монтаже должен иметь неограниченное количество материала; чем его больше, тем лучше получится картина; но материал этот должен быть возможно разнообразнее. Надо стремиться к минимальному количеству дублей, повторений; всю пленку, все время, всю энергию необходимо тратить на засъёмку вариантов.
Обыкновенно садится режиссер на свое место, читает натурщикам сцену, они её мало репетируют, а затем оператор снимает. На первый раз выходит плохо. Режиссер делает замечание, указывает недостатки, и съёмка продолжается заново. Подобная процедура длится множество раз, натурщики работают все время по-разному, хаотически двигаются и в неопределенное время.
В результате — во время монтажа перед режиссером будут лежать однородные куски засъёмки неорганизованного актерского действия с одной точки зрения. Конечно, можно из этих кусков выбрать лучший, но время и пленка, потраченные на достижение очень сомнительного результата, будут не оправданы ни художественно, ни коммерчески. Да часто бывают случаи, когда на просмотре кусков не отличишь один дубль от другого, так незаметна обманчивая на-глаз разница актерской работы. А разве не бывают случаи, что одна сцена снята 50 раз с одного места, а потом на просмотре сообразишь, что лучше бы поставить аппарат иначе. Открытие часто бывает запоздалым, и никаких возможностей для пересъёмки уже нет. Не только у нас так безрассудно снимают одно и то же; я слышал от авторитетных кинематографистов рассказы про заграничную кино-работу; один из них видел, как пустяковая сцена прокрадывания кино-актера около стены переснималась бесконечное количество раз. Если ставить каждое движение натурщика и репетировать до тех пор, пока не получится именно то, что надо, результаты съёмки будут гораздо продуктивнее. Можно и должно переснимать сцену один, два раза, но только в том случае, если в ней рассчитано все до мельчайших подробностей, абсолютно точно срепетировано. Из сказанного не следует, что не надо тратить много пленки на съёмках, брак должен быть очень большим, но надо снимать варианты рассчитанных, строго срепетированных сцен, повторения же излишни. Чем больше выбора различных кусков при монтаже у режиссера, чем больше заснятого и так и иначе, тем больше и средств к победе над зрителем. К продуманному тщательному репетированию почему-то относятся все с пренебрежением. Думается, что это происходит оттого, что мало кто умеет точно работать. Когда мы впервые на наших фабриках тратили половину съёмочного дня на репетиции, на нас директоры фабрик смотрели, как на сумасшедших растратчиков и художественных неучей. Результаты заставили всех убедиться в правильности нашего метода работы: картины оказались дешевле нормы и добротного художественного качества. Точная постановка каждого мельчайшего движения натурщика дает неограниченные монтажные возможности. Дело в том, что если натурщики при нескольких съёмках одного и того же играли по-разному, делали одинаковые движения, то подогнать куски, заснятые с разных мест, бывает невозможно — движение не совпадает. А в абсолютном совпадении движений — главная выразительность, главный эффект монтажа. Иногда бывает нужно одно движение сразу показать заснятым с нескольких точек зрения, разбить его на ряд моментов. Хорошо смонтировать такой кусок можно только в случае одинаковости выполнения этого движения во всех кусках. Правда, есть другой способ: съёмка несколькими аппаратами — способ слишком дорогой и иногда неосуществимый по техническим соображениям (нельзя поставить свет для одновременной засъемки с разных точек зрения или не позволяет место).
Лучше всего съёмку производить так:
- Режиссер намечает с натурщиками общий характер сцен, указывает все движения.
- Ассистент режиссера выучивает с натурщиками сцену, данную режиссером.
- Режиссер проверяет и окончательно отделывает сцену.
- Съёмка.
Если позволяет масштаб съёмки и если у режиссера достаточное количество ассистентов, которым он вполне художественно доверяет, надо параллельно ставить несколько сцен в разных местах съёмки. При таком методе режиссерская голова не забивается процессом выучивания натурщиков, он не теряет свежего глаза на сцену и производительность во много раз повышается.
В „Луче смерти“ нам дешево и художественно успешно удались массовые сцены, происходящие на территории бывшей Сельскохозяйственной выставки. Мною предварительно с главным оператором тов. Левицким и художником т. Пудовкиным были осмотрены места съёмок, точно определены, засняты на фото и зарисованы кадры. Дома я составил план массовок для каждого кадра, мобилизовал всех своих ассистентов и каждому дал по небольшому заданию, совершенно точно указав, что он должен делать со своими людьми, повозками, лошадьми в кадре № такой-то, когда их выпускать и т. д. Результат получился чрезвычайно показательный: в три дня были засняты огромные массовки без лишней сутолоки и напряжения, доброкачественно, быстро и экономно.
Насколько лучше такой способ работы, чем бессмысленное режиссерское орание и суетня на съёмках, когда натурщики зря ждут, помрежи, высунув язык, бессмысленно мечутся, осветители нервничают и т. д.
Конечно, помимо расчета, на съёмках бывают случайности: или что-нибудь не ладится, или придет новая мысль в голову постановщика, или обнаружится неожиданный, неучтенный ранее материал. В таком случае нельзя не отступать от плана, — наоборот: всякая случайность, всякое новое открытие, всякая возможность обогатить съёмочный материал должна быть использована. Режиссер в таком случае должен быстро ориентироваться и возможно полнее и лучше использовать заново открывшийся материал.
Чем больше возможностей для пополнения материала съёмки, тем легче режиссеру, тем лучше получится картина. При ограниченном материале работать труднее. Опыт работы с ограниченным материалом был применен в съёмке картины „По закону“, в которой действуют три лица в течение пяти частей (в одной части действуют пять человек), и все происходит в одной комнате — при одной декорации. Материал для съёмок этой картины был чрезвычайно узок, необходимо было только его обработать досконально, — так, чтобы внимание зрителя сохранялось неослабленным до самой последней части. Для этого удавшегося опыта потребовалось количества рабочей энергии у съёмочной группы значительно больше, во всяком случае — не меньше, чем на постановку огромной картины с десятками декораций и массовками. Весь наш опыт, все знания пришлось до предела мобилизовать на подчинение ограниченного материала. Все время работать таким образом нельзя — переутомление съёмочной группы себя не оправдает; поэтому лучше иметь возможность снимать большое количество разнообразного материала.
Можно вывести правило: чем больше опыта и мастерства у съёмочной группы, тем ограниченней может быть сценарный материал; чем съёмочная группа неопытней, тем больше для нее должно быть предоставлено съёмочных возможностей.
А сейчас я усиленно думаю о другом, — уже художественно-хозяйственном эксперименте. Дело в том, что наши стандартные средние картины снимаются по многу месяцев и очень дорого стоят при чрезвычайно среднем художественном качестве. Происходит это оттого, что съёмки неправильно организовываются, оттого, что режиссеры не пользуют широко ассистентскую помощь и работают не со специально тренированным актерским материалом. Я берусь утверждать, что при правильной организации съёмки квалифицированный режиссер с опытными помощниками, операторами, художником и сработавшейся группой натурщиков на 75% может сократить выработавшиеся нормы съёмок без понижения художественного качества выпускаемой фильмы.
Попробуйте вести тщательный дневник съёмок: вы увидите, сколько времени и энергии тратится впустую. Правда, чрезвычайно часто главным тормозом является организация самой фабрики, а не организация съёмочной группы. В то же время опыт доказал правильность, казалось бы — парадоксального, вывода: чем тщательнее будет работать режиссер с группой, чем подробнее он все репетирует и рассчитывает, тем скорее будет закончена съёмка картины.
В заключение должен сказать несколько слов о съёмках неигровых фильм, о хронике. Основа кинематографии — монтаж реального материала — ясно и отчетливо говорит в пользу неигровой. Мы знаем, что лучше всего выходят настоящие вещи в противовес искусственным — игровым. К сожалению, к съёмкам хроники почти всюду относятся недостаточно внимательно. Почти нет фильм подобного рода, которые смотрелись бы с подлинным, настоящим интересом, равным большим игровым кино-произведениям. Однако, за последние годы было несколько лент, могущих вполне конкурировать с искусственными.
Сейчас уже не нужна борьба за неигровую; в полезность, необходимость и подлинную её интересность большинство поверило. Прошло время агитации, надо вплотную подойти к изучению неигровых лент. Надо на неигровую бросить лучшие рабочие силы: лучших режиссеров, лучших операторов, лучших монтажеров.
Коренная ошибка в том, что съёмка хроники считается дешевой. Это предположение не верно: хорошая хроника стоит дорого, не дешевле, дороже игровых фильм.
Организация фабрики неигровой ленты, поездки, аппаратура, передвижные станции и прочее техническое оборудование чрезвычайно сложны и дороги. Главный тормоз развития таких съёмок заключается в том, что кинематография еще технически слаба. Только несколько лет тому назад сконструированы небольшие совершенные модели кино-аппаратов для хроники. У нас в СССР нет до сих пор ни у одного оператора аппарата „АЙМО“, являющегося одним из лучших современных хроникальных аппаратов. Не имея своей фабрики пленки, мы не имеем возможности иметь пленку высшей чувствительности. Выписывать её из-за границы нельзя — она сохраняется только несколько месяцев. А самые чувствительные сорта её могут быть приготовлены только к часу самой съёмки и требуют немедленного проявления. Между тем, без пленки высшей чувствительности невозможны засъёмки ряда важнейших вещей вечером или в темных помещениях. Правда, мы имеем в своем распоряжении такие светосильные объективы, как Плазмат доктора Рудольфа, светосила: 1, 2, но все равно: такого объектива без чувствительной пленки часто недостаточно. Светосильные объективы большей частью дают ватные изображения, лишенные глубины и четкости; опять мы имеем дело с техническим несовершенством кино. Работа с передвижными электростанциями тоже не может быть признана для хроники удовлетворительной хотя бы потому, что нельзя снимать незаметно.
В помещениях, не приспособленных для кино-съёмок, нельзя заснять все происходящее потому, что некуда отойти: угол зрения восприятия кино-глаза объектива требует значительного отхода от снимаемого. Кино-аппарат видит под другим углом зрения, чем наш глаз. Наиболее широкоугольный объектив из известных нам — „Тахар“ с фокусным расстоянием в 28 мм, но я даже не знаю, имеется ли он у кого-нибудь из наших хроникальных операторов.
До тех пор, пока не будут найдены формы закономерного построения неигровых лент, пока не будет доступна к широкому употреблению светочувствительная пленка, пока не будут четко работать светосильные объективы, пока не будет удобных широкоугольных объективов, пока не будет экономного, легко-переносного света, — до тех пор неигровая лента по-настоящему не разовьется.
Идеологи неигровой! — бросайте убеждать в правильности своих воззрений — они вне сомнений. Сделайте или укажите методы создания подлинной, захватывающей кино-хроники. Организуйте кино-фабрику, обладающую специальной хроникальной аппаратурой и пленкой, добивайтесь новых технических открытий — усовершенствования кинематографии. Когда можно будет снимать легко и удобно, не считаясь ни с местом съёмки, ни с условиями света, тогда наступит подлинный расцвет неигровой ленты, демонстрирующей наш быт, наше строительство, нашу землю.
☆☆☆
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.