Разсказы русскаго солдата
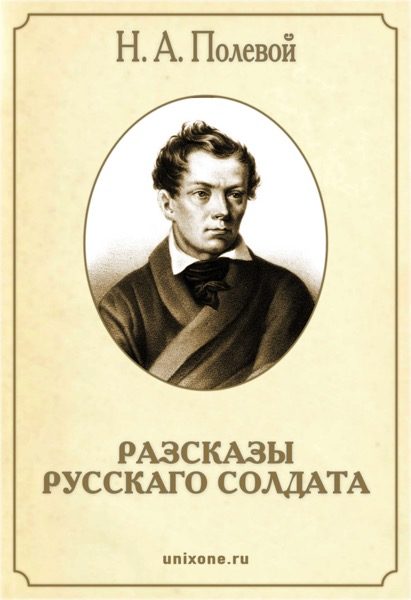
ЧАСТЬ І. КРЕСТЬЯНИНЪ
Кажется, это было въ 1817, или 1818 году, мнѣ надобно было ѣхать въ Острогожскъ и Воронежъ; я жилъ тогда въ Курскѣ. До-сихъ-поръ между настоящими русскими купцами нѣтъ обычая ѣздить на почтовыхъ. Только со времени учрежденія дилижансовъ, купцы для ѣзды между Петербургомъ и Москвою оставили вольныхъ ямщиковъ и извощиковъ. Но въ другихъ мѣстахъ Россіи, повсюду, они ѣздятъ еще на вольныхъ, то есть, нанимаютъ условною цѣною пару, тройку лошадей на нѣкоторое разстояніе, гдѣ извощикъ смѣняется, или сдаетъ ѣздока другому; тотъ везетъ его опять извѣстное разстояніе и сдастъ третьему. Такъ отъ Тамбова, отъ Херсона, можете доѣхать въ Архангельскъ, въ Казань, въ Смоленскъ. Этотъ порядокъ ѣзды идетъ издревле, съ того времени, когда еще не было на Руси ни почтовыхъ лошадей, ни подороженъ, и до-сихъ-поръ сохраняется онъ между купцами, несмотря на большія неудобства. Купецъ обыкновенно ѣдетъ цѣлымъ домомъ; иногда везетъ съ собой товаръ, всегда деньги, и кучу постелей, подушекъ, ковровъ, полстей, подстилокъ, одѣялъ, запасовъ, припасовъ, на дождливое время шинель, на холодное — тулупъ, на морозное — шубу и, кромѣ того, дюжину коробокъ, коробковъ, сулеекъ, погребцовъ, чемодановъ, фляжекъ, кульковъ, сумъ, и проч. и проч. Нерѣдко четверо, часто трое, никогда менѣе двухъ хозяевъ не сидитъ въ этомъ домѣ, называемомъ повозкою, укрытомъ, обшитомъ, обитомъ сукномъ, холстиной, кожей, рогожами, обгороженномъ, загроможденномъ сзади, и спереди, и на передкѣ коробами и всякой всячиной. Какой почтовой ямщикъ повезетъ, даже свезетъ съ мѣста эту громаду? Давай такому ямщику сѣдока лихаго, у котораго вся поклажа сжалась въ маленькій чемоданчикъ; на защиту противъ вѣтра и непогоды всего только какой-нибудь клокъ сукна, или лоскутокъ бурки; давай ему курьера, который, зацѣпивъ трубку зубами, имѣетъ непостижимую способность усидѣть на веревочкѣ, и не только усидѣть, но и выспаться, пока телѣга, безъ подстилки, безъ покрышки, летитъ на гору и подъ гору, тощія клячи несутся скорѣе вихря и ямщикъ, въ армякѣ, закатываетъ, въ упоеніи, во все горло: Ахъ! да западала! частымъ ельничкомъ, охъ! все березничкомъ, охъ! да зарастала! Ну! ну! ну!. Замѣтьте, когда встрѣтится вамъ въ дорогѣ почтовая тройка, и вмѣстѣ съ нею повозка на вольныхъ — разница между ними большая. Почтовой ямщикъ во всю прыть мчится мимо дорожнаго барина — огромной повозки, запряженной тремя огромными лошадьми, съ дюжимъ ямщикомъ въ красной рубахѣ, съ тремя колокольчиками на дугѣ, съ мѣдными бляхами и погремушками на сбруѣ. Спорымъ, но тихимъ и ровнымъ шагомъ ступаютъ между тѣмъ лошади вольнаго; изъ повозки его выставляется лицо пассажира, пробужденное мимолетнымъ визгомъ, и изъ подушекъ красноватое лицо глядитъ: кто это промчался мимо, и уже вдали, въ облакахъ пыли? Во-вторыхъ, тяжело ѣздить на вольныхъ нашему брату, недорожному, домосѣду, но легче купцу, который по одной дорогѣ, изъ Москвы въ Харьковъ, Ростовъ, къ Макарью, изъ Вологды, Курска въ Москву ѣдетъ въ сороковой разъ, иногда ѣздитъ по два, по три раза въ годъ. Ему все знакомо по дорогѣ; его вездѣ знаютъ, принимаютъ, растворяютъ предъ нимъ ворота, кланяются ему, вѣдаютъ его имя, и имена отца его и дѣдушки его; передъ нимъ ставятъ хлѣбъ-соль; всѣ дородныя хозяйки и хорошенькія ихъ дочери извѣстны ему по именамъ; онъ знаетъ, гдѣ надобно поберечься, гдѣ остановиться, гдѣ побраниться, гдѣ подарить, поласкать. Вотъ онъ, напримѣръ, на постояломъ дворѣ, въ какой-нибудь Лопаснѣ, Ивановкѣ, Липцахъ, Красной Слободѣ, передъ нимъ на столѣ кипитъ огромный самоваръ, лежитъ московскій калачъ, разставлены гжельскія чашки, кулекъ съ икрой, балыкомъ, сайкою. И краснѣя, и потѣя въ свѣтлицѣ стараго знакомаго ямщика, онъ располагается господиномъ, пьетъ, ѣстъ, закусываетъ, шутитъ, говоритъ, договаривается, споритъ; и онъ и хозяинъ называютъ другъ друга пріятелями, знакомыми, величаютъ по имени, по отчеству; оба клянутся, что сказываютъ крайнюю и послѣднюю цѣну, ссылаются на худые кормы; хозяинъ споритъ, что обрѣзные червонцы, какими платитъ проѣзжій, совсѣмъ не въ ходу; тотъ утверждаетъ, что вездѣ ихъ берутъ, что другихъ денегъ теперь въ цѣлой Москвѣ нѣтъ. И вотъ они поспорили, увѣрились, что нашла коса на камень, утвердились во взаимномъ уваженіи къ ловкости и уму одинъ другаго, и — наконецъ поладили; повозка подкатилась, и купецъ безпечно залегъ въ свои подушки и перины до новаго знакомаго, гдѣ перемѣняетъ онъ лошадей съ прежними обрядами, спорами, уговорами. Возможно ли вообразить такого ѣздока, пріѣхавшаго на почтовую станцію, гдѣ смотрительша, въ чепчикѣ, предложитъ тощій кофе, пока почтовой староста, почесывая голову, разсуждаетъ, что урода — повозку пріѣзжаго, съ мѣста не стянутъ три лошади, и что на трехъ сѣдоковъ велѣно по указу припрягать четвертую лошадь… Гдѣ поэзія самовара, ласковой хозяйки, калачей, сайки, икры? Вы знаете, что на почтовой станціи можно найдти все необходимое у смотрителя.
Но… я чувствую, что къ старости становишься болтливъ, особливо вспоминая что-нибудь изъ своей молодости: началъ о томъ, какъ мнѣ надобно было, лѣтъ семнадцать, или шестнадцать тому, ѣхать изъ Курска въ Острогожскъ, а заговорилъ объ ямщикахъ. Впрочемъ, лишнее слово, только-бы не въ осужденіе ближняго, право, не бѣда. Люблю широкій, просторный разсказъ, гдѣ всякой всячинѣ свободно лечь и потянуться. А притомъ, можетъ быть, не всякому знакомо то, что я разсказывалъ; и я докончу, какъ пошелъ разсказъ мой, тѣмъ, что такимъ-то образомъ до-сихъ-поръ сохраняются у насъ, на Руси, особенныя слова и выраженія между ямщиками и проѣзжими. Есть особыя Ямскія, гдѣ живутъ ямщики, и гдѣ у нихъ свой міръ, свои нравы, обычаи, обряды. Въ Москвѣ такихъ Ямскихъ Слободъ нѣсколько: Тверская, Переяславская, Рогожская, и проч. Подите туда — это не Москва, это какой-то особенный городъ: иначе домы построены, иначе люди живутъ, одѣваются, говорятъ; это такіе уголки въ Москвѣ, гдѣ всего болѣе сохранилось донынѣ русской старины, хотя и тамъ уже домы перестроиваются. Но отсюда выходятъ всѣ эти безчисленные, безконечные обозы; отсюда выѣзжаютъ купеческія вольныя тройки ; здѣсь тѣснятся всѣ пріѣзжающіе въ Москву ямщики и извощики; здѣсь можете подрядить тысячу телѣгъ, хоть до Одессы и до Архангельска; можете нанять извощика куда угодно, только не далѣе предѣловъ Русскаго Царства. Вамъ дадутъ тройку жирныхъ, огромныхъ лошадей; и если у васъ нѣтъ своей повозки, то и съ огромною ямщицкою повозкой, укутанной рогожами, съ рѣзнымъ задкомъ у кибитки, выложеннымъ разноцвѣтною фольгою, и повезутъ васъ въ Питеръ, Курскъ, Смоленскъ, Володимеръ, останавливаясь на своихъ особенныхъ станціяхъ и минуя почтовыя. Ѣхавши въ Курскъ, вы проѣдете мимо Подольска и остановитесь въ Лопаснѣ; ѣхавши въ Петербургъ — мимо Черной Грязи, въ селѣ Чашниковѣ, 40 верстъ отъ Москвы; здѣсь ямщикъ дастъ вздохнутъ своимъ лошадямъ, и повезетъ васъ до Клина, а отъ Клина, на свѣжей тройкѣ, васъ доставятъ не кормя въ Тверь, и поставятъ въ условленный часъ, по договору, въ тамошнюю Ямскую, минуя Городъ Миланъ, гдѣ съ тощимъ животомъ вы любуетесь на изображенія изъ Шекспировыхъ трагедій, и не можете рѣшить: что тутъ хуже — чай, кофе, или обѣдъ?
Ямскія Слободы, сказалъ я, есть у насъ во всѣхъ значительныхъ городахъ; но ямщики нѣкоторыхъ городовъ особенно славятся своими лошадьми, своимъ достаткомъ, своею ѣздой. Таковы ямщики московскіе, коломенскіе; ямщики курскіе также знамениты. Любо посмотрѣть на ихъ опрятные, высокіе домы, съ кровлями почти перпендикулярными, съ раскрашенными окнами, съ крытыми обширными дворами, гдѣ все завалено кибитками, ободьями, рогожами, колодами, дегтярными бочками, телѣгами, и гдѣ останавливаются обозы и иногда тѣсно бываетъ отъ возовъ и лошадей; любо посмотрѣть и на самихъ ямщиковъ, крѣпкихъ, сильныхъ, здоровыхъ, рыжебородыхъ, подъ-пару ихъ дюжимъ лошадямъ, которыя могутъ выѣхать 80, 100 верстъ въ сутки, которыхъ хозяинъ бережетъ и лелѣетъ, какъ друзей. Странна жизнь ямщика: спокойно сидитъ онъ у воротъ своего дома, въ кругу сосѣдей, на прилавочкѣ, толкуетъ, дремлетъ послѣ сытнаго обѣда, или отдыхаетъ, проглотивши дюжины двѣ чашекъ чаю; приходитъ человѣкъ — и чрезъ два часа ямщикъ уже помолился Богу, надѣлъ дорожный зипунъ, простился съ родными, а чрезъ нѣсколько часовъ еще, онъ ужъ катитъ на тройкѣ своей по московской, арзамазской, воронежской дорогѣ, или тихо переступаетъ подлѣ обоза, который отправился въ Бердичевъ, въ Адесту, въ Липецкъ, если угодно, или Бериславль, Королевецъ. Прежде, когда многіе курскіе купцы торговали за границу, Лейпцигъ, Бреславль, Кёнигсбергъ были знакомы курскимъ ямщикамъ такъ же близко и коротко, какъ ихъ сосѣдка, Коренная Ярмарка. Мнѣ случалось видѣть и возвращеніе ямщиковъ домой. Ничего никто не кричитъ отъ радости, отъ удивленія о томъ, что отецъ, братъ, сынъ воротился послѣ полугодоваго отсутствія. Спокойно убираютъ, поятъ лошадей и, сытно пообѣдавъ, прохрапѣвъ часовъ пять съ дороги, ямщикъ, между прочимъ, только разсказываетъ товарищамъ, сидя вечеромъ у воротъ, и то если спросятъ его: А што, таго, гдѣ ты бывши? разсказываетъ, что онъ ѣздилъ въ Одессу, а оттуда наняли его въ Николаевъ, потомъ довелось въ Астрахань; тамъ вышла работа въ Эривань, а оттуда онъ взялся свезти ѣздока на долгихъ въ Тетюши, изъ Казани наложилъ товаръ до Москвы, и потомъ черезъ Рязань пріѣхалъ домой. Другіе не дивятся нисколько, а чрезъ сутки, пожалуй, пріѣзжій ямщикъ наймется опять, хоть въ Аршаву (Варшаву).
На долгихъ. — Знаете ли, что́ это такое? Это значитъ, что васъ договариваются въ положенный срокъ довезти отъ одного мѣста до другаго на однѣхъ и тѣхъ же лошадяхъ, останавливаясь ночевать и кормитъ лошадей по дорогѣ. Кому не́куда спѣшить, такая ѣзда, особливо лѣтомъ, особливо въ обществѣ добрыхъ товарищей безпечна и весела. Такъ на ярмарки, большею-частью, купцы ѣздятъ на долгихъ, и иногда собирается ихъ по 10-ти, по 20-ти троекъ. Въ такомъ случаѣ останавливаются ночевать и обѣдать обыкновенно внѣ селеній, гдѣ-нибудь подъ лѣсомъ, на берегу рѣки — и тутъ полный досугъ русскому духу и дорожному досугу! Все забыто — и барышъ и убытокъ; разводятъ огонь, накупаютъ припасовъ, варятъ, жарятъ, кипятятъ самовары; на разостланныхъ коврахъ, тюфякяхъ, подъ ташами, разбитыми въ видѣ палатокъ, идетъ ужинъ, обѣдъ; затѣмъ слѣдуетъ отдыхъ; кто поетъ, кто спитъ, кто споритъ, говоритъ, и часто хоръ стариковъ
сливается съ хоромъ молодежи:
Наступаетъ ночь. Огонь погасъ, все убрано, снесено въ повозки; проѣзжіе крѣпко спятъ въ повозкахъ, закрытые рогожами и кожами; брезжитъ Востокъ раннею зарею; ямщики напоили лошадей, впрягли, и съ словомъ: Господи благослови! повозки катятся съ спящими сѣдоками до перваго мѣста, гдѣ снова останавливается поѣздъ кормить лошадей, а сѣдоки обѣдать, прокачавшись, какъ въ колыбели, 35, 40 верстъ.
Все это измѣняется теперь. Но такъ бывало еще за 20 лѣтъ. Я помню это.
Вотъ, когда мнѣ, въ 1817, или 1818 году, надобно было отправиться въ Острожокь… впрочемъ, не привести бы мнѣ на память читателямъ этою поѣздкою того нѣмецкаго путешественника, который ѣздилъ когда-то на своемъ вѣку изъ Данцига въ Штольпе, и послѣ того 40 лѣтъ разсказывалъ объ этомъ… Спѣшить мнѣ было некуда, и я рѣшился ѣхать на долгихъ. Притомъ, мнѣ надобно было нанять надежнаго, добраго ямщика, потому-что со мной было много денегъ, а ѣхалъ я одинъ. Отправляюсь въ Ямскую Слободу. Положеніе этой слободы, и вообще Курска, прелестно. Городъ стоитъ на горѣ, которую обтекаетъ рѣка Тускорь, и съ нѣкоторыхъ мѣстъ взоръ обнимаетъ пространство, усѣяное деревеньками, селами, перелѣсками, нивами, верстъ на 20-ть. Если вы будете въ Курскѣ, совѣтую вамъ пойдти на берегъ Тускори, къ бывшему Троицкому Монастырю, и полюбоваться оттуда видомъ на Стрѣлецкую Слободу, окрестности ея и скатъ подъ гору къ Тускори. Не менѣе хорошъ видъ и на Ямскую Слободу, которая раздвинулась по луговой сторонкѣ рѣки, на коренской дорогѣ.
Но поспѣшимъ разсказомъ. Мнѣ попался здоровый, плечистый, рыжій ямщикъ; взялся ѣздить со мною, сколько мнѣ угодно, и на другой день въ огромной повозкѣ, прочной, крѣпкой, набитой свѣжимъ сѣномъ, запряженной тройкою лошадей, съ парою колокольчиковъ на дугѣ, покатились мы съ Васильемъ (такъ звали моего ямщика). Помню это красное лицо, эти плечи, эту голову, гдѣ между глазъ могла помѣститься калена стрѣла. Василій былъ человѣкъ лѣтъ 50-ти, веселый, словоохотный, большой мастеръ пѣть заунывныя пѣсни; онъ выпивалъ едва не полштофа зелена́ вина, для аппетита, и никогда не бывалъ пьянъ; ѣлъ онъ ужасно; не спрашивалъ, что́ ему давали ѣсть, смотрѣлъ только на количество, а не на качество; могъ пить пиво, хлебать молоко, ѣсть рыбу и кислую капусту, пить чай — въ одно и то же время. Обѣдъ оканчивался у него ковшемъ воды, не менѣе знаменитаго Торова рога Скандинавской Эдды. Послѣ того онъ ложился спать подъ повозку; спалъ, храпѣлъ, какъ Илья Муромецъ. Но удивительно: этотъ же человѣкъ не зналъ устали въ работѣ; могъ не спать сутки, сидя на передкѣ; вѣрно просыпался, когда надобно было поить лошадей, задавать имъ овса, и за нихъ готовъ былъ онъ самъ отказываться отъ сна, пищи и питья, и не жаловаться, и пѣть пѣсню подъ голосъ своего тощаго желудка. Смѣло можно было при немъ не бояться разбойника, оставить повозку, уйдти впередъ, отстать, или спать безъ просыпа. Василій былъ удивительно бывалый человѣкъ; вообразите, что онъ побывалъ даже въ Парижѣ, подрядившись изъ Лейпцига, въ 1814 году, везти какіе-то казенные снаряды. Онъ разсказывалъ… но, прочитайте статейныя донесенія старинныхъ русскихъ пословъ, напримѣръ, изъ Италіи, о томъ, какъ «городъ Флоренскъ безмѣрно строенъ, согражденъ палатами превысокими, а столповъ превысокихъ, саженъ по 50-ти и больше, во Флоренскѣ шесть. А кирки, или мечети, зѣло стройны, и иную дѣлаютъ уже лѣтъ 20-ть, а еще дѣлать лѣтъ 20-ть; все камень аспидъ; трутъ пилами. А стоитъ городъ межъ великими и высокими горами; а длина градскому мѣсту и съ уѣздомъ верстъ 13-ть, а то все горы. А извычай у жителей такой: мужи и жены честные, и дѣти, ходятъ все въ скуратахъ, сирѣчь, въ личинахъ всякихъ цвѣтовъ. Да казали намъ казенныя палаты, палата съ сосудами однозолотыми и съ вещами драгими, кресла княжія съ каменьемъ драгимъ, и съ жемчугомъ большимъ, жемчугъ иной въ орѣхъ есть…» Вотъ на это походили и разсказы Василья о Паризіи и Леонтьевѣ (Ліонѣ), Нунціи и Тавлери (Нанси и Тюльери). Онъ сказывалъ за диво, что французскіе мужики носятъ башмаки деревянные, и называютъ ихъ суботы. Вообще, по-французски говорилъ онъ довольно-порядочно; сказывалъ мнѣ, что Французы называютъ хлѣбъ пень, масло быръ, воду охъ, что самая злая брань, если скажешь Французу: Наполеонъ капутъ; что по-французски: жонопранъпопо, значитъ: «не знаю ничего» (je ne comprends pas). — «Хороши земли», заключалъ онъ, «да все нехристь, бѣсъ ихъ знаетъ, какіе; и кто погонится за барышомъ, да поѣдетъ въ ту сторону, въ рукахъ у него будетъ много, а въ карманѣ ничего!» Надобно знать, что путешествія бѣднаго Василья за границу кончились встрѣчею на обратномъ пути съ Башкирами, которые, отъ нечего взять, обмѣняли лошадей его на клячи, такъ-что онъ едва могъ доѣхать до святой Руси, и то съ чужимъ обозомъ.
Мы выѣхали съ нимъ изъ Курска рано утромъ; погода была прекрасная — начало іюля; небо яхонтовое, поля изумрудныя, нивы золотыя. Дорога шла между селеніями, полями, рощицами; народъ былъ разсыпанъ по полямъ; все казалось мнѣ такимъ веселымъ, счастливымъ, цвѣтущимъ, потому-что я самъ былъ молодъ, здоровъ, веселъ, какъ птица небесная, и готовъ видѣть въ каждомъ человѣкѣ друга. Печаль скользила у меня тогда по́ сердцу, какъ ласточка нижетъ мимолетомъ по землѣ, а радость выглядывала изъ-за каждаго кусточка и качалась на каждомъ василькѣ между хлѣбными колосьями. Встрѣчи съ сельскими помѣщиками, съ ихъ барынями и барышнями, съ лихими кирасирами, квартировавшими тогда въ Курской Губерніи, съ купцами, ѣхавшими съ старо-оскольской ярмарки — все это было предметомъ моего любопытства, наблюденій, забавы, знакомства, и проч. и проч.
Надобно сказать, однакожъ, что мѣста, по которымъ мы проѣзжали, были, въ самомъ дѣлѣ, большею-частью удивительно-милыя. Природа не являлась тутъ въ грозномъ величіи какого-нибудъ Кавказа, какой-нибудь Сибири; но за то, какъ кокетка, наряжалась она въ пестрые луга, тѣнистыя рощицы, убиралась живописными селеніями, смотрѣлась въ зеркальныя рѣчки и змѣистые ручейки, разстилалась полосатыми жатвами, загоралась алою, палевою, оранжевою зарею, засыпала подъ покрываломъ ночи, сплошь унизаннымъ золотыми звѣздами. Помню мѣстоположеніе Стужина, маленькаго селенія, верстъ 40 отъ Стараго Оскола — что за прелесть! Въ длинной лощинѣ, крутоберегой, обросшей кустарникомъ, вьется серебряная рѣчка, и по ней разбросаны хижинки; съ обѣихъ сторонъ дорога въ гору, и на этихъ горахъ, какъ шахматъ, бѣлѣютъ, желтѣютъ, пестрѣютъ безконечныя поля съ хлѣбомъ. Тамъ лѣниво тянется обозъ Малороссіянъ на волахъ; здѣсь раздается пѣсня поселянина; тамъ природа бросила перелѣсокъ; здѣсь человѣкъ выставилъ шпицъ церкви и кровлю своего сельскаго дома. Какъ нарочно, темная туча всходила вдалекѣ, и молнія дрожала въ ней и рисовала свои огненные узоры, когда съ другой стороны еще ярко свѣтило солнце между облаками, и эти облака обрисовывали собою вокругъ солнца исполинскія снѣговыя горы, съ позолоченными и раскрашенными вершинами. Но еще лучше положеніе небольшаго городка Стараго Оскола, гдѣ, на горѣ, смотря на рѣку и на окрестности, при заходящемъ солнцѣ, я, какъ умѣлъ тогда, долго любовался и мечталъ, почитая себя поэтомъ, потому-что читалъ Жуковскаго, самъ кропалъ плохіе стихи и плакалъ за романами Монтольё и Августа Лафонтена. И въ дорогу съ собой взялъ я, помнится, Мальвину, да что-то Делилевское: мнѣ хотѣлось перевести ея… Какой вздоръ не взойдетъ въ молодую голову!…
Вечеромъ на третій день мы остановились ночевать верстахъ въ 70-ти за Старымъ Осколомъ, въ деревнѣ Становой, уже въ Воронежской Губерніи. Это была обширная малороссійская деревня, съ вымазанными глиною, выбѣленными известкою хатами, съ малороссійскими нравами и обычаями, и я попалъ въ самое шумное сборище усатыхъ Малороссіянъ. У хозяина, гдѣ мы остановились, продавали горѣлку: былъ какой-то праздникъ — и что за разгулье, за пляски, за разговоры! На меня сначала посматривали косо, какъ на пріѣзжаго, но вскорѣ меня полюбила казацкая душа, когда я принялся хвалить ее, разговаривать съ нею, подчивать стариковъ чаемъ, табакомъ, самъ разсказывать о Хмѣльницкомъ, все, что читалъ о немъ у Голикова и Рубана, а еще болѣе съ любопытствомъ слушать разсказы другихъ. Помню, что моя любезность обратила на себя особенное вниманіе стараго казака Никиты Шимченка, съ длинными усами, въ высокой казацкой шапкѣ, съ гордою поступью, съ сѣдымъ чубомъ на головѣ. Онъ пилъ со мною чай, говорилъ о старинѣ, о переселеніи острогожскихъ казаковъ въ эту сторону, заставилъ даже какого-то скрипача пѣть и играть, другихъ — плясать.
Къ удивленію моему, Шимченко былъ даже большой грамотѣй, восхищался Энеидою Котляревскаго и наизусть читалъ мнѣ изъ нея множество мѣстъ.
Солнце было еще высоко, когда мы пріѣхали; досыта наговорившись и наслушавшись, я отправился, съ Моими Бездѣлками въ рукахъ, насладиться зрѣлищемъ заходящаго солнца и гулять по деревнѣ; таковъ былъ тогда обычай у всякаго, кто почиталъ себя поэтомъ, ходилъ, гулялъ; наконецъ сѣлъ у воротъ одной хаты и размечтался о счастьѣ простой, сельской жизни, слыша пѣсни, шумъ и говоръ въ хатѣ и по улицѣ, видя всюду веселыя толпы народа, съ гудками и дудками ходившія по улицѣ. Подлѣ меня неожиданно помѣстился какой-то сосѣдъ, не Малороссіянинъ, и я обрадовался, увидя земляка на чужой сторонѣ. Это былъ отставной солдатъ, сѣдой, безногой старикъ, на деревяшкѣ; изношенная ленточка съ георгіевскимъ крестомъ, добрый, веселый видъ его, ласковый привѣтъ всѣхъ проходившихъ мимо его, что̀ доказывало, какъ уважала его цѣлая деревня — все это расположило меня къ бесѣдѣ съ добрымъ инвалидомъ. Онъ безъ памяти радъ былъ, встрѣтя такого ласковаго, привѣтливаго земляка, и безпрестанно называлъ меня ваше благородіе.

Я узналъ отъ моего собесѣдника, что онъ родомъ изъ Курской Губерніи, изъ однодворцевъ, былъ отданъ въ военную службу, долго служилъ, потерялъ ногу въ Финляндіи, воротился на родину, оставилъ ее, бродилъ въ разныхъ сторонахъ и наконецъ поселился въ Становой, гдѣ исправляетъ должность волостнаго писаря, по воскресеньямъ замѣняетъ должность звонаря и пѣвчаго въ ближнемъ селѣ, и рѣшился окончить жизнь свою между здѣшними обывателями.
Здравый, простой умъ, какой-то философско-комическій взглядъ на все въ мірѣ, особливо разсказы о томъ, гдѣ бывалъ, что видѣлъ, что перенесъ мой инвалидъ, заняли у насъ нѣсколько часовъ. Уже свечерѣлъ, потухъ день; прекрасная лѣтняя ночь наступала, ночь тихая, мѣсячная, теплая, послѣ дождя, бывшаго днемъ, а мы все еще разговаривали. Онъ подробно разсказалъ мнѣ всю свою исторію, всѣ свои похожденія. То, увлеченный живостью своего разсказа, вставалъ онъ, вытягивался, маршировалъ, забывая о своей деревяшкѣ; то чертилъ палкой на пескѣ расположеніе лагерей, желая дать мнѣ понятіе о битвахъ и сраженіяхъ, гдѣ бывалъ; подчасъ умолкалъ, набивалъ свою люльку, тянулъ изъ нея дымъ, и въ разлетавшихся облакахъ дыма, казалось, видѣлъ прежніе, разлетѣвшіеся дымомъ годы своей юности.
Добрый старикъ! тебя, вѣрно, нѣтъ уже теперь въ здѣшнемъ мірѣ! Если бесѣда со мною, тогда юнымъ, беззаботнымъ жителемъ свѣта, усладила твою душу, за то и твои разсказы сильно врѣзались въ мое сердце. И теперь еще ясно могу я представить себѣ твои сѣдые волосы, твой кровью купленный крестъ; слышу еще, кажется, стукъ твоей деревяшки, твой голосъ; вижу твои выразительныя тѣлодвиженія, огонь, сверкавшій въ глазахъ твоихъ, когда ты разсказывалъ мнѣ о гибельныхъ битвахъ, и слезу, появлявшуюся въ глазахъ твоихъ при воспоминаніи о родныхъ, нѣкогда близкихъ твоему сердцу, и улыбку радости, съ какою говорилъ ты объ успокоеніи костей своихъ въ нѣдрахъ матери-земли…
Желалъ бы я передать другимъ что-нибудь изъ твоихъ разсказовъ; но тронутъ ли они другихъ такъ, какъ трогали меня? Чѣмъ замѣнить твой видъ, твой взглядъ, твои движенія, «твое» простое краснорѣчіе сердца? Прибавляя что-нибудь искусственное, я только обезображу твое добродушное повѣствованіе; но могу ли и пересказать такъ, какъ говорилъ ты? могу ли замѣнить твои поговорки, прибавки, побасёнки и этотъ смѣхъ сквозь слезы, и эти слезы сквозь смѣхъ, что такъ удивляло меня, еще непонимавшаго, какъ можно плакать и смѣяться въ одно время? И прежде того видалъ я, что сквозь дождевыя тучи свѣтило солнце, и радугой перепоясывало полнеба, отражаясь въ дождѣ, падавшемъ сквозь лучи солнечные. Я не зналъ тогда, что это всего болѣе похоже на слезы и улыбку человѣка.
Въ ближней рощѣ свисталъ и щелкалъ соловей; коростель скирпѣлъ въ отдаленіи по́ля; лягушки дробили голоса въ своемъ болотномъ концертѣ ; заря потухала на одномъ краю неба и затиралась на другомъ; иногда глухо раздавался голосъ кукушки въ лѣсу, люди рѣдѣли, засыпа́ли. Мой инвалидъ говорилъ мнѣ:
«Вы знаете, что у насъ, въ Курской Губерніи, есть много дворянъ большихъ помѣщиковъ, а еще больше мелкихъ; наконецъ, есть еще у насъ что-то такое, ни дворяне, ни крестьяне, а такъ, самъ крестьянинъ и самъ баринъ, и называется однодворецъ. Говорятъ, будто это остатки какихъ-то прежнихъ дворянъ, потому-что у многихъ однодворцевъ есть свои крестьяне. Я называлъ себя однодворцемъ, какъ мы всѣ себя называли; а впрочемъ, право, мы не вѣдали, что̀ это такое значитъ, такъ-какъ мелкое дворянство, жившее вокругъ насъ, знало о себѣ одно, что съ нихъ рекрутчины не бываетъ. Жили они въ такихъ-же хатахъ, какъ и мы; такъ же одѣвались, такъ же пахали, сѣяли, косили, жали, какъ всѣ мы; ѣли по-нашему и пили по-нашему.
«Жили мы подъ однимъ небомъ Божіимъ, жили изо дня въ день, и весело, не думая о завтрашнемъ днѣ; и житье наше такъ намъ всѣмъ нравилось, что, повѣрите ли, многіе изъ нашихъ дворянъ, прослуживъ много лѣтъ въ военной службѣ, возвращались поручиками, даже капитанами на родину, надѣвали старые свои зипуны и принимались снова за хозяйство. Вотъ было житье: подыми, встряхни, перевороти́ и вывороти — нечего не выпадетъ, ни изъ души, ни изъ головы, ни изъ кармана, кромѣ гроша на вино, да краюшки хлѣба на сегодняшній день! И чего жъ вамъ больше? Былъ ли у насъ въ иной годъ неурожай, ѣсть нечего — мы занимали у другихъ; отдавали, когда потомъ хлѣбъ родился. Такъ барышъ и убытокъ, веселье и горе, сытое брюхо и голодное ѣздили у насъ на однѣхъ саняхъ. Ну, что же, если не было у насъ ничего въ запасѣ, ни лишняго хлѣба, ни лишней коровы, ни лишняго гроша? Приходило горе — на утѣху было у насъ то, о чемъ давно сказано, что оно веселитъ сердце человѣка; приходила радость — всякій просто радовался изо всѣхъ силъ. А впрочемъ, вѣдь и въ городахъ, и вездѣ, кто плачетъ, кто скачетъ; одинъ родится, другой умираетъ; кто родился, кричитъ; кто умеръ, тотъ молчитъ. Валилась ли избушка, хозяинъ подпиралъ ее жердинкой, говоря: «Съ меня станетъ; съ мой вѣкъ простоитъ, а тамъ, какъ самъ свалюсь, и она развалится, такъ строй новую кто захочетъ». У кого не оставалось ни кола, ни двора, ни поля, ни избы, тотъ нанимался у другихъ; а старъ становился, къ работѣ негоденъ — ну, просилъ милостыни и былъ увѣренъ, что сытъ будетъ, потому-что не изъ одной хаты не говорили у насъ : «Богъ подастъ», а подавали, что̀ кто смогъ. Когда намъ не́чего было дѣлать, мы ничего не дѣлали, либо спали, а въ праздники ходили мы хороводами по деревнѣ; и проѣзжій какой-нибудь богачъ, раздумавшись въ своей каретѣ, какъ, поди, завидовалъ нашему счастью и веселью, слушая наши веселыя пѣсни!
«Насъ было въ семьѣ двое. Старшій братъ, Василій, да я, Сидоръ, покорный слуга вашего благородія. Василій былъ старше меня десятью годами, сынъ отъ первой жены. Старику-отцу вздумалось жениться на старости, когда первая жена его умерла; отъ другой жены родился я. Мнѣ и трехъ лѣтъ не было, когда самъ старикъ переселился на Божью ниву. Василій съ моей матерью стали хозяйничать … плохое хозяйство, правда, у старой бабы, да у молодаго парня — ну, что дѣлать! Зато Василья женили рано, и жена его, здоровая баба, работала за трехъ.
«Пока все это такъ и сякъ дѣлалось, я росъ своимъ чередомъ, и о моемъ ребячествѣ многаго сказать вамъ не приходится. Сколько запомню, такъ сперва, лежалъ я въ лубяномъ коробѣ, повѣшенномъ на палку подлѣ печки, и кричалъ почти цѣлый день потому-что меня не́кому было унимать, да и некогда. Потомъ ползалъ я по грязной избѣ и, взбираясь на лавку, падалъ, ушибался, плакалъ; тутъ высаживали меня на улицу, гдѣ, взбираясь на завалину, опять падалъ я, ушибался и плакалъ. Иногда подходили ко мнѣ корова, коза, теленокъ, и, боясь ихъ, я кричалъ изъ всѣхъ силъ, такъ-что слышно было на другомъ концѣ деревни. Сосѣди сидѣли подлѣ своихъ хатъ, или шли мимо, да я хоть разкричись, никому дѣла до меня не было. Единственнымъ защитникомъ моимъ была старая, хромоногая собака, Жучка, съ которою дѣлились мы иногда кускомъ хлѣба, вмѣстѣ лежали на солнышкѣ и вмѣстѣ защищались отъ коровъ, телятъ, козловъ, козъ и свиней, а въ награду я билъ Жучку и любовался, какъ она визжитъ и ласкается ко мнѣ.
«Какъ уцѣлѣлъ я, какъ не упалъ въ колодецъ, который былъ вырытъ подлѣ нашего дома, срубъ незакрытый, вровень съ землею? какъ не выклевалъ мнѣ глаза гусь какой-нибудь, или не забодала меня корова? какъ не сгорѣлъ я подлѣ печки и какъ не раздавили меня возомъ, когда я выползалъ на середину улицы и сидѣлъ въ грязи, или игралъ пылью и пугалъ мимоходящихъ курицъ и пѣтуховъ? — право, не знаю. Но, видно, самъ Богъ хранилъ меня.
«Я поднялся на ноги, началъ ходитъ, просить не ревомъ, но словами, и тутъ ужъ мнѣ стало жить и лучше и легче.
«Надобно знать вашему благородію, что во всей деревнѣ нашей считалось дворовъ съ двадцать-пять. Все эти дворы были вытянуты подъ одну кривую линію, въ два ряда, такъ, что составляли собою улицу, которая, повихиваясь на обѣ стороны, шла по косогору въ логъ, гдѣ текла маленькая рѣчушка, глинистая, тинистая, почти пересыхавшая лѣтомъ; но весною она разливалась и затопляла весь логъ, такъ-что до самой осени грязь не пересыхала у насъ, особливо у гати, обсаженной ивами, гдѣ безпрестанно вязли лошади проѣзжающихъ, и гдѣ проѣзжающіе ругали нашу деревню, на чемъ свѣтъ стоитъ. Все домы у насъ были черныя избы, закоптѣлыя отъ дыма, покрытыя соломою, которую стаскивали мы съ крышъ въ голодный годъ, для корма скотины, а потомъ подновляли на зиму, если было чѣмъ подновить. У рѣдкаго двора была огорожа, или крытый сарай кругомъ двора; почти каждый домъ былъ четыреугольный срубъ, съ маленькими двумя окнами на улицу, съ пестрыми вокругъ нихъ рамками, и съ пузыремъ, или съ обломками стеколъ, такъ запачканныхъ, что ночь начиналась въ избахъ нашихъ двумя часами ранѣе, а оканчивалась двумя часами позже настоящей Божьей ночи. Къ такому срубу приплетались сѣни, гдѣ лѣтомъ спали мы и держали скотину, гдѣ висѣли у насъ вѣники для бани, стояли кадки, кадушки, лежали дрова — тоненькій хворостъ, который рубили мы въ небольшой рощѣ, недалеко отъ нашей деревни. За тѣмъ, съ другой стороны воротъ, торчала мазаная плетушка для скотины; далѣе, сзади, былъ небольшой навѣсъ изъ тычинокъ, покрытый соломой, для лошадей; за тѣмъ далѣе, назадъ, пятились овинъ и гумно, низенькія мазанки, съ соломенною крышею; и все это окружено было поско́тиной изъ палокъ, и тѣ часто сжигали мы, потому-что въ дровахъ терпѣли большую нужду; соломы едва доставало у насъ скотинѣ; гречневую шелуху мы съѣдали сами, подмѣшивая съ лебедой, да съ мякиной, и посыпая мукой, а другаго топлива мы не знали, потому-что ничего не слыхали мы объ этомъ отъ своихъ стариковъ. На дворахъ мы не только не чистили, а еще старались умножить грязь и навозъ, потому-что этимъ только и успѣвали мы вырастить что-нибудь на поляхъ, куда весной свозили все, что̀ накоплялось во дворахъ нашихъ за цѣлый годъ.
Во всей деревнѣ только у двоихъ было по три лошади, да по три коровы; у многихъ другихъ по двѣ, по одной и, наконецъ, у остальныхъ ничего не было, кромѣ рукъ, да ногъ. Такіе обыкновенно отдавали свои участки другимъ, либо обработывали ихъ помочью, то есть, ставили вина, поили всѣхъ, заставляли пахать, жать, косить, а потомъ платили половиною сборки хлѣба цѣловальнику за ссуду виномъ на цѣлый годъ. Поля наши были всѣ черезполосныя; работать на нихъ уходили мы за двѣ, за три версты, но мѣняться участками не думали, хоть у инаго чужой участокъ былъ подлѣ двора, а своей черезъ болото, за рѣкой, подлѣ дальняго лѣса. Покосъ былъ у насъ особливо богатый: поемный лугъ съ осокою, половину которой скашивали сосѣди, за что каждую осень дрались мы съ ними и заводили тяжбы. Право, не знаю, какъ еще мы умѣли платить подати, особливо, когда приходилось въ иное время лѣто проработать за поправкою дорогъ и мостиковъ по дорогамъ. У насъ, впрочемъ, почиталось это за отдыхъ. Мы уходили на дороги цѣлыми семьями, вырывали себѣ землянки, спали въ нихъ безъ просыпа, а между дѣломъ заваливали кое-гдѣ ямы землицею, вмѣсто передѣлки мостиковъ обтесывали на нихъ бревешки и получали позволеніе воротиться домой, не думая о томъ, что, съ первымъ обозомъ и первымъ дождемъ, вся наша поправка какъ не бывала, а дома сидитъ у дверей голодъ и зубами пощелкиваетъ.
Ремесла у насъ не было никакого; да и что̀ стали бы мы дѣлать? У насъ не было даже липки, съ которой можно бъ было содрать лычко, да сплести лапоть. Бабы и дѣвки ткали холстину на рубахи, сукно — на зипуны отцамъ и мужъямъ, и на понявы себѣ; а дѣти ходили въ обноскахъ отцовскихъ и материнскихъ.
Какъ теперь вижу свою благословенную родину, хоть и давно оставилъ ее: на голой степи, по косогору, нѣсколько избушекъ, общипанныхъ, какъ послѣ пожара; кругомъ ни лѣска, ни перелѣска, а только поля съ плохимъ хлѣбомъ; подлѣ рѣки нѣсколько землянокъ, гдѣ мылись мы грязною водой; глинистая гать съ ветлами; грязь по колѣно по улицѣ, а зимою все занесено снѣгомъ, который едва отчищенъ у входа каждой избушки и приваленъ грудами къ стѣнамъ ея: безъ этого мы замерзли бы отъ холода; и случалось, что въ безснѣжныя, холодныя зимы, только на печи было и спасенье. Въ сторонѣ торчала у насъ вѣтряная мельница, какъ-будто подсмѣиваясь, что у насъ ей нечего молоть, а съ другой стороны бродило около деревни нѣсколько десятковъ коровъ, козъ, барановъ и свиней, тощихъ, какъ мышь въ приказной избѣ, гдѣ, кромѣ бумаги, и приказнымъ закусить нечѣмъ. Въѣзжайте въ деревню — не говорю: зимой, когда все спряталось въ конурки подъ снѣгъ, или въ рабочую пору, когда по всѣмъ избамъ могли прогуливаться воры, не опасаясь, чтобъ имъ сыскалось что-нибудь унести, хоть хозяевъ и хозяекъ, никого нѣтъ дома, кромѣ полудюжины дряхлыхъ стариковъ и старухъ — этотъ запоздалый на свѣтѣ народъ домовничалъ и грѣлся на солнышкѣ, потому-что кровь его ужъ не грѣла, а двигаться силы у него не было. Но въ такую пору, когда всѣ жители бывали въ деревнѣ, вы встрѣтили бы по улицѣ только бабъ и дѣвокъ, въ рубахахъ и понявахъ, босыхъ, замаранныхъ; сидя у воротъ, онѣ пряли, или бродили по грязи, крича и загоняя коровъ и свиней. Мужики у насъ подлѣ воротъ своихъ сиживали мало; они всѣ собирались обыкновенно у питейнаго дома. Тамъ собирались мы ссориться, мириться, судить объ общественныхъ дѣлахъ, пока мальчишки, въ отцовскихъ старыхъ тапкахъ, въ какихъ-нибудь обрѣзкахъ отцовскихъ тулуповъ и зипуновъ, бѣгали, дрались и кричали по улицѣ. Вечеромъ весь этотъ народъ засыпалъ, кто гдѣ успѣлъ лечь, или свалиться, а поутру просыпался всякій тамъ, кто гдѣ съ вечера легъ, и велъ снова день до вечера, а за однимъ днемъ другой день, а за другимъ третій, и такъ далѣе. Но, повѣрите ли? плохо было наше житье, нечего сказать, а такъ много у человѣка есть способности веселиться его жизнью, что весь этотъ народъ веселился, смѣялся, боялся смерти и не хотѣлъ умирать, словно богачъ какой-нибудь, у котораго въ Петербургѣ, либо въ Москвѣ, большой домъ на большой улицѣ! Да и состояніемъ своимъ были мы недовольны, думаете вы? Да, какъ не такъ! Попытайся-ка кто-нибудь уговорить насъ переселиться въ другое мѣсто, гдѣ будетъ много хлѣба и денегъ, да житье иное — ну! на этого злодѣя мы готовы были просьбу подать. Уговорить моихъ земляковъ перестроить домы получше, ходить поопрятнѣе — не могъ бы никто. Надобно сказать, однакожъ, къ похвалѣ моихъ земляковъ, что, въ числѣ старинныхъ преданій, которымъ они вѣрили и которыхъ нарушать не смѣли, были такія преданія, какихъ дай Богъ всякому, и какихъ, бродя послѣ того по свѣту, иногда не встрѣчалъ я и въ большихъ городахъ. Несмотря на то, что нерѣдко половинѣ деревни приходилось складывать зубы на полку и забывать о старинной привычкѣ обѣдать каждый день непремѣнно; что нерѣдко приходилось снимать крышу съ домовъ для скотины, а самимъ ѣсть, что кому Богъ на сердцѣ положитъ — пѣшеходъ въ глухую полночь могъ пройдти съ кулькомъ золота по нашей деревнѣ и никто не тронулъ бы его. Мы не считали за грѣхъ драться за межу, пропивать свою послѣднюю копейку, либо просить милостыни, а никто изъ насъ никогда не вздумалъ бы воспользоваться добромъ своего ближняго. Мы не вѣдали ни одной заповѣди по Катехизису, но, по преданію, знали мы, что не добромъ нажитое въ прокъ нейдетъ; что за душу христіанскую тяжелъ отвѣтъ Богу. «Ребята, дѣло нечисто!» говорилъ какой-нибудь старикъ на мірской сходкѣ, — и дѣло осуждали общимъ голосомъ.
Такова была моя родина, такъ жили, такъ мы были; а чтобъ лучше растолковать вашему благородію все дѣло, такъ разскажу я вамъ мое собственное въ крестьянствѣ житье-бытье.
Когда началъ я ходить, и бѣгать, и говорить, зимой, примѣромъ сказать, день начинался у меня обыкновенно тѣмъ, что просыпался я рано, когда, еще до свѣта, съ лучиной въ свѣтцѣ, мать моя принималась топить печку. Мнѣ было холодно, лежа на печи, простывшей во время ночи, и еще мнѣ страхъ какъ хотѣлось ѣсть; я начиналъ хныкать и просить хлѣба, и наконецъ сползалъ съ печи, потому-что дымъ, разстилаясь облакомъ, могъ задушить меня на печи. Матери и брату не было никакой обо мнѣ надобности: онъ занимался своимъ хозяйствомъ, а она топила печь, начинала варить, и на мои слезы и жалобы отвѣчала только : «Молчи, что̀ разревѣлся?» Наконецъ я до того каждый разъ надоѣдалъ всѣмъ, что мнѣ давали нѣсколько толчковъ и кусокъ хлѣба, завертывали меня въ старую шубу и садили меня въ уголъ на лавкѣ. Тутъ я засыпалъ, и просыпался, когда ужъ дыма въ избѣ не было, становилось тепло и на столѣ стояли пустыя, но горячія щи. Мы усердно принимались за нихъ и, наѣвшись, забывалъ я горе, шумѣлъ, дрался съ жучкой и съ кошкой, опять надоѣдалъ всѣмъ, такъ-что мнѣ давали оплеуху, напяливали на меня обрѣзокъ отцовской шубы, отцовскіе старые сапоги, старую его шапку, и выгоняли меня изъ избы вонъ. Я шелъ на улицу гдѣ ужъ толпа мальчишекъ дралась, бѣгала, шумѣла, кидалась снѣжками, мерзла, плакала, согрѣвалась, опять мерзла, и я возвращался только вечеромъ, совсѣмъ окоченѣлый, отогрѣваться, дремать и просить ѣсть. Опять принимались мы за пустыя щи, и меня закидывали, вмѣсто полѣна, на печку, гдѣ спалъ я, пока, на другой день, не начинали вставать, ходить, топить печь, и дымъ не сгонялъ меня съ печи. Лѣтомъ перемѣны въ моемъ житьѣ бывало немного. Только просыпался я не отъ дыма, и безъ шубы, въ одной рубашкѣ и босый, прямо уходилъ на улицу, откуда только голодъ гналъ меня домой.
Лѣтъ трехъ, четырехъ ужъ, началъ я помогать въ работѣ, водилъ лошадь на водопой, сидѣлъ на возу и правилъ, когда возили весной навозъ на пашню, таскалъ дрова въ избу и вскорѣ замѣнялъ мать и брата во многомъ, водился съ дѣтьми, бѣсился съ ними, ушибалъ ихъ, заводя въ шалости. Признаться сказать, когда я подросъ, то никто въ деревнѣ не сравнивался со мной въ работѣ, въ ухаживаньѣ за молодыми дѣвками, да никто не ровнялся и въ проказахъ. Сталкивать въ грязь пьяныхъ стариковъ, подбивать глаза старшему себя, пугать бабъ изъ за-угла, лихо плясать съ дѣвками и пѣть бурлацкую пѣсню — все это было Сидоркино дѣло. Только одного не любилъ я: зелена́го вина, и за то цѣловальникъ первый не взлюбилъ меня; второй не взлюбилъ меня староста, по особливымъ причинамъ.
Не знаю, какъ вздумалось мнѣ, будто можно жить не такъ, какъ всѣ мы, грѣшные, жили. Насмотрѣлся ли я на другихъ людей, ѣздивши въ Корочу на базары и проѣзжая по большимъ деревнямъ, только денегъ своихъ въ питейный домъ я не носилъ; и когда не былъ въ хороводахъ, или въ полѣ, на какой-нибудь работѣ, то работалъ дома: плелъ тынъ вокругъ двора, ладилъ телѣгу, снаряжалъ соху. Старики только покачивали головой, говоря: «Да что онъ, умнѣе всѣхъ, что-ли, хочетъ быть?» А молодые товарищи особенно невзлюбили меня за то, что у нихъ ничего не было, а у меня начали появляться то новая шляпа, то новая рубаха, то красный кушакъ.
Все еще бѣда-то была бы не велика, что староста, цѣловальникъ и товарищи меня не жаловали: у красныхъ дѣвушекъ былъ я въ особенной милости, больше всѣхъ другихъ, прочихъ; съ двумя крѣпкими кулаками не боялся я никого; а когда староста высылалъ меня лишній разъ на дорогу, либо чаще другихъ наряжалъ въ подводу, я молчалъ и выполнялъ всё. Навязалось на меня совсѣмъ другое горе.
Въ ближней деревнѣ жила одна красотка, дочь тамошняго крестьянина. Ну, ваше благородіе, дѣло прошлое, а, право, что̀ за красотка такая была эта Дуняша — кровь съ молокомъ, и такая-же работница, какъ и дородница! Отецъ ея былъ мужикъ довольно-зажиточный, и хоть дочерей было у него почти цѣлый десятокъ, однакожъ, за каждую давалъ онъ по коровѣ, да по пятидесяти рублей денегъ, хоть самъ жилъ не лучше нашего и ходилъ въ зипунѣ хуже моего.
Проклятое это дѣло — сердечная зазноба! Хоть мы и не умѣли любить такъ, какъ любятъ баре, да горожане, но, сказать вамъ правду, будто взбѣленился я, узнавъ Дуняшу: пропала охота работать; не пилось, не ѣлось; все хотѣлось быть съ ней, глядѣть на нее, шутить, говорить съ нею. Дивился я тутъ двумъ вещамъ: тому, изволите видѣть, что и прежде я видалъ ее, да ничего особеннаго не чуялъ на сердцѣ. Но одинъ разъ какъ-то, пѣсню что ли она запѣла: Не бѣлы-то снѣга — тьфу пропасть! такъ вотъ и кольнуло меня въ самое сердце, и повѣсилъ я носъ, и съ-тѣхъ-поръ, словцо напущенное, стала она мерещиться мнѣ и во снѣ и наяву. А вторая-то вещь, ваше благородіе, что съ-тѣхъ-поръ, какъ она мнѣ приглянулась, сталъ я передъ ней дуракъ-дуракомъ: ни пѣсни спѣть, ни слова вымолвить! Со всѣми другими, бывало, откуда бодрость берется, поёшь, пляшешь, цѣлуешься, будто вѣкъ жилъ; а съ ней — куда тебѣ! И взглянуть не смѣешь! Ребята наши стали замѣчать, что я, отчего-то, Богъ-вѣсть, грущу; стали говоритъ, что я то-и-дѣло хожу въ сосѣднюю деревню и забываю даже коней напоить, сижу, уткнувъ глаза въ землю, будто мокрая курица, такъ-что въ эту пору баба могла меня обидѣть, а я слова не сказалъ бы ей. Послѣ узналъ я, что и съ Дуняшею сдѣлалось то же самое, такая же невзгода: и подруги стали сперва шептать, потомъ говорить, а потомъ ужъ и кричать во все горло, что дѣвка наша кого-нибудь полюбила. Эти слухи дошли до отца ея, мужика сердитаго и строгаго. «Дунька!» сказалъ онъ своей дочери: — что̀ ты затѣяла такое? Знаешь ли ты, что у тебя ужъ есть женихъ?» Женихъ этотъ былъ сынъ старосты нашей деревни — нечего молвить, лихой малый, за то и первый буянъ и первый пьяница изъ всей деревни. Только меня и боялся этотъ сорванецъ, даромъ-что у отца его была хата лучше другихъ, а у меня, кромѣ удали, въ карманѣ хоть выспись, а хата держалась на курьихъ ножкахъ, и въ той жили мы вмѣстѣ съ братомъ. Дуняша испугалась отцовскихъ рѣчей; руки у нея опустились; она не посмѣла сказать ни одного слова напротивъ, а только заплакала. «Плакать-то я не мѣшаю: слезы — вода, особливо женскія, — продолжалъ старикъ: — а если затѣешь что-нибудь непутное — берегись!»
На другой день въ Дуняшиной деревнѣ былъ праздникъ; мы всѣ собрались туда; начали хороводы, запѣли пѣсни; есть ли, нѣтъ ли хлѣбъ, а пиво вари и гостей зови — этакой былъ у насъ общій обычай, просимъ не погнѣваться! Дуняша вышла въ хороводъ такая грустная, такая печальная, и веселилась будто поневолѣ. И вотъ вижу я, что Дуняши нѣтъ; безъ нея мнѣ бѣлый свѣтъ не взмилился! Бѣгу и ищу ее, и нахожу, что она сидитъ на берегу пруда, подъ тыномъ, смотритъ на воду и плачетъ на-взрыдъ. Меня самого такое горе взяло, какъ-будто каждая слезинка ея кипяткомъ капала прямо на мое сердце. «Дуняша!» сказалъ я. Она испугалась, а у меня откуда слова взялись; подошелъ я къ ней, присѣлъ подлѣ нея, хоть она и отодвигалась отъ меня. «Что ты смотришь на прудъ, глазъ не спускаешь? Или у тебя что-нибудь недоброе на умѣ?» — «Доброе-ли, недоброе ли, тебѣ что за дѣло? Жить не хочется!» — «Да отчего тебѣ жить не хочется?» — «А тебѣ на что?» — «А на то, что и мнѣ житье надоѣло». «А отчего тебѣ житье надоѣло?» — «Да оттого, что я люблю тебя, Дуняша, а отецъ твой тебя за меня едва-ли выдастъ». Она заплакала. И вотъ пошли у насъ разговоры, и вотъ я узналъ, что Дуняша любитъ меня такъ, какъ я самъ люблю ее — ну, то-есть, очень шибко любитъ. Слово за слово, у меня сердце хотѣло изъ-подъ реберъ выпрыгнуть отъ радости. «Чѣмъ сдуру торопиться намъ съ тобой, такъ лучше попробуемъ сперва, авось твой отецъ надъ нами смилосердится». И началъ я ей говорить такъ, что она и грусть забыла. Лукавый соблазнилъ меня: крѣпко обнялъ я Дуняшу и поцѣловалъ разъ, два, три.
Извините, ваше благородіе, много этому лѣтъ прошло, а все помнится и, кажется, будто радостнѣе этого времени для меня во всю жизнь мою не было.
Мы и забыли съ Дуняшей, что, кромѣ насъ, еще есть люди на бѣломъ свѣтѣ, да еще и злые люди. «Не плачь же и не кручинься, Дуняша, говорилъ я ей: — завтра же пришлю я къ тебѣ сватовъ. Братъ и мать у меня противиться не станутъ; мы съ тобой у нихъ не даромъ хлѣбъ станемъ ѣсть. Ну, и отца твоего дѣти все дѣвки, сыновей нѣтъ; захочетъ онъ меня къ себѣ въ домъ принять, такъ лучше меня, конечно, не найдетъ работника. Да и въ кабалу къ нему пойду, хоть на десять лѣтъ». Въ это время громкій смѣхъ раздался за нами — гляжу: изъ-за тына смотритъ старостинъ сынъ и съ нимъ еще человѣкъ пять, такихъ, же сорванцовъ. Дуняша ахнула, и чуть въ воду не свалилась со страха. Меня словно жаромъ обдало, да такъ и взорвало. Будто сумасшедшій, бросился я на моего злодѣя; онъ ударился бѣжать; я догналъ его: «Слушай, говорилъ я, схвативъ его за воротъ: — если ты скажешь хоть кому-нибудь о томъ, что ты видѣлъ, такъ не быть тебѣ живому!» Началась драка; товарищи его закричали; сбѣжался народъ. Едва разняли насъ, и проклятый пьяница все высказалъ. Отецъ Дуняшинъ сплеснулъ руками, народъ захохоталъ, и напрасно говорилъ я старику и приводилъ Бога въ свидѣтели, что Дуняша чиста, что я только поцѣловалъ ее. «Цѣловать безъ людей, подъ тыномъ — кто васъ тутъ разберетъ!» кричалъ старикъ; иное дѣло цѣловаться при добрыхъ людяхъ, въ хороводѣ; а коли дѣвка за угломъ шепчется съ молодымъ парнемъ, такъ въ это время ея ангелъ-хранитель плачетъ и улетаетъ отъ нея!» Староста нашъ вступился за побои своего сына; но увидѣвъ, что отецъ Дуняши отправился домой, я вырвался изъ толпы и успѣлъ прибѣжать къ отцу Дуняши, когда онъ только-что вошелъ въ свою избу. Дуняша сидѣла въ углу и плакала.
— Стой, Панфилъ Артемьичъ! — вскричалъ я: — слушай: если ты тронешь дочь свою хоть синимъ волосомъ, такъ вотъ тебѣ Богъ порукой, что я на всё рѣшусь!» Старикъ остановился; я упалъ передъ нимъ на колѣни и началъ говорить, ка́къ я люблю Дуняшу, ка́къ она меня любитъ, началъ просить его благословенія на свадьбу. «Тебѣ жениться на моей дочери, голь отпѣтая, тебѣ?» — «Что хочешь, Панфилъ Артемьичъ: возьми меня въ работники, закабали меня, не давай приданаго!» — «Слушай, Сидоръ, сказалъ старикъ: — вотъ я тебѣ образъ со стѣны сниму, что моей дочери за тобой не бывать ужъ и потому одному, какъ ты меня изобидѣлъ». Тутъ Дуняша вскочила, бросилась въ ноги отцу и сказала: «Если ты меня, батюшка, за него не выдашь я умру съ тоски, а за другаго не пойду!» — «Смѣешь ты мнѣ говорить это!» вскричалъ отецъ. Вдругъ старикъ остановился, схватилъ дочь за руку, толкнулъ ее ко мнѣ и вскричалъ: «Такъ на̀, вотъ тебѣ ее, коли хочешь — женитесь, гдѣ хотите живите, какъ хотите, только съ этого часа нѣтъ на васъ моего родительскаго благословенія!» Мать Дуняши вступилась-было за нея, но старикъ чуть не зашибъ ее кочергой. Напрасно мы плакали, стояли на колѣняхъ, клялись въ своей честности и добродѣтели. «Вонъ отсюда, проклятая!» кричалъ старикъ и ничего не слушалъ.
«Что же, Дуняша? сказалъ я: — отцовскаго проклятья не подтверждаетъ Господь, если оно неправедно. Пойдемъ!» Она была, какъ помѣшанная; я взялъ ее подъ-руку и повелъ въ свою деревню. Дуняша не противилась, только рыдала. Мы пробрались тихонько по загородамъ, удаляясь отъ народа, который съ пѣснями и смѣхомъ возвращался въ нашу деревню. Но горе забѣжало впередъ насъ и ждало насъ на родительскомъ порогѣ. Мать моя знала ужъ обо всемъ, не согласилась принять дочь, проклятую отцомъ, разругала ее и меня, затворила дверь и сказала, что если я не оставлю Дуняши, такъ не будетъ мнѣ мѣста ни въ отцовской хатѣ, ни въ материнскомъ сердцѣ.
Что станешь дѣлать? Сѣли мы на улицѣ; я молчу. Дуняша плачетъ. «Не благословляютъ люди, благословитъ Богъ!» сказалъ я наконецъ. Дуняша! ты одно теперь у меня на свѣтѣ, а я одно у тебя — пойдемъ!» Дуняша повиновалась, прижимаясь ко мнѣ, какъ испуганная птичка. Я вспомнилъ, что у меня есть старый дядя, въ деревнѣ за пять верстъ, и рѣшился идти къ нему. Дядя этотъ слылъ между всѣми крестьянами гулякой, но добрымъ и богатымъ, любилъ меня и помогалъ намъ кое-чѣмъ. Къ нему явился я теперь съ своею бѣдною невѣстою, повалился въ ноги, разсказалъ все дѣло. Старикъ и самъ женился въ молодости тайкомъ: увезъ свою невѣсту у богатаго мужика. Вѣдь это между крестьянствомъ часто бываетъ. Что жъ ты будешь съ богатыми мужиками дѣлать? не отдаютъ дочерей добромъ. Дядя прослезился, смотря на насъ, и сказалъ женѣ своей : «Старуха! вѣдь дѣтей-то у насъ нѣтъ; примемъ-ка мы сиротъ, оставленныхъ людьми!» И онъ, принялъ меня и Дуняшу, сыгралъ свадьбу и мы поселились у него.
Какъ отца, сталъ я почитать дядю, какъ мать, стала почитать Дуняша тетку; покоя не зналъ я, работая въ полѣ и въ домѣ. Что жъ? Казалось, старика Богъ благословлялъ за его милосердіе. У кого поле выбивало градомъ, у него зеленѣло оно подъ богатою жатвою — смотрѣть любо. Подъ рукою Дуняши масло и молоко прибывало, а копейка раздувалась въ грошъ сама собою и кликала къ себѣ гривну. Старикъ не могъ налюбоваться нами. Старуха у него была превздорная кропотунья, но мы все терпѣли. Да какъ и не терпѣть? Вѣдь мы любили, а съ любовью и горе лучше нелюбовной радости…
Но велико́ дѣло благословеніе отцовское, ваше благородіе, и горе тому человѣку, котораго не благословитъ отецъ, либо мать! Богъ судья, праведно или неправедно кто проклинаетъ дѣтей своихъ, а всякое проклятіе тяжко лежитъ на совѣсти сына и дочери! Несмотря на привольную жизнь, ласку дяди, на то, что добрые люди вступались за насъ и общій голосъ обвинялъ и мать мою и тестя за ихъ немилость, жизнь Дуняши была тяжкая. Иную ночь всю на-пролетъ не спала она, бѣдная, и, засыпая, твердила: «Прости, прости меня, родной батюшка!» Иной день плакала безъ всякой причины, говоря, что ей ни пить, ни ѣсть не хочется, и что сердце ея словно змѣя сосетъ. Я сокрушался, глядя на нее, хоть она еще дороже была для меня за свое горе: вѣдь она отъ меня, за любовь мою страдала. Прошелъ годъ, прошелъ другой, Богъ не благословлялъ насъ дѣтьми, и это казалось намъ наказаніемъ Божіимъ. Надобно вамъ сказать, что въ это время мать моя со мной помирилась. Братъ Василій, оставшись безъ меня одинъ, смотался на работѣ, но ничто не шло у него въ прокъ; крѣпко началъ онъ держаться чарки; что день, то хуже становилось его и материно житье. И вотъ, однажды, мать сама пришла ко мнѣ, поплакала со мной, простила меня и стала звать къ себѣ, чтобъ на старости лѣтъ не покинуть ее. Дядя слышать не хотѣлъ; подарилъ ей пять рублей, обѣщалъ помогать брату, но меня не отпускалъ. Ослушаться его мнѣ было нельзя, но все мнѣ казалось, будто я не правъ противъ матери и брата, оставляя ихъ на невзгодьѣ однихъ. Истинно, иногда дума такая, бывало, найдетъ, что ничему не радъ! Мнѣ казалось иногда, что и люди поглядываютъ на меня и на Дуняшу, переговариваютъ, подсмѣиваются, шепчутся, осуждаютъ насъ. Нечистая совѣсть — плохое дѣло… Дуняша сохла, худѣла. Напрасно налагалъ я на себя обѣты, подавалъ милостыню, призывалъ знахарей — ничто не пособляло.
Но Богъ обрадовалъ насъ великою радостью: Дуняша сдѣлалась беременна; родила. Вы еще молоды, ваше благородіе, не женаты и не знаете, какъ весело отцовскому сердцу, слыша первый крикъ своего ребенка. Всѣ мы безъ памяти веселились. Мнѣ такъ и мерещилось, что съ этого часа всѣ мои бѣды кончились. Только Дуняша плакала и горевала. «Охъ! говорила она: — не на радость родился ты, бѣдный! Чуетъ ретивое, что на тебя обрушится дѣдушкино проклятіе». Я утѣшалъ, уговаривалъ ее; но дядя приготовилъ ей утѣшеніе лучше моего. Въ тотъ день, какъ были у насъ крестины и всѣ пировали у насъ — даже самъ батюшка-священникъ изволилъ пожаловать — дядя вводитъ въ избу… Кого бы вы думали? — отца Дуняши…
Позвольте, ваше благородіе, утереть слезку-дуру; выкатилась изъ сердечнаго, лѣваго глаза, и не спросилась у меня…
«Зачѣмъ ты привезъ меня сюда?» говорилъ старикъ, но я и Дуняша были уже у ногъ его, а дядя подавалъ ему внука. Старикъ задрожалъ и бросился на лавку. Отецъ-священникъ вступился за насъ; всѣ окружили его. Онъ ревѣлъ на-взрыдъ, какъ старая баба. «Охъ, Дунька! говорилъ онъ: — много ты горя навела на меня, много сѣдины высушила на головѣ моей, много родной крови испортила! Не зналъ я прежде, какъ сильно я люблю тебя, и что̀ если и сниму я отцовское проклятіе, будешь ли ты отъ этого счастлива? Чѣмъ заплатишь ты Богу за мои слезы?… Ну! да Богъ васъ проститъ, а я прощаю!»
Великая радость была послѣ того. Да только, знаетъ ли человѣкъ, что будетъ съ нимъ на другой день? Всѣ мы разстались здоровы, веселы, а на завтра добрый дядя мой уже не проснулся. Жилъ какъ христіанинъ, умеръ какъ праведникъ; рука — видно хотѣлъ перекреститься — такъ и замерла у него на лбу съ сложеннымъ крестомъ… Съ нимъ умерло и счастье мое…
Старуха-тетка сдѣлалась хозяйкою, и — на старости лѣтъ сѣдина въ голову, а бѣсъ въ ребро — не прошло полугода, сосваталась на молодомъ парнѣ, бобылѣ безродномъ, вышла за него — и намъ житья не стало отъ новаго хозяина. Между-тѣмъ, мать и братъ звали насъ къ себѣ, и въ одинъ день услышали мы отъ тетки приказъ опростать мѣсто, помолились и поѣхали на мою родину. Худо пошло тутъ дѣло. У матери и брата Василья не было ни хлѣбца пылинки, ни живой животинки; изба какъ рѣшето, хоть сѣй — да сѣять-то было нечего! Сначала насъ ласкали, думая, что мы успѣли поживиться у дяди; а какъ увидѣли, что мы ни съ чѣмъ пріѣхали, такъ все и опрокинулось на Дуняшу! И безъ того ей, бѣдняжкѣ, нелегко было привыкать ко нраву свекрови: тяжеленекъ былъ, не тѣмъ помянуть покойницу…
Ну, ваше благородіе, прошло тутъ времени немного, не успѣлъ еще я и одуматься, какъ бѣдѣ да горю пособить, затѣвалъ то и сё, думалъ такъ и сякъ… вдругъ сдѣлался нездоровъ нашъ мальчишко. Какой славный былъ, здоровякъ, красивый!… Начала ходить по деревнѣ оспа и пристала къ нашему Ѳедюшѣ — такъ его звали. Этого мало; у Дуняши самой не было еще оспы, и къ ней пристала, окаянная. Три дня сидѣлъ я въ сѣняхъ, въ отгородкѣ, подлѣ жены и подлѣ сынишка, а на четвертый день — гдѣ былъ мой здоровый, красивый Ѳедя! Оспа искривила, изуродовала его, и Богъ взялъ его къ себѣ, чтобы не оставался онъ калѣкой на семъ свѣтѣ и не указывали бы на него злые люди, приговаривая: «Видишь, каково̀ отцовское-то проклятіе!»
Тяжко было мнѣ сколачивать гробъ моему дитяткѣ и на своихъ рукахъ нести его въ могилку. Закопалъ я его въ общую нашу мать, сыру землю, горько поплакалъ, утеръ слезы и воротился. Зачѣмъ? Затѣмъ, чтобъ видѣть, какъ умираетъ Дуняша! На нее страшно было поглядѣть; она была безъ памяти. Въ ту пору ѣхалъ черезъ нашу деревню уѣздный лѣкарь. Выбѣжалъ я къ нему, просилъ, молилъ посмотрѣть жену мою; онъ пришелъ, взглянулъ, махнулъ рукой и сказалъ: «Э! пиши пропало: не вставать ей!» — «Да ужъ хоть бы скорѣе Богъ прибралъ: уши простонала!» примолвила мать моя.
Я пошелъ изъ избы точно ошалѣлый и въ первый разъ пришло мнѣ тогда въ голову: «пойду, напьюсь пьянъ, авось забуду горе!» Подлѣ питейнаго дома нашелъ я большую толпу. Шумятъ, кричатъ. Я не вслушивался въ ихъ рѣчи, велѣлъ дать себѣ полштофа сивухи, сѣлъ въ сторонѣ, началъ пить — и хмель-то не беретъ! Погода стояла пасмурная, сырая. Я глядѣлъ на небо, и мнѣ казалось, что и Господь милосердый на меня гнѣвается, посылая мрачное небо въ день моего несчастья…
Тутъ началъ я вслушиваться въ споръ и крикъ мірской сходки и услышалъ, что рѣчь идетъ о рекрутской очереди съ нашей деревни. Братъ Василій кричалъ пуще другихъ, потому-что на нашу семью выпадалъ рекрутъ, какъ понялъ я изъ всей этой сумятицы.
Надобно знать вашему благородію, что въ то время рекрутская раскладка была темнѣе дремучаго лѣса. Теперь совсѣмъ не то, а вѣдь это было давно. И сами подьячіе не умѣли тогда хорошенько разбирать, потому-что считали по пальцамъ, да по побиркамъ. Василій спорилъ, что староста налыгаетъ на насъ; кончилось тѣмъ, чѣмъ оканчивались у насъ всѣ споры — дракою. За Василья принялось много рукъ. Въ это время сидѣлъ я и думалъ: «Да не Божій ли голосъ слышишь ты, Сидоръ? Вѣдь ужъ твоей жизни краше этого не бывать, какова она теперь. Дуняшѣ не вставать съ смертнаго одра, а безъ нея, что ты будешь? И гдѣ надежда, чтобъ вамъ поправиться какъ-нибудь? Замѣни своей головой добраго человѣка: послужи матушкѣ-Государынѣ (тогда еще царствовала Ея Императорское Величество, Государыня Императрица Екатерина Алексѣевна). Если и не право наклепываютъ на насъ очередь, не сегодня, такъ завтра, ты избавишь отъ солдатства брата и племянниковъ. А останешься ты въ деревнѣ — видимое дѣло, что сопьешься ты съ круга и будешь позоромъ цѣлаго міра…»
— Стой! вскричалъ я, бросаясь въ толпу и расталкивая мужиковъ — стой! Бери меня, если цѣлый міръ говоритъ, что съ насъ очередь рекрутская !
Засѣдатель выпучилъ глаза, а мужики въ одинъ голосъ закричали: «Вѣстимо, что за вами очередь, вотъ тебѣ Богъ порукой! — Иди, Сидорка, коли некого нанять!» У Василья брызнули слезы изъ глазъ; онъ обнялъ меня и завопилъ: «Охъ! очередь-то за нами; да я не зналъ мнѣ или тебѣ идти, а ты самъ въ руки отдаешься! видно, такъ Богу угодно! Да съ кѣмъ же я-то останусь: одинъ я какой работникъ; мачеха стара, жена пьяница, дѣти малы, не скоро выростутъ». — «Работникъ былъ бы я и безъ того плохой, отвѣчалъ я. — Прощай, братъ! Похорони только Дуняшу мою, когда приберетъ ее Богъ, а обо мнѣ не заботься!»
— Рябята! сказалъ я, подумавши: — дайте мнѣ сходить проститься съ женою». — Пошелъ домой и за мной поплелась вся мірская громада. Мать ужъ слышала о моемъ рѣшеніи, выбѣжала ко мнѣ на встрѣчу, бросилась на шею и заревѣла: «Охъ, ты, мое милое дитятко! на кого ты меня покидаешь? и не любишь ты родной матушки, коли самъ идешь охотою въ службу царскую!» — «Не охотой иду, а потому, что очередь наша, матушка; и не брату же Василью идти, когда у него дѣтей куча, а у меня Богъ прибралъ послѣдняго!» — «Такъ за нихъ-то идешь ты, мое дитятко? И какая наша очередь? Кто говоритъ?» — «Я говорю отвѣчалъ староста, подпираясь обѣими руками: — и міръ говоритъ!» Мать повались на землю, ревѣла и причитала, а я пошелъ въ хату. Въ сѣняхъ встрѣтилъ я много бабъ и старухъ; онѣ голосили нараспѣвъ, попивая сивуху; въ углу старуха кроила саванъ. Ничего не чувствовалъ я въ это время, даже и не плакалъ, хоть и понималъ, что это значитъ покойника. Теперь даже, теперь мнѣ горьче, когда вспоминаю объ этомъ, а, право, тогда легче было! «Что, спросилъ я, что такое! Аль Дуняша отдала душу Богу?» — «Нѣтъ еще; да ужъ только-что дышитъ», отвѣчали мнѣ. Тихо подошелъ я къ подмосткамъ, гдѣ лежала она, навзничь, блѣдная, худая, изуродованная оспою, и едва дышала, безъ памяти и безъ словеси….
И это была моя Дуняша, моя красивая, здоровая лебедка, звѣздочка изъ двухъ деревень! «Прощай, до свиданья, прошепталъ я: — прощай, моя душечка! Не видала ты со мной красныхъ дней, да не видалъ ихъ и я, и не увижу… Охъ! куда-то приведетъ меня Господь, когда-то и меня успокоитъ Онъ, какъ тебя успокоиваетъ?…»
Ничего не слыхала она, ничего не чувствовала. «Готовъ!» отвѣчалъ я, слыша, что меня зовутъ съ улицы; вошелъ въ избу, помолился въ землю передъ иконою, поклонился еще разъ Дуняшѣ и опрометью бросился въ телѣгу, крича: «пошелъ, ступай!» Мужики заорали, зашумѣли; все было готово; явился и засѣдатель; мы пустились въ путь. Братъ Василій и мать моя, и дѣтишки Василья гнались за телѣгой, крича: «Постой дитятко! постой братъ! постой дядюшко! простись еще разъ съ нами; прими благословеніе!» — Вся деревня столпилась на улицѣ, и я увидѣлъ, что не совсѣмъ-то худую память по себѣ оставляю, хоть и жилъ горемыкой. «Прощай Сидорка! прощай братъ!» кричали со всѣхъ сторонъ, становились на колеса телѣги и обнимали, цѣловали меня, какъ-будто всѣ были закадычные друзья мои. «Ребята! не поминайте лихомъ!» говорилъ я. Тутъ мать и братъ догнали меня и повисли у меня на шеѣ. Едва могли оттащить старуху, которая голосомъ вопила: «Заройте меня скорѣе въ мать сыру землю, засыпьте мои ясныя очи пескомъ разсыпчатымъ! Ходите по моей могилкѣ, топчите мое ретиво сердце!» Мы выѣхали изъ деревни и вскорѣ родина моя скрылась въ вечернемъ туманѣ и ничего у меня не осталось на бѣломъ свѣтѣ, кромѣ горя, спутника моего неразлучнаго !
ЧАСТЬ ІІ. СОЛДАТЪ
Если бъ вы меня спросили, ваше благородіе, каково мнѣ было тогда, и потомъ, когда привезли меня въ городъ и когда совершилась моя судьбина, когда сдѣлался я царскимъ слугой вѣковѣчнымъ, вѣдь я не сказалъ бы вамъ, что мнѣ слишкомъ было тошно, нѣтъ. Прежде, когда слышалъ я отцовское проклятіе, произнесенное надъ Дуняшею, когда безпріютно брелъ я съ нею домой отъ дяди, когда потерялъ своего сынишка — тогда… охъ! тогда куда какъ плохо мнѣ приходилось! И отъ-того, полагаю, было мнѣ очень плохо, что я еще худо свыкся тогда съ горемъ: оно приходило гостить ко мнѣ, какъ нашъ братъ, солдатъ, приходитъ на временный постой къ обывателю. Вѣдь ко всему привыкнуть можно, правое слово ко всему. И много значитъ, когда ужъ нельзя воротиться назадъ. Горе сдѣлалось у меня жильцомъ безповоротнымъ, и все мнѣ было равно послѣ этого, меньше ли, больше ли оно.
Я воображалъ себѣ: какъ тяжело было бы мнѣ переносить все, что̀ со мной сдѣлалось, если бъ надобно было мнѣ хоть что-нибудь оставлять на бѣломъ свѣтѣ и жалѣть хоть о чемъ-нибудь такъ, какъ другимъ моимъ товарищамъ! Насъ было свезено въ городъ много. Нѣсколько дней продолжался пріемъ, и каждый день приводили насъ къ Казенной Палатѣ, гдѣ мы лежали на солнышкѣ, пока, по очереди, водили насъ въ пріемную. Вокругъ насъ собиралась толпа народа. Чего смотрѣлъ этотъ народъ — Богъ ихъ вѣдаетъ. Въ чужестранныхъ земляхъ видалъ я послѣ того, что народъ сбѣгается глядѣть, какъ казнятъ вора, либо разбойника. Этакое страшное зрѣлище, думалъ я, не приведи Господи видѣть! и не понималъ я, какую утѣху въ этомъ находятъ другіе? Пусть бы хоть казнились, учились страху Божію въ этой страшной расплатѣ за преступленіе; а то случалось мнѣ замѣчать, что вора вѣшаютъ, а другіе тутъ же въ народѣ изъ кармановъ кошельки таскаютъ…
Такъ и вокругъ насъ собирался народъ, не знаю, право, зачѣмъ, а только ни на одномъ лицѣ не видалъ я никакого чувства состраданія и милосердія, ни одна слезинка не падала ни изъ чьего глаза на нашу горькую участь. Смотрѣли на насъ эти народы — да и только тебѣ, какъ-будто смотрятъ на курьезъ. Не диво, что мы сами скоро приглядѣлись, ка̀къ вдругъ блѣднѣлъ товарищъ, когда его выкликали по имени, и ка̀къ потомъ начинался вой и плачъ, когда новаго рекрута выводили съ забритымъ лбомъ, накинувъ на него солдатскую шинель; и дюжина рукъ хваталась за него, какъ за мертваго, и дюжина голосовъ высчитывала свои прошлыя радости и свое прежнее счастье…
Чье солдатское сердце не растаяло бы, какъ снѣгъ весною, когда ему сказалъ бы хоть одинъ добрый человѣкъ: «Братъ, пріятель! не кручинься: таковъ, видно, твой жребій, чтобъ послужить отечеству за Церковь Божію, за батюшку-Государя, за свою братію христіанъ! Не кручинься, что тебѣ пришлось отстаивать грудью землю русскую! Царь тебя будетъ миловать и жаловать. Воротишься ты потомъ на свою сторону, такъ мы успокоимъ твою старость и найдешь ты, что жена твоя тебя дожидается, дѣти малыя твои подросли на твое утѣшенье, а земляки твои тебя чествуютъ и заслушиваются твоихъ разсказовъ о томъ, гдѣ бывалъ ты, что видалъ ты, какъ билъ ты враговъ поганыхъ сильнаго Царства Русскаго…»
Ну, да толковать много не стану, ваше благородіе, какъ закричали и въ мой чередъ: лобъ! и забрили мнѣ лобъ, и дали мнѣ шинель солдатскую — шинель молодецкую — лѣтомъ не зябни, зимой не потѣй….
Тяжело мнѣ стало, когда однимъ словомъ навсегда зарѣшилась участь моя, и земляки мои раскланялись со мной, обнялись въ послѣдній разъ, понесли челобитье брату, поклонъ матери и могиламъ сына, да жены; когда остался я одинъ-одинехонекъ, безъ родныхъ, безъ пріятелей, безъ привѣта людскаго, такъ-что если бы я умеръ на другой день, такъ, кромѣ церкви Божіей, меня и помянуть было бы не кому: она всѣмъ мать!
Грустно мнѣ было потомъ, когда я вошелъ въ солдатскую казарму и видѣлъ тысячу человѣкъ, и ни одного знакомаго лица.

Тяжко, грустно, но не плакалъ я. И когда, потомъ, вытянули меня, какъ тростинку, заставили поднять ногу прямо, глаза откинуть направо, на лихова капрала, съ усами — я переродился, казалось мнѣ. Вся прошедшая жизнь вылетѣла изъ меня при командѣ: «Слушай!» вылетѣло и всякое помышленіе о будущемъ. Новое житье-бытье началось у меня, не крестьянское, а солдатское. Я дивился даже теперь тому, какъ и о чемъ люди плачутъ, когда видѣлъ, что рекруты, провожая матерей и отцовъ своихъ, плакали; но и для меня слезы еще не пересохли въ то время…
Мѣсяца три продержали насъ, добрыхъ молодцовъ, въ одномъ мѣстѣ, и потомъ отправили нашу партію въ дальній городъ. Когда выступили мы, да грянули пѣсню, — горе сваливалось съ души, будто скорлупа съ яйца. Э! была не была! Начали мы знакомиться другъ съ другомъ, дружиться, да ладить, пересказывать, да посмѣиваться.
— Ты откуда?
— Оттуда-то.
— Что̀, у тебя остались мать, жена?
— Никого, братъ, не осталось: весь тутъ, какъ видишь. Младшій братъ хотѣлъ-было жениться, да жребій благословилъ въ царскую службу по-очереди.
— А у меня и жена и трое дѣточекъ дома. Жили мы какъ кошка съ собакой; а дѣточки и безъ меня выростутъ у старика-дѣдушки.
— А меня, братцы, заѣло зеленое вино, да гульба молодецкая! Государю люди надобны; замѣнилъ собой добраго человѣка; пошелъ охотой; деньги взялъ и тѣ прогулялъ разомъ; у солдата хлѣбъ даровой, одежда некупленная, хаты не нанимай! Все трынъ трава!
И громкая пѣсня, которой выучили насъ старые служивые, грянула:
Мы перешли два перехода, и вотъ однажды привалили мы къ берегу. — «Давай перевоза!» По рѣкѣ съ другой стороны плывутъ къ намъ два парома, и на нихъ возы и обозы, всякій народъ и скотъ. Мы разлеглись на берегу, ждемъ, отдыхаемъ. Смотрю издали… что̀ это мнѣ кажется? Ну, точно моя Дуняша: ея ростъ, ея лицо, ея одежда; перекрестился, отворотился; опять гляжу — такъ у меня на сердцѣ и зашевелилось. Да развѣ мертвые воскресаютъ и въ наше время? Эхъ! не напоминай стараго, чего не воротишь! Паромъ ближе, что ты будешь дѣлать! Ну, точно Дуняша! Да ужъ, это она: ретивое меня не обманетъ; я ее узнаю и между тысячами тысячъ! Поднялся, бѣгу къ берегу, смотрю: и она меня замѣтила и узнала, протянула руки…. Рѣка глубокая текла между нами; самъ я не чувствовалъ, какъ вошелъ въ воду, по колѣни, по поясъ, чуть не по горло. Дуняша кричала, рвалась; ее насильно удерживали, пока мои товарищи кричали мнѣ съ берега, что я утону; а капралъ, испугавшись, думалъ, что я съ ума сошелъ и, размахивая руками, бѣгалъ онъ по берегу, будто курица съ утятами… Но я не утонулъ, досталъ паромъ рукой, вскочилъ туда… да, это была Дуняша; она такъ крѣпко обняла меня, хоть я былъ мокрехонекъ… и плакала, и смѣялась…
Тутъ паромъ привалилъ къ берегу. Капралъ схватилъ меня за руку, и сердито закричалъ. «Куда ты лѣзешь безъ спросу?»
— Что дѣлать, ваше благородіе, безъ вины виноватъ! Она у меня такая красавица, такъ любили мы другъ друга…
«Красавица!» капралъ взглянулъ на Дуняшу и расхохотался. Она стояла подлѣ меня, испугавшись. Я взглянулъ на нее, и самъ немного опѣшилъ: вмѣсто прежней моей дородницы, я увидѣлъ худую, рябую, блѣдную бабу — такъ перевернула ее оспа, что сдѣлалась дурна, и стара, и подслѣповата и, едва оправясь отъ болѣзни, была она еле въ чемъ душа держится; и она же верстъ пятьдесятъ прошла пѣшкомъ, только бы со мной повидаться…
— Ну, для ради такой красавицы и збавляешься отъ выговора, — сказалъ капралъ, засмѣялся и отошелъ въ сторону, а я сталъ вглядываться въ Дуняшу, вглядѣлся и увидѣлъ, что она все прежняя Дуняша: тѣ же глаза, тотъ же голосъ; ряба немножко, блѣдна немножко, да за то какъ же она меня любитъ! и я обнялъ ее, какъ прежде обнималъ. И какъ вспомнилъ я тогда все минувшее, подумалъ, что изъ могилы пришла она проститься со мною… такъ слезы у меня и полились изъ обоихъ глазъ, и такія ѣду́чія, что̀ твоя сѣра горючая! Изволите видѣть, онѣ видно были застарѣлыя, потому-что я не плакалъ съ самаго отъѣзда изъ дому.
— Такъ ты не разлюбилъ меня, голубчикъ мой, за то, что стала я нехороша?
— Тебя разлюблю я, моя душенька! Да развѣ красоту твою любилъ я? Да ты и теперь мнѣ кажешься красавицей.
И, право, не лгалъ я: она мнѣ казалась такой красавицей, Богъ вѣсть отчего, право, не лгу, хоть другіе и говорили, что она ряба и некрасива…
— Какъ же ты оставилъ меня? Зачѣмъ ты закабалилъ себя въ рекруты?
— Очередь пришла послужить Царю-Государю, Дуняша. Видно, такъ Богу было угодно. Не бойся: увидимся весело; ворочусь капраломъ, подожди.
— А сколько ждать? Нѣтъ! сердце вѣщуетъ, что въ послѣдній разъ я тебя вижу! Прости, мое ненаглядное сокровище! Видно, Господу угодно было, чтобъ допустить меня еще разъ съ тобой проститься. А для меня ужъ и саванъ сшили и гробъ сколотили. Не знаю, дотащусь ли домой? ну, да все равно, прилягу гдѣ-нибудь на дорогѣ, и прими меня, Господи! Зачѣмъ ворочусь я домой, когда нѣтъ тебя со мною? Теперь тебя и золотой казною не выкупить изъ царской службы, а дожидаться, пока ты самъ воротишься… много воды утечетъ… И слезъ-то мнѣ Богъ не даетъ, нечѣмъ мнѣ моего горя смочить…
Такъ посидѣли мы, поговорили, поплакали. Капралъ позволилъ Дуняшѣ идти со мною до перваго города, гдѣ положена была остановка. И тутъ въ послѣдній разъ стало мнѣ опять радостно, опять весело.
Но если радость является не такъ, какъ добрый жилецъ, а временной гостьей, лучше бы она совсѣмъ не приходила. И добрый булатъ, когда его то въ огнѣ покалить, то въ холодную воду сунуть, то опять въ огонь, то еще въ воду, теряетъ свою крѣпость, а человѣкъ тоже: обтерпѣвшись въ горѣ, онъ свыкается съ нимъ, и ужъ ничего нѣтъ хуже этихъ заплатокъ радости на ветхомъ рубищѣ печали и горести… Да видите, не по нашему замышленію дѣло дѣлается…
Мы пошли съ ночлега, и Дуняша пошла со мною; успѣвала, бѣдняжка, за нашей солдатскою ходьбою, хоть несла мѣшокъ съ дорожнымъ запасомъ. Но ея силъ не стало болѣе: полумертвая упала она, когда мы остановились. Я испугался.
—Дружечекъ мой, говорила она: — ничего, вѣдь это съ радости. Вы здѣсь останетесь дня на три и я успѣю отдохнуть — ничего!
— Мнѣ нечѣмъ и попотчивать тебя, душа моя! Право, копейки за душею нѣтъ.
— У меня есть. Возьми, вотъ тутъ въ мѣшкѣ два рубля мѣдью; я заложила свой сарафанъ праздничный; вѣдь тебѣ въ дорогу годится, а мнѣ на что̀.
Дуняша разсказала мнѣ, что она, какъ-будто сквозь сонъ слышала мой голосъ, когда я съ нею прощался; и когда, послѣ того, не стало меня слышно, а всѣ завопили и заголосили обо мнѣ, ее, какъ-будто кто приподнялъ, да встряхнулъ; она опомнилась и спросила: гдѣ я? Разсказали ей правду безъ утайки. И къ-чему скрываться было? вѣдь ужъ рано или поздно узнаешь — шила въ мѣшкѣ не утаишь; что сдѣлалось, того не воротишь. Но она долго слушала ничего не понимая, и потомъ объ одномъ только стала думать; «Допусти Господи еще разъ повидаться съ нимъ до моей смерти!» На третій день начала она вставать, но долго еще не могла ходить. Тесть мой приказывалъ ей не пускаться въ дорогу. «Дальнія проводины, лишнія слезы», говорилъ онъ. Но Дуняша узнала, что насъ погонятъ по дорогѣ верстахъ въ пятидесяти, и тихонько ушла, никому не сказавшись.
На третій день объявили намъ дальній походъ; сдали насъ партіонному офицеру. Дуняшѣ нельзя было идти съ ними, да и силъ ея не достало бы, да и куда же идти?…
Тутъ грѣшный человѣкъ, раскаялся я, что такъ скоро рѣшилъ свою участь, особливо, когда разсудилъ, да раздумалъ, что Дуняша не переживетъ разлуки со мною. Темнѣе осенней ночи показалась мнѣ будущая судьба моя. Я подумалъ даже — страшно сказать — не убѣжать ли мнѣ? но потомъ началъ я молить Бога отогнать отъ меня злыя помышленія. И куда убѣжалъ бы я? И что же потомъ? посрамленіе и погибель! Нѣтъ Сидоръ; думалъ я, за Богомъ молитва, а за царемъ служба не пропадаютъ! Чему быть, тому не миновать!
Не знаю: счастьемъ или несчастьемъ назвать то время, когда я прощался съ Дуняшею. Конечно, это прощанье значило все-равно, что развередить рану, которая-было задохлась, онѣмѣла и замерла; но опять и то, что мнѣ какъ-то отраднѣе стало, когда подумалъ я, что могъ еще разъ проститься съ Дуняшей; что она жива еще, а пока она жива, такъ есть еще кому на свѣтѣ помнить обо мнѣ, и Богу помолиться, и душу помянуть. А ужъ это вѣрно, что на томъ свѣтѣ душѣ человѣческой легче, когда ее поминаетъ здѣсь родная душа, и къ Богу молитву о ней посылаетъ вынизанную слезами сердечными, какъ жемчугомъ крупнымъ, перекатнымъ.
Ну, а Дуняша моя почти радовалась, прощаясь со мною. Въ деревнѣ нашей наговорили ей, будто староста неправедно отдалъ меня въ солдатство; что если похлопотать, такъ меня воротятъ, гдѣ бы я ни былъ; и еще болѣе: если бы могъ я поставить за себя рекрута, такъ и по очереди отданнаго, все еще меня воротятъ. Дура Дуняша всему этому вѣрила, и не могла нарадоваться; только о томъ и говорила, что хотѣла просить отца своего, хотѣла продать все, что у нея было, идти въ работу сама. «Лишь бы знать-то мнѣ, гдѣ ты будешь; пиши ко мнѣ, мой дружечекъ, почаще, а ужъ я добьюсь того, что тебя воротятъ, сама пойду въ губернію, стану просить самого губернатора». Я не хотѣлъ печалить ее, не спорилъ, когда пришлось мнѣ обнять ее въ послѣдній разъ (это было на большой дорогѣ), нашъ отрядъ вышелъ за городъ и дожидался офицера своего — случился праздникъ какой-то большой, и много каретъ и дрожекъ ѣхало мимо насъ на гулянье за городъ, и пѣшеходы шли туда, и всѣ были такъ разряжены, такъ веселы, и всякій ѣхалъ съ своею женою, съ своими дѣтьми, и разнощики толпой бѣжали за гуляющими… Обнявъ свою Дуняшу, чувствуя, что это въ послѣдній разъ…охъ! какъ невыносимо было, ваше благородіе, тяжко, несказанно.
Тосковалъ я больно по Дуняшѣ; писалъ къ ней, отвѣта, не было; посылалъ и со вложеніемъ письма — не было вѣсти съ родины. Потомъ пересталъ я писать; прошелъ годъ, прошло два, прошло три — пересталъ и думать. И когда объ этакихъ вещахъ думать солдату? Ученье, смотръ, переходъ, дневка, остановка; маршируй съ одного края матушки-Россіи въ другой; неси, няньчай неизмѣннаго товарища — ружье солдатское; стой на караулѣ: потомъ чистись, да ладься на ученье… Говорятъ, будто есть на свѣтѣ какая-то особая болѣзнь — скука. Подъ солдатскую бы я суму всякаго, кто хандритъ: повѣрьте, что все забудетъ, и развеселится, и выздоровѣетъ. Ка̀къ бы разсказать вамъ о солдатскомъ житьѣ-бытьѣ? Жаль, что не умѣю, а не можете ли вы представить себѣ, ваше благородіе, что солдатъ человѣкъ, у котораго душа перешла въ ружье, а сердце бьется въ патронѣ. Оттого штыкъ ему братъ родимый, и не выдаетъ солдата, послушливѣй жены любимой, вѣрнѣе брата крестоваго; а пуля — слуга его, самая вѣрная: куда пошлютъ ее — слушается, летитъ прямёхонько и скорёхонько, скорѣе мысли человѣческой…
•••
Нѣсколько лѣтъ не получалъ я писемъ отъ Дуняши; не зналъ ничего, что дѣлается на родинѣ; жилъ съ ружьемъ, на ружьѣ и ружьемъ, не видя ничего, кромѣ казармъ, да ученья, смотра, да командира; и отъ всего этого сталъ я совсѣмъ другой человѣкъ: походилъ на такого человѣка, у котораго перемѣнили руки, ноги и голову, и приставили ему другія ноги — желѣзныя, другія руки — мѣдныя, другую голову — съ мозгомъ, вмѣсто прежней, мужичьей, безъ мозгу. Не хвастая скажу, что сдѣлался я лихой солдатъ, такъ-что меня ставили въ примѣръ товарищамъ; командиры меня любили, товарищи слушались.
Когда, изволите видѣть, приставили мнѣ другую голову, какъ я докладывалъ вамъ, увидѣлъ я, что былъ я мужикомъ большой дурачина, и что наука пособляетъ уму и разуму, вотъ и принялся я учиться, и скоро выучился грамотѣ, такъ-что никто лучше моего не умѣлъ написать репортички, и меня произвели въ унтеръ-офицеры.
Но кто вѣкъ свой провелъ въ казармѣ, да на ученьѣ, тотъ еще плохой солдатъ, вполовину солдатъ, въ четверть солдатъ, какъ говорилъ нашъ отецъ Суворовъ. Нѣтъ! для полнаго солдата надобно побывать въ походѣ, помыкаться на чужой сторонѣ, окуриться порохомъ, поджариться на огнѣ. Слыша разсказы старыхъ товарищей, куда какъ мнѣ хотѣлось поработать штыкомъ, повидать чужой стороны, отвѣдать духа бусурманскаго: чѣмъ пахнетъ штыкъ, когда свалитъ имъ полдюжины. Особливо былъ у насъ въ полку одинъ старый служивый, лихой фельдвебель, еще съ Румянцевымъ подъ Кагуломъ бывалъ и съ Суворовымъ на Измаилъ шелъ. Вотъ какъ, бывало, начнетъ Зарубаевъ разсказывать, такъ у насъ слюнки текутъ. Разсказалъ бы я вамъ, да гдѣ — только испортишь разсказъ Зарубаева! Вѣдь дѣло мастера боится.
«А что, Зарубаевъ, иногда спрашивали мы его: какъ ты думаешь, скоро ли опять начнется война? Скоро ли опять выпустятъ царскую армію на непріятеля?» — «А Богъ вѣсть! говаривалъ онъ — При нашей матушкѣ-Государынѣ мы почти безпрестанно дрались, да тогда были на то резоны. Видите: съ одной стороны были тогда Татары, съ другой Турки, съ третьей — Персіяне, съ четвертой Шведы, съ Пятой Поляки, съ шестой Пруссаки, съ седьмой Китайцы. Государыня и подумала: «Ну, хорошо, пока еще они боятся, да пока мы готовы, стоимъ съ ружьемъ въ рукахъ. Да вѣдь на всякаго мудреца бываетъ довольно простоты. Задумаешь отдохнуть, положить ружье, вздремнешь, а они какъ всѣ вдругъ нагрянутъ, такъ вотъ тебѣ и разъ! рукъ-то у меня всего двое!» Она и начала, знаете, изподтишка, пріосамилась, пріоправилась, и говоритъ прежде всего турецкому султану: «Послушай, султанъ: не вели ты Татарамъ Крымскимъ шалить!» А Татары-то, знаете, жили тогда въ Крыму, туда, на полдень отъ Курска, и къ нимъ по степи нельзя было пройдти; а они то-и-дѣло, на лошадяхъ, переѣдутъ черезъ степь, да и давай грабить, жечь, рубить; ни церкви Божіей не оставятъ, ни младенца не пощадятъ: за ноги, да объ уголъ. А какъ сберутся мстить имъ за кровь неповинную, христіанскую, да за церкви Божіи, такъ они гикнутъ — да только ихъ и видѣли, улетятъ на своихъ лошадяхъ, и слѣда по ковылю, да по степи не сыщешь. Ну, а султанъ ихъ похваливаетъ. Вотъ султанъ отвѣчаетъ: «Нѣтъ, Катерина Алексѣевна, я Татаръ не уйму, саламалыкъ (по-турецки не хочу)! А Государыня говоритъ: «Уйми»; а онъ говоритъ: «Нѣтъ не уйму!» — Такъ постой же, сказала Государыня. Вѣдь у тебя и Царьградъ-то твой чужой: ты вѣдь его у Грековъ взялъ, когда православнаго царя Константина убилъ. Отдай ты мнѣ Крымъ, Очаковъ, Измаилъ, Бендеры, Кафу — и… начла ему сотни двѣ городовъ. «Да, какъ-бы, дескать, не такъ, то-есть, тово-воно, какъ оно, изволишь видѣть!» отвѣчалъ султанъ. Но не успѣлъ онъ трубки докурить, не успѣлъ оглянуться, анъ ужъ наши генералы: Румянцовъ, Потемкинъ, Панинъ, и пошли, да и пошли! Да, вѣдь какъ пошли… султанъ собралъ-было тму-тмущую бусурмановъ, а они, какъ начали, да начали — куда тебѣ! только иверни полетѣли; а особливо отецъ нашъ, графъ Александръ Васильевичъ Рымнинскій, такъ онъ съ ними просто шутилъ. Подъ Кинбурхомъ было у него тысячи двѣ солдатишекъ, и то ужъ такъ, кое-чего; а Турковъ пришло сто кораблей, полнёхоньки народу, и вышли они на берегъ. Ему и говорятъ: «Ваше превосходительство, Турки пришли»; а онъ говоритъ: «Хорошо!» и самъ будто спитъ. Опять говорятъ: «Ваше превосходительство, Турки ужъ батарею построили; — а онъ говоритъ: «Хорошо!» — и только себѣ. Ну, ужъ еще пришли, говорятъ: «Вставайте, ваше превосходительство: всѣ Турки вышли на берегъ и корабли назадъ поотпущали, хотятъ съ чеснокомъ насъ съѣсть?» Какъ онъ вскочетъ, ажно онъ и не спалъ, да какъ запоетъ пѣтухомъ — Турки такъ и дрогнули, и пошла писать! Да вѣдь такъ расчесалъ, что они съ-дуру-то въ море бросались, хотѣли до Царьграда въ бродъ перейдти и достались на закуску морскимъ рыбамъ! А что было еще подъ Измаиломъ, такъ и разсказывать страшно! А подъ Очаковымъ, въ самый Николинъ день. Самъ я тамъ не былъ, а слышалъ, что тамъ ядра въ пушкахъ замерзали, огонь застывалъ, снѣгомъ стрѣляли, изъ льду лѣстницы на стѣны дѣлали. Вотъ услышалъ шведскій король и говоритъ: «Матушка-Государыня! не тронь моего друга, султана турецкаго, а не то отдай мнѣ три города!»
Вы думаете, Государыня его и послушалась? Да, держи карманъ! И король шведскій разъярился, пришелъ къ самому Петербургу и открылъ баталію на море, такъ-что въ Петербургѣ окна дрожали. Адмиралъ Чичаговъ — дай Богъ ему царство небесное! — такъ отдѣлалъ его, что и самого адмирала шведскаго взяли. А между-тѣмъ, черезъ моря далекія, черезъ аглицкую землю, черезъ Средиземное и черезъ Бѣлое Море въ грецкую землю пришелъ нашъ адмиралъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ — этакой молодчина, чуть не въ сажень — и хотѣлъ взять самый Царьградъ. И какъ началъ палить, такъ султанъ ужъ не шутя испугался, выслалъ своихъ корабельщиковъ, говоритъ: «Идите вы, мои вѣрные корабельщики, возьмите этого Орлова живьемъ, а не то я вамъ всѣмъ головы поотрублю!» Корабельщики поклонились султану и пошли. Но какъ увидѣли русскіе корабли — душа въ пятки ушла — они и давай бѣжать. А русскій адмиралъ съ ними шутить не захотѣлъ, загналъ ихъ въ какую-то гавань и послалъ одного хитреца, аглицкаго нѣмца; а того угораздило зажечь море: всѣ Турки такъ живьемъ и сгорѣли! И такая была возня, что отъ Царяграда до земнаго пупа, да до Ерусалима, земля тряслась, а въ итальянскую землю отъ кораблей огарки летѣли. Султанъ еще было-послалъ къ персидскому шаху, да къ китайскому булдыхану просить помощи. Китайцы, знаете, тоже бусурманы, живутъ за Сибирью, къ Индійскому Морю, народъ узкоглазый, дѣлаютъ чай, вотъ, что̀ бара наши пьютъ по утрамъ; а впрочемъ, не воинскій народъ, трусливый; и домы-то у нихъ бумажные, а пушки стеклянныя, ружъя глиняныя. Булдыханъ и говоритъ султану: «Радъ бы я тебѣ, пріятель дорогой, помогать, да видишь, мнѣ далеко, и у меня русскіе купцы чаю покупать не станутъ». А шахъ говоритъ: «Пожалуй, помогу!» И послалъ онъ войско въ Грузію, что̀ между Синимъ да Чернымъ, да Хвалынскимъ Моремъ, гдѣ стоитъ городъ Желѣзныя Ворота; еще, говорятъ, Александръ Македонскій его строилъ — была стѣна отъ моря до моря, да теперь развалилась. Государыня послала туда графа Зубова, и онъ такъ пугнулъ Персіянъ, что они убѣжали за Араратскія Горы, на которыхъ Ноевъ ковчегъ остановился, такія, слышь ты, горы, что какъ взглянешь на вершину, шапка свалится, и тамъ, на верхушкѣ, никогда снѣгъ не таетъ. Вотъ и остались у султана только Поляки. — Государыня и думаетъ: «Хорошо, поколотили мы Турковъ, Татаръ, Шведовъ, Персіянъ; но что̀ другіе подумаютъ? Вѣдь этакъ, дескать, кой чортъ — Русскіе бьютъ, бьютъ, да и до насъ добьются? А народу еще много бусурманскаго: Англичане, Французъ, Нѣмцы, Итальянецъ, и Богъ вѣдаетъ — какъ песка морскаго, у Бога народовъ безчисленно. Хоть и храбры мои Русскіе, да вѣдь противъ цѣлой земли Господней не станешь». Она и послала къ Цесарцу, да къ Пруссаку. А тогда въ Пруссіи былъ король Ѳедоръ Ѳедоровичъ, невеликъ ростомъ, головка небольшая, глаза ястребиные, коса въ аршинъ, да уменъ, и такой храбрый, что семь лѣтъ дрался со всѣми сосѣдями, и ужъ кое-какъ Русскіе же пособили — всѣхъ было завоевалъ! И говоритъ ему Государыня: «Любезный братъ, король прусскій! пойдемъ, уймемъ Поляковъ; возьмемъ ихъ царство и раздѣлимъ». Тотъ и радъ. Государыня послала Суворова — вотъ тогда-то было взятіе Праги, о чѣмъ я вамъ прежде разсказывалъ. И Польши не стало; и Государыня взяла себѣ сорокъ городовъ съ пригородками, двадцать четыре дала прусскому, а четырнадцать цесарскому императору. Тогда видитъ султанъ, что худо, взмолился Русской Императрицѣ, давай кланяться, просить мира. И съ нимъ помирились, хорошо помирились, такъ-что если бы еще раза два этакъ помириться, то султанское величество маршируй черезъ море въ эѳіопскую землю, а намъ подавай все, чѣмъ прежде владѣли Греки. Да вѣдь оно и праведно: Греки намъ отдали и свою вѣру православную, и послѣдняя греческая царевна вышла за нашего царя Ивана».
Такъ, или похоже на это, разсказывалъ намъ Зарубаевъ, и мы, бывало, сидимъ вокругъ него, и цѣлыя ночи прослушиваемъ, какъ онъ разсказываетъ. Этакой былъ солдатъ, чудо, съ каменною грудью, съ золотымъ языкомъ — краснобай, да и только! И обо всемъ былъ мастеръ говорить. Нѣкоторые изъ насъ, новичковъ, станутъ, бывало, спрашивать его: «Какъ же, Зарубаевъ, не бояться смерти? И хорошо бы оно, пошелъ, да подрался бы, но вѣдь пуля-то не свой братъ; а какъ ногу, либо руку оторветъ — больно; да и страшно смотрѣть, когда крошатъ человѣка, будто битое мясо готовятъ, а кровь черпаютъ, будто за здоровье выпить хотятъ?» — «Охъ вы трусы, дряни! говорилъ онъ: — да не все ли равно когда-нибудь умирать надобно? Не лучше ли умереть вдругъ, безъ боли и болѣзни, нежели изнывать, да кряхтѣть и чахнуть полгода? Да знаете ли, что на ядрѣ, которымъ унесетъ васъ изъ здѣшняго міра, вы перелетите прямо въ царство небесное? Вѣдь Церковь святая говоритъ: «Больше сея любви нѣтъ, еже душу свою положити за ближняго», и она во вѣки-вѣковъ поетъ большую панихиду за всѣхъ православныхъ воиновъ, на брани за вѣру и отечество убіенныхъ. А слава-то какая, а честь-то какая! Командиръ скажетъ: Ай да молодецъ былъ!» А Государь скажетъ; «Этакихъ молодцовъ у меня осталось не много!» Страшно! вишь, что выдумали! Оно, коли хотите, и страшно сначала, а тамъ, какъ заговорятъ пушки, да затрезвонятъ барабаны — такъ и страхъ будто съ гуся вода — такъ и лѣзешь впередъ, такъ руки и чешутся на басурмана…»
Но ни о чемъ не говаривалъ Зарубаевъ столь хорошо, какъ о графѣ Суворовѣ, съ которымъ служилъ долго, котораго видѣлъ въ Польшѣ и въ Туретчинѣ… Но, полно пересказывать вашему благородію чужіе разсказы; лучше скажу о томъ, что самъ я видалъ. Вотъ изволите видѣть, прошу о вниманіи. Однажды, сижу я въ канцеляріи, слышу такой шумъ, крикъ; бѣгу, смотрю: толпой всѣ высыпали изъ казармы; офицеры обнимаются, солдаты въ кружку около Зарубаева. «Что такое сдѣлалось?» — «Ура! — кричитъ онъ: — радуйся, Сидоръ: давно хотѣлъ ты понюхать изъ пушечной табакерки солдатскаго табаку, да помѣриться лбомъ съ ядромъ, что крѣпче — радуйся! мы идемъ въ походъ!
Тутъ узнали мы, что пріѣхалъ курьеръ, и черезъ три дня мы выступаемъ, и что батюшка нашъ графъ Александръ Васильевичъ нами начальствуетъ. Вечеромъ Зарубаевъ ужъ все узналъ и разсказалъ намъ, что мы не за себя будемъ драться, а за цесарскаго императора, и съ такимъ народомъ, съ которымъ еще не дирались — съ Французомъ! Не умѣлъ онъ растолковать за что̀ дѣло стало, а только слышалъ, что Французы, не вѣсть съ чего, вдругъ разъярились, начали всѣхъ колотить, и Пруссаковъ и Англичанъ, и Цесарцевъ, такъ-что не взмилился никому бѣлый свѣтъ. И цесарскій императоръ взмолился нашему императору: «Ой, батюшка, отецъ родной, Павелъ Петровичъ, Государь Всероссійскій! смилуйся! Еще-таки управлялся я съ Французомъ, пока не было у него генерала Бонапарте, а этотъ меня совсѣмъ загонялъ. А теперь Бонапарте уѣхалъ за море, бить Эѳіоповъ; а у тебя есть старикъ Суворовъ; пришли его, ради Христа!» Императоръ и позвалъ тотчасъ Суворова, и сказалъ: «Ну, Александръ Васильичъ! виноватаго Богъ проститъ. Поди спасай царей! Вотъ тебѣ моя армія. Надѣешься ли?» — «Попытаюсь, отвѣчалъ старикъ: — да съ такимъ царемъ какъ ты, почто не спасти!» Вотъ Суворовъ поклонился, велѣлъ заложить кибитку и поѣхалъ, и намъ велѣлъ идти на Французовъ, за цесарскую страну, въ итальянскую землю.
Не стану вамъ разсказывать, ваше благородіе, какъ мы радовались, какъ мы пошли, шли, шли, всю цесарскую землю перешли. Наглядѣлся я чудесъ и диковинокъ. Города каменные, домовъ по семи, одинъ на другой настроены, улицы узкія; сивухи русской и въ поминѣ нѣтъ; все виноградное вино, да пиво; дороги, какъ улицы, мощеныя — и грязи-то Богъ имъ не даетъ. Ну, а народъ добрый, простой: только захоти, такъ и обманешь; и все бормочутъ по-своему — чудный такой языкъ! Хорошо еще, что Зарубаевъ насъ подучилъ ихъ языку, и мы такъ, бывало, и рѣжемъ. Скажешь: тринкать и укажешь на ротъ — и несутъ тебѣ вина; выпьешь, скажешь: гутъ! а Нѣмецъ и радъ, и смѣется, и начнетъ тебѣ лепетать, а ты только подговариваешь ему: гутъ, я — то есть: хорошъ, я; да ужъ если надоѣстъ очень, такъ и примолвишь: ты Нѣмецъ гутъ, а я Русакъ гутѣе, а Суворовъ еще гутѣе. Тогда, бывало, Нѣмецъ сниметъ шляпу и поклонится: О Субаро́въ! Но итальянская земля, ваше благородіе, еще мудренѣе: у нихъ вмѣсто нашей березы и сосны лимоны, да померанцы; и зимы нѣтъ; такая земля, что не благословилъ ее Богъ снѣгомъ, и прокатиться на саняхъ некогда, и негдѣ, и все такая теплынь, что потѣешь, потѣешь, бывало, да и тьфу ты пропасть какая! Дѣвки у нихъ хороши, только все бусурманки, покланяются римскому папѣ, и противъ Русскихъ дородностью не будутъ.
Вотъ мы ждемъ не дождемся, когда встрѣтимся съ Французами; и потрушивали мы немного, хоть надѣялись на Бога и на Суворова. «Не знаю, ребята,» говорилъ намъ Зарубаевъ, когда мы у него спрашивали — «нечего на душу грѣха брать, не знаю, что за народъ, не случалось драться. А ужъ что они хуже Русскихъ, за то голову прозакладую, хоть они матушку-рѣпку пой!» — Кручинило насъ и то, что мы еще не видали нашего Суворова.
Будто теперь смотрю — было въ апрѣлѣ, черезъ три дня послѣ Егорья, ночью подняли насъ съ лагеря. Былъ тогда у насъ генералъ Петръ Иванычъ Багратіонъ; выстроилъ насъ въ ряды; самъ выѣхалъ передъ фрунтъ — носъ такой большой, голосъ рѣзкій, мужественный; началъ говорить; мы закричали: Рады стараться! Самъ онъ кликнулъ охотниковъ — и пошли мы всѣ. Ночь хоть глазъ выколи; подошли къ рѣкѣ… Какъ бишь она?… Ада́, Ѣда́… Залегли, мы всѣ на берегу и начали наши инженеры мостъ мостить. Французы и не замѣтили этого, а мы, къ свѣту, какъ грянемъ по мосту, да на нихъ… То-то пошла потѣха! Кто бѣжитъ, кто дерется, кто кричитъ: пардонъ! Тутъ и страхъ пропалъ. «Эхе! говорилъ Зарубаевъ, смотря на плѣнныхъ; — да этотъ народъ хуже Турка, а еще туда же лѣзетъ драться съ Русскими!»
Но это были только цвѣточки. Скоро узнали мы, что Французы лихой народъ. Было это въ маѣ; жара такая, а вмѣсто отдыха мы ходили взадъ да впередъ, по-нѣмецки, потому-что Нѣмцы до-тѣхъ-поръ не бьются, пока не выберутъ мѣста, откуда можно отступить, если сила не возьметъ, — ужъ такая у нихъ повадка. Старику Суворову не нравилось это, но что̀ дѣлать! Назвался груздемъ, такъ полѣзай въ кузовъ. Наконецъ выбралась душа на свободу: слышатъ Нѣмцы, что отвсюду идетъ Французъ, испугались, а Суворовъ и началъ по-русски: повелъ насъ прямо. Тутъ въ первый разъ я видѣлъ Суворова.
Всѣ мы стояли въ строю, и я глаза проглядѣлъ — такъ хотѣлось видѣть этого отца солдатскаго, и я представлялъ его себѣ еще выше нашего Багратіонова. Вотъ и слышу, ревутъ: Ура! И мы крикнули, и ѣдетъ… Ахъ ты, Господи Боже! изъ дивъ диво: стариченцо, худенькій, сѣденькій, маленькій, въ синѣй шинели, безъ кавалерій, на казацкой лошади; поворачивается въ сѣдлѣ направо, налѣво, а за нимъ генеральства гибель. Но какъ онъ подъѣхалъ, какъ заговорилъ, такъ я и узналъ, отчего солдаты его любятъ? Все поняли мы, о чемъ говорилъ онъ, и такъ сладко, и такъ умильно говорилъ онъ, что когда онъ снялъ шляпу, началъ молиться Николаю Чудотворцу, мы готовы были и плакать, и смѣяться — подавай по десяти на одного! Ужъ не по приказу, а отъ души кричали мы: Ура!
На другой день, рано утромъ, вывели насъ, молодцовъ, поставили. Солнышко только-что всходило. Посмотрю кругомъ — туманъ, полки, артиллерія. Гдѣ жъ непріятель? думалъ я, и узналъ, что дѣло не то, какъ ночью мы перешли по мосту. Сперва началась жарня на лѣвой сторонѣ, словно громъ, такъ и перекатывается. И вотъ вспыхнула деревенька направо, тамъ налѣво; туманъ пронесло — пожаръ разгорался, пальба крѣпчала. Тутъ я, правду сказать, почуялъ пушечную лихорадку, стою и дрожу. Особливо, когда вдалекѣ пошли въ атаку, и намъ видно было, какъ одинъ изъ русскихъ полковъ бѣжитъ, за нимъ гонятся Французскіе уланы и гусары, а другаго и не видно стало вдалекѣ — онъ, какъ печь, горѣлъ въ дыму, въ полымѣ, отъ бѣглаго огня. Тутъ поволокли мимо насъ раненныхъ, изувѣченныхъ; они стонутъ, воютъ; иной ползетъ и проситъ: «Приколите, ребята!» Наконецъ дошла очередь и до насъ; въ первый разъ услыхалъ я, какъ запѣли ядра надъ нашими головами, и насъ стало вырывать цѣлыми десятками. Мы дрогнули, особливо, наша братья, небывальщина — бо̀язно, хочется посторониться отъ нежданнаго гостя; да иной наклонится, а его и слѣду нѣтъ — кровь, мозгъ брызгали со всѣхъ сторонъ! А между-тѣмъ намъ кричатъ одно: Держи строй! Смыкайся! Зарубаевъ стоялъ подлѣ меня; пальба ревѣла такъ, что ужъ ничего не было ни слышно, ни видно, только будто изъ темной тучи, впереди сверкалъ огонь, а грому отъ пушекъ потому не было слышно, что кругомъ все скаталось въ громъ, земля дрожала — свѣту преставленье! «Сидоръ, сказалъ мнѣ Зарубаевъ: — ты дрожишь?» — «Виноватъ, пріятель, дрожу!» — «Дуракъ! если, на которомъ ядрѣ твоя смерть написана, отъ того ядра ты нигдѣ не спрячешься, а которое не тебѣ назначено, такъ всегда пролетитъ мимо!» Въ это время надъ головой загудѣло у насъ ядро — я неволей присѣлъ, а Зарубаевъ захохоталъ. «Кланяйся, посылай вѣсточку на родимую сторону; ужъ оно далеко…» Не успѣлъ докончить онъ слова, какъ меня всего обсыпало землею, сшибло съ ногъ, я упалъ, вскочилъ, щупаю: цѣло ли ружье — цѣло! Слышу знакомый голосъ… Зарубаевъ лежалъ подлѣ меня. Я наклонился къ нему. «Ну, Сидоръ, прощай братъ! сказалъ онъ учись умирать, по-солдатски — видишь какъ: твори молитву, вытянись въ послѣдній разъ». Кровь текла изъ него и душила его… Тутъ, видимъ, самъ Багратіонъ нашъ выскакалъ, командуетъ: Впередъ! Все рванулось впередъ, и не знаю какъ вамъ сказать, ваше благородіе: крикъ, пальба; бѣжишь, спотыкаешься на мертваго, топчешь живаго; барабаны, пушки, трескъ, стонъ, — вдругъ шаркнули въ насъ картечью; слѣва хватили гусары; народъ валится одинъ на другаго, я упалъ на меня попадала цѣлая груда товарищей — слышу, какъ ѣздятъ черезъ насъ лошади… Но — живъ, опять тихо, тихо. Я выкарабкался и вижу, что немного нашихъ егерей стоятъ, заряжаютъ ружья; впереди наши, Русскіе, открыли пушечную пальбу, такую, что не приведи Господи — куда устоять! вѣтромъ несло дымъ на французскую сторону, и Французы бѣжали къ рѣкѣ, а въ догонку ихъ провожали ядрами! Какъ одурѣлый, бросился я къ товарищамъ. Намъ тотчасъ скомандовали, примкнули насъ къ другому полку, велѣли разсѣяться, идти вправо, въ огонь, гдѣ горѣла деревня; мы бросились черезъ сады… Что̀ за сады такіе: лимоны, померанцы, виноградъ, все, что у насъ господа въ оранжереяхъ, да въ теплицахъ берегутъ! И повѣрите ли: весь страхъ у меня тогда пропалъ, точно, какъ на кулачномъ бою; только пусти Господи до врага-собаки… у! и въ огонь и въ воду! Французы сильно стрѣляли изъ-за огородовъ; мы ломали огорожи, лѣзли… Охъ! была тутъ потѣха, натѣшилась душа! Чего тратишь казенные патроны! Ближе къ дѣлу: прямо черезъ загорожу, да штыкомъ… сробѣетъ! вѣдь не Русскій!

Но тутъ увидѣли мы, однакожъ, какъ говорили послѣ и самые старые солдаты, что Французы мастера драться. Вѣдь съ самимъ графомъ Суворовымъ три дня тогда дрались они; а потомъ, разумѣется, побѣжали, давай Богъ ноги! Еще бы съ Суворовымъ, да Русскому уступить!
Таково было первое дѣло, гдѣ я попался въ самую суматоху, и вышелъ цѣлъ. И это меня такъ ободрило, что потомъ, истинно, я не похвасталъ бы передъ Зарубаевымъ, если бы сказалъ, что не кланяюсь ядрамъ. Но Зарубаева ужъ не было на бѣломъ свѣтѣ: жилъ славно и умеръ славно! Мы всѣ жалѣли о немъ… О себѣ бы лучше пожалѣть… Рвалось у меня сердце, когда, потомъ, Французъ пришелъ къ намъ на святую Русь, когда слышалъ я, какъ онъ заплѣнилъ матушку-Москву, ограбилъ соборы православные, поругался святымъ иконамъ, хотѣлъ-было хоть въ фурлейты проситься… Ну, и безъ меня управились. Не сдобровалъ Французъ, замерзъ въ нашихъ Русскихъ стѣнахъ! Хорошо было ему драться въ теплѣ, въ итальянской, да въ нѣмецкой землѣ…
Проходилъ здѣсь отставной солдатъ; поразговорились мы, и поразсказалъ онъ мнѣ обо всемъ… Эхъ не было меня-старика, какъ батюшка нашъ, Царь Александръ Павловичъ давалъ баталію подъ Липскимъ!… съ горя плакать хочется! Что наши суворовскія баталіи передъ этимъ побоищемъ? — игрушки! Вѣдь однѣхъ пушекъ было, ваше благородіе, 2000! И надобно было дать такую баталію, чтобъ порѣшить этого колдуна Бонапарте. Не даромъ его боялись Цесарцы.
Правда ли, ваше благородіе, будто теперь отправили его за море, за окіянъ, на кипучую морскую пучину? Что-то не вѣрится! Вѣдь наше мѣсто свято — говорятъ, онъ антихристъ, и скоро настанетъ кончина міра, и онъ опять выйдетъ? Смотрѣть на міръ и на людей, такъ, кажется, это не правда: люди, каковы были, таковы и есть; и знаменій пришествія антихристова, о которыхъ читалъ я въ книгѣ преосвященнаго Стефана Яворскаго, еще нѣтъ.
А знаете ли, ваше благородіе, что я видѣлъ Бонапарте, ей-Богу, не лгу, видѣлъ, какъ васъ теперь вижу. Извольте, я вамъ разскажу. Еслибъ мнѣ стать разсказывать все, что видать случалось, гдѣ я бывалъ, что слыхалъ — ночи-то мало бы мнѣ было, а оно и безъ того ужъ не рано. Вотъ ужъ и Сохатый на небѣ хвостъ поворотилъ, и Кычиги шарахнулись на утро…
Поплакали всѣ мы, солдатушки, какъ услышали потомъ о кончинѣ графа Суворова — упокой Господи его душу! Послѣ того полно драться, заржавѣли ружья, заплѣсневѣлъ порохъ. Лѣтъ шесть прошло, какъ воротились мы въ Россію. Наше дѣло солдатское, не намъ разсуждать; но какъ слышали мы разговоры командировъ и начальниковъ, такъ иногда бывало толкуемъ между собою — такъ и рвется ретивое! Этакую вольность взяли себѣ эти Французы! Забыли, какъ бѣгали передъ Суворовымъ, и, смотри пожалуй, воротился Бонапарте изъ Эѳіопіи, ужъ онъ и императоръ, ужъ и Цесарію взялъ за себя, и Прусака смялъ, и Италію заполонилъ! Наконецъ ударили походъ — слава тебѣ, Царю Небесный, утѣшителю, Душе истинный! что внушилъ такую мысль православному Царю земному! Пошли мы по знакомой дорогѣ, въ нѣмецкую землю, опять съ нашимъ генераломъ Багратіоновымъ, Суворовскимъ ученичкомъ…
Вы, конечно, слышали, ваше благородіе, обо всемъ, что происходило и въ цесарскую и въ прусскую войну, до самаго замиренія подъ Тильзитовымъ? Бонапартъ былъ заговоренъ отъ пули — въ этомъ ужъ меня ничто не разувѣритъ. Этакъ выдумали: не заговоренъ! Да какъ-бы онъ укрылся отъ двадесяти народовъ, пока еще не покорилъ ихъ, когда каждый человѣкъ изъ этихъ народовъ цѣлилъ въ него чѣмъ попало?… Не мое дѣло толковать объ этомъ, смекайте сами. А вотъ видите :
Когда нашъ генералъ Леонтій Леонтьевичъ Бениксоновъ показалъ Бонапарте, что Русакъ не Прусакъ, и что зимой; Русскій еще лучше дерется, по пословицѣ: что̀ Русскому здорово, то Нѣмцу смерть, и наоборотъ, Бонапарте радъ былъ помириться; и такой лисой прикинулся, что нашъ великій Императоръ Александръ Павловичъ повѣрилъ ему. Любо-дорого было смотрѣть, какъ они тогда помирились. Такой диковинки долго не увидитъ другой, какую мы тогда видѣли. Народъ, который пришелъ драться и губить другъ друга, и Богъ вѣсть откуда пришелъ — тутъ было десятка полтора разныхъ народовъ — вдругъ поладилъ, помирился, обнимался. Небольшая текла тутъ рѣчушка, Нѣманъ. Александръ Павловичъ сказалъ Бонапарте: «Твоя сторона, Бонапартъ, будетъ лѣвая, а моя правая; ты будто тамъ хозяйничай, а я будто здѣсь; ты ко мнѣ приходи въ гости, на эту сторону, а я къ тебѣ стану приходить, на ту. И коли ужъ другъ, такъ другъ: ты не бери съ собой стражи, и я не стану брать съ собой». Бонапарте сказалъ: «Ладно, Государь Императоръ Александръ Павловичъ, изволь, будь по-твоему!» И начались такіе пиры, гулянья, что на одномъ пиру по двадцати королей, да королевъ бывало.
Нашъ полкъ славно отличился въ послѣднихъ дѣлахъ, а въ награжденіе велѣно было намъ содержать караулы у самого Государя Императора. Однажды стою я съ товарищемъ на часахъ, у самаго входа въ ту комнату, изъ которой входятъ къ Императору…. Ужъ, разумѣется, поджилки дрожатъ, ваше благородіе: Императоръ Александръ Павловичъ былъ такой добрый до солдатъ, да вѣдь императоръ, то есть земной Богъ, ваше благородіе, нельзя не побояться, хоть радъ душу за него положить! Смотрю: двери, что противъ меня прямо, растворились настежь; нашъ русскій генералъ какой-то вытянулся въ струночку, и разговариваетъ съ какимъ-то генераломъ — ну, этотъ не нашъ, да и не Прусакъ; пріятелей Прусаковъ мы ужъ по мундиру различать научились — нѣтъ не Прусакъ, да и такой неуклюжій, плотный, невысокій; и мундиръ на немъ такой чудный: брюхо все наружу, безъ перетяжки, и по краямъ обложено бѣлыми, широкими выпушками; шпажища предлинная; въ рукахъ шляпенка маленькая, низенькая; сапожищи такіе страшные, за колѣно. Поговорилъ съ генераломъ нашимъ, да черезъ комнату къ нашей двери, скоро-скоро таково. Нижу, что особа, должна быть высокая; сдѣлалъ честь ружьемъ. Онъ остановился, да на меня, прямо таково, уставилъ глаза… Ну повѣрите ли, ваше благородіе такъ вотъ морозомъ обдало всего — волосы подстрижены въ кружокъ, лицо такое мѣдное, а глаза… Ахъ! ты Господи! дня три потомъ мерещились они мнѣ, такіе страшные, такъ и сверкаютъ, какъ-будто уголь черные, красные, желтые — и Богъ знаетъ какіе! Будто кто-то шепнулъ мнѣ, и я тотчасъ подумалъ: «Вѣдь это самъ Бонапарте!» А онъ мнѣ, ни съ того слова, указываетъ на дверь, что̀ къ Государю-то, и говоритъ, такъ скоро, скоро, какъ будто сердито, или Богъ ужъ его знаетъ да и на какомъ языкѣ, Господь вѣдаетъ. Дверь отворилась. Самъ Императоръ нашъ, Александръ Павловичъ, показался въ дверяхъ, и какъ увидѣлъ того, что пришелъ-то, будто удивился — «А!» да и заговорилъ съ нимъ по-ихнему. А этотъ самъ заговорилъ — лопочетъ, лопочетъ Императору что-то, да все таково скоро — а Императоръ-то, все этакъ ему руку трясетъ, да кланяется, и оба, знаете, такъ будто улыбаются, и ушли въ кабинетъ и дверь заперли.
Это былъ самъ Бонапарте.
Тутъ прибѣжало много генеральства, и нашего и всякаго, и начали бѣгать по залѣ, говорятъ между собою; а одинъ, съ такой звѣздищей, ко мнѣ, и говоритъ: Лампьереръ? Ну! ужъ я смекнулъ, что не можетъ выговорить хорошенько: Императоръ, «Тамъ, ваше превосходительство, въ кабинетѣ». — А одинъ изъ нашихъ генераловъ подошелъ ко мнѣ, да и шепчетъ: «Дуракъ! вѣдь это король!» А почему мнѣ было знать? тогда королей-то собралось въ одномъ мѣстѣ не одинъ десятокъ. Всѣ они ушли опять, и двери затворили. Черезъ часъ времени этакъ, выходятъ и нашъ Императоръ и Бонапартъ; что-то смѣются, и все говорятъ; тотъ все лопочетъ скоро, скоро, а нашъ Императоръ только подговариваетъ: вуй, вуй! И стали ходить по комнатѣ, и пошли вмѣстѣ, сѣли на лошадей и поѣхали вмѣстѣ. Нашъ Государь, знаете, молодецъ собой, такой красивый, высокій, дородный, да и одѣтъ-то ужъ какъ… А на того посмотрю съ искоса, и думаю: «Охъ, ты, окаянный! Такъ это ты-то Бонапарте? Штучка не величка, да куда бойка! да какимъ ты шутомъ одѣтъ!… Право, такъ, ваше благородіе, право, такъ…
Послѣ того вскорѣ намъ сказанъ былъ походъ въ Россію, только не туда, гдѣ я бывалъ до-тѣхъ поръ, а все на полночь. Шли мы, шли; спрашиваемъ: «Господи! да будетъ ли конецъ? Неужели нашей матушкѣ-Россіи и предѣла нѣтъ?» Ваше благородіе, бывали ль вы туда, дальше за Петербургъ? Вотъ ужъ сторонка! Мы шли въ эту сторону черезъ нашу нѣмецкую землю, да черезъ чухонскую, да черезъ латышскую, и пришли за Балтійское Море, въ сѣверныя горы, гдѣ намъ объявили, что началась война съ Шведомъ. Зима была такая холодная, а сторона, какой я еще и не видывалъ: гора на горѣ, все каменныя; рѣка выше рѣки: течетъ, течетъ, упадетъ съ камня, да опять течетъ, будто рѣка, и опять упадетъ съ камня, и опять течетъ. Цѣлая крѣпость вырублена тамъ изъ камня, съ пушками, и съ стѣнами, и съ воротами. Дороги всѣ были занесены снѣгами, и какъ мы шли походомъ, такъ впереди лошадей сорокъ тянули передъ нами деревянный треугольникъ, а то и проходу не было: снѣгъ по груди; лѣсъ со всѣхъ сторонъ; увидишь деревушку, такъ въ ней непріятель; руки мерзнутъ, да дѣлать нечего — заряжай, да работай штыкомъ, по колѣно въ снѣгу. Стойкой народъ эти Шведы; куда лихи драться — ужъ не попроситъ пардона: та только на нихъ бѣда, что народу-то у нихъ мало. Кажется, наши генералы были молодцы, Багратіоновъ, Кульневъ — а часто, бывало, Кульневъ закуситъ свои длинные усищи, да только зубами скрипитъ, а взять нельзя — жжется!
Въ этой сторонѣ послужилъ я недолго, ваше благородіе, и шведская пуля подписала мнѣ отставку. Не даромъ есть повѣрье, что ужъ если кто долго служитъ и въ полѣ бываетъ, да у него хоть немного крови не выпустятъ, такъ ему не сдобровать: либо положитъ свою голову, либо расплатится дорого! Такъ сбылось и со мною. Хранилъ меня Богъ до-тѣхъ-поръ; раненъ я не былъ ни одного раза, хоть комплекта три товарищей перемѣнилъ, и иногда, бывало, посмотришь: немного, немного остается моихъ первоначальныхъ командировъ и пріятелей! А въ это время… ужъ пусть бы на сраженьѣ, и сердце бы не болѣло, а то… поди ты, устерегись, когда ужъ рокъ такой придетъ — заблудящая пуля-дура, какъ говаривалъ нашъ батюшка Суворовъ, разжаловала меня въ инвалиды.
Шведы засѣли въ одной деревнѣ; стояли ловко; наконецъ мы выбили ихъ штыками, раздѣлили на три отряда, и генералъ приказалъ намъ гнать ихъ по тремъ дорогамъ, отнюдь не давая соединяться. Съ утра до вечера наша рота преслѣдовала одинъ отрядъ; изморились мы до смерти. Шутка-ли: верстъ десять, что шагъ, то остановка; что пригородокъ, то стрѣлокъ, что дерево, то пуля; что загородка, то работа штыку! Наступила ночь. Мы остановились ночевать въ маленькомъ селеніи; оттуда всѣ жители убѣжали; распорядились мы по-своему: развели огни; кто варилъ и ѣлъ, что̀ найдти успѣли; другіе стояли на отводныхъ караулахъ, на ведетахъ; третьи повалились, кто гдѣ смогъ; непріятеля не было нигдѣ вблизи, но намъ не велѣно было раздѣваться. Прошло, не знаю сколько времени, вдругъ — тарара! тарара! заговорилъ барабанъ — вставай! Непріятель! Все поднялось, схватилось за ружье; слышимъ въ просонкахъ — пили-пафъ, пили-пафъ! Перестрѣлка. Мы выбѣжали изъ избы, гдѣ спали; ночь темна, какъ вороново крыло; бросаемся на улицу, глядимъ сверкаетъ огонь изъ-за огородки, ужъ въ самой деревнѣ — и тамъ, и тутъ, и здѣсь! Какъ прошелъ; откуда взялся непріятель? У страха глаза велики, да, спасибо, русскій солдатъ, страха-то въ глаза не видывалъ, только первую дурь надобно было намъ стряхнуть. «Ребята! — закричалъ капитанъ: — не стрѣлять! Засвѣтите деревню — не трать пороху — штыками очищать, гдѣ засѣлъ непріятель — вздоръ! Это забѣглый народъ какой-нибудь!» Тотчасъ затеплилась деревня, будто свѣчка восковая; мы пошли на выстрѣлы; стрѣльба умолкала, утихала. При свѣтѣ пожара увидѣли мы, что въ разныя стороны бѣгутъ, тамъ Шведъ, тамъ другой… Скоро вся наша рота выступила изъ деревни — свѣтло было, хоть деньги считай… И въ самомъ дѣлѣ оказалось, что это десятка два Шведовъ сбились съ дороги; дѣваться имъ было некуда, и они рѣшились въ-расплохъ схватить насъ — такіе сорванцы! И успѣли бы, да не на тѣхъ напали. Казаки, бывшіе при ротѣ, пустились за бѣгущими. Но я ужъ не видалъ, какъ расплачивались товарищи съ забіяками, за нечаянную тревогу.
Когда бросились мы на выстрѣлы, вижу, съ полдесятка Шведовъ: за заборомъ, полуразрушеннымъ, стояли они и мѣтили вдоль улицы; огонь измѣнилъ имъ и отъ пожара протянулись длинныя тѣни ихъ по снѣгу. Туда, на заборъ, черезъ заборъ — бацъ! пули засвистали… чувствую, что-то тепло въ ногѣ, хоть и не больно — штыкомъ повалилъ я одного Шведа, но другой хватилъ меня прикладомъ по головѣ — я упалъ, и тутъ только увидѣлъ, что сапогъ у меня полонъ крови и снѣгъ весь покраснѣлъ подо мною; товарищи бѣжали по двору за бѣгущими. Я хотѣлъ подняться, не могъ, упалъ, а въ это время съ обѣихъ сторонъ жарко загорѣлись строенія; бревна падали; заборъ пылалъ. Я хотѣлъ кричать, но ничего не было слышно отъ треска огня, барабаннаго боя, пальбы — и наконецъ все затихло, ничего не стало слышно; огонь окружалъ меня со всѣхъ сторонъ, снѣгъ таялъ подо мною отъ жара, я ползъ на рукахъ, волоча ногу за собою, и скользилъ въ крови и снѣгу. Наконецъ перетащился я черезъ огарки и бросился на улицѣ въ груду снѣга, чтобъ затушить шинель свою. Думаю: «Вотъ тебѣ и подстрѣлили, да еще и изжарить хотятъ, собачьи дѣти!» Тутъ стало мнѣ холодно; я дрожалъ и наконецъ потерялъ память…
Когда я опомнился, то увидѣлъ, что ужъ день; что насъ трое лежатъ въ чухонскихъ саняхъ; Чухонецъ погоняетъ лошадь, а казакъ погоняетъ и его и лошадь. Весь я былъ какъ разбитый; санишки такія тѣсныя, длинныя, словно гробъ, и мнѣ привелось лежать въ самомъ низу, товарищъ мой сверху былъ такой тяжелый, что я не могъ пошевелиться; чувствовалъ, какъ пальцы у меня захватывало морозомъ, а прострѣленная нога горѣла, будто головешка. Кое-какъ вытащилъ я руку, ощупалъ верхняго товарища — онъ охолодѣлый, мертвый. Я началъ кричать казаку и Чухнѣ, чтобъ выкинуть этого тяжелаго товарища. Чухна оглянулся и не отвѣчалъ ничего, а казакъ кричалъ только: «Молчи! недалеко!»
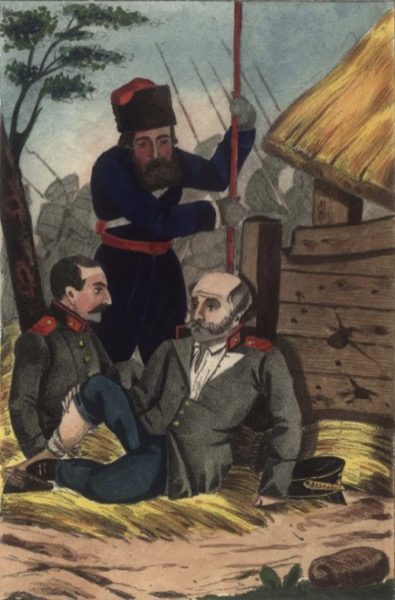
— Ну, Сидоръ! терпи, будь молодцомъ! Вѣдь ужъ что сдѣлалось, того не воротишь. Умереть все-равно. Читай-ка: Отче нашъ да Вѣрую.
Насъ привезли въ полкъ и сдали въ гошпиталь.
— Какъ, еще? — вскричалъ лѣкарь, когда меня втащили въ комнату и положили на кровать.
— Этакъ ихъ ночью-то перепятнали! — Сперва подошелъ онъ къ одному изъ привезенныхъ со мною, а потомъ ко мнѣ.
— Да у тебя обѣ ноги цѣлы?
— Въ лѣвой, кажись, пуля — смертно боли…
— Еще солдатъ не безчего, а хнычетъ!
— Больно, ваше благородіе!
Лѣкарь осмотрѣлъ мою ногу, поднялъ голову, кряхнулъ, оборотился къ помощнику. «Эй! инструментъ, бинтовъ!» закричалъ онъ.
— Ваше благородіе.
— Что ты?
— Аль хотите отрѣзать ?
— Разумѣется. Видишь, какъ ты надурилъ: вѣдь нога твоя никуда не годится!
— Помилуйте, ваше благородіе! Заставьте вѣчно Богу молить: вылѣчите такъ.
— Трусишь?
— Не трушу, но какой я безъ ноги царскій слуга? вылѣчите такъ!
— Садись! Что много калякать! — Онъ засучилъ рукава. «Эй! инструменты!»
Я рѣшился въ послѣдній разъ показать себя молодцомъ. Куда больно было: словно жилы тянули изъ меня; а какъ начала пила скрипѣть по кости, всякій волосокъ у меня становился дыбомъ на головѣ, будто плясать собирался.
Бухъ! нога отвалилась. — Прощай, поминай, какъ звали!
Нашъ полковникъ вошелъ въ это время.
— Еще операція! — вскричалъ онъ, сердито смотря на лѣкаря. — Слушайте: вы будете отвѣчать мнѣ за вашу охоту рѣзать руки и ноги безъ толку… Да что это? Ты, Сидоровъ?
— Я, ваше высокоблагородіе!
— Эхъ, жаль, братъ, жаль тебя, жаль молодца!
— Жаль, ваше высокоблагородіе, того, что не удалось умереть молодцомъ.
Полковникъ поцѣловалъ меня въ голову, отвернулся, вынулъ червонецъ и отдалъ мнѣ.
Какъ было не порадоваться, видя такую честь?
•••
Съ полгода провалялся я въ гошпиталѣ, и, вмѣсто двухъ ногъ, вышелъ изъ него съ полутора-ногой, да съ деревяшкой въ придачу.
На даровыхъ подводахъ привезли нашу братью, калѣкъ, въ Петербургъ. Мнѣ предложили мѣсто инвалидное въ Петербургѣ, но я просилъ отпуска на родину. И вотъ подписали мнѣ указъ объ отставкѣ.
Видите, ваше благородіе, пока лежалъ я въ гошпиталѣ, дѣлать-то было мнѣ нечего, я раздумывалъ все про старое, и все вспоминалъ, что со мной бывало съ самаго ребячества. Вспомнилъ я родину, мать, брата, Дуняшу; вспомнилъ, что ужъ лѣтъ дюжину и въ голову мнѣ не приходило — вся эта старая дрянь вдругъ полѣзла мнѣ въ помышленіе, и такъ захотѣлось мнѣ повидать родное пепелище, и показалось мнѣ, будто Дуняша моя жива, и обрадуется мнѣ, и мать жива, и братъ живъ. Штыкомъ работать нѣтъ способа, а за сохой ходить еще смогу, хоть на моихъ полутора ногахъ. Долгъ исполненъ; вѣрою и правдою отслужилъ Сидоръ Государю и отечеству; можно ему отдохнуть.
Милостивые командиры надавали мнѣ денегъ, такъ-что купилъ я себѣ лошаденку съ телѣгой и отправился домой.
Долго ѣхалъ я, ѣхалъ — видѣлъ и Москву. Наконецъ, однажды по́двечеръ, завидѣлъ вдали деревнишку родную, остановился, сталъ оглядываться. Какъ-будто я и не выѣзжалъ; какъ-будто лѣтъ пятнадцать, которыя прошатался я по бѣлу свѣту, только вчера совершились! Такъ же солнышко садилось за дальній лѣсокъ: такъ же ночь подымалась слѣва черною тучею, такъ же вечерняя птичка щебетала, словно прежде. Деревня наша была прежняя: тѣ же домы, та же грязь, тотъ же питейный домъ съ ёлками, и такъ же толпится подлѣ него народъ, какъ прежде. Мнѣ сильно захотѣлось повидаться со всѣми поскорѣе, поздороваться со знакомыми, спросить о своихъ, и я прямо привернулъ къ питейному.
— Здорово, ребята! — вскричалъ я.
«Здорово, служивый!» отвѣчали мнѣ. Я посмотрѣлъ на народъ — никого не узнаю: все новыя рожи! Я и забылъ, что прошло пятнадцать, двадцать лѣтъ. Кто былъ въ мое время старикъ, того ужъ не было на свѣтѣ; кто былъ молодецъ, тотъ посѣдѣлъ и состарѣлся; кто бѣгалъ мальчишкой, тотъ ужъ давно былъ женатъ и у него бѣгали мальчишки.
— Что ты смотришь, служивый? — спросили у меня.
— Да смотрю: нѣтъ ли изъ васъ знакомыхъ?
— Знакомыхъ? А ты откуда, изъ Корочи, чтоль?
— Нѣтъ, подальше.
— Аль изъ Курска?
— Нѣтъ, еще подальше.
— Куда-жъ ты плетешься?
— Домой.
— А гдѣ твой домъ?
— Да гдѣ найду добрыхъ людей, а родина моя здѣсь.
— Здѣсь? Какъ такъ? — Меня окружили.
— Тьфу пропасть! ни одного стараго знакомаго. Аль всѣ перемерли?
— Да, ты кто такой?
— Сидоръ, бывалъ, Карпушкинъ сынъ.
— Сидоръ! будто это ты? — вскричалъ какой-то сѣдой старикъ.
— Да, я. А ты кто?
— Эвося! не узналъ Ѳомки Облѣпихина!
— Будто это ты, Ѳомка, лихачъ, кулачникъ, забіяка?
— Будто это ты, Сидорка, разбойникъ, плясунъ, пѣсенникъ?
Мы глядѣли другъ на друга.
— Такъ ты воротился домой?
— Да, вотъ видишь — плясать ужъ не смогу; проплясалъ, братъ, ногу!
— Да ты старъ-старьемъ! этакіе усищи сѣдые, да и калѣка!…
Сѣли мы на лавочку.
— Ну что, жива мать?
— Нѣтъ, братъ, черезъ годъ послѣ тебя скончалась.
— А братъ Василій?
— Нѣтъ, братъ, прибралъ Богъ! — А дѣтишки его? Чай ужъ теперь мужичье стали!
— Да какія дѣтишки?
— Какъ: какія? Ихъ было у него косой десятокъ.
— Парней никого нѣтъ. Дѣвки замужъ выданы.
— Кто-жъ теперь въ нашемъ домѣ живетъ?
— Кто? Да на постоѣ лѣтомъ ласточка, а зимой вьюга гоститъ.
У меня долго не доставало силъ спросить о Дуняшѣ моей.
— Ну, а гдѣ-жъ моя Дуня?
— Какая Дуня?
— Да, жена моя, дуралей!
— Какъ ты все это помнишь, Сидоръ! Да вѣдь она умерла, кажется, еще при тебѣ? Что-то не пригадаю я хорошенько.
Пока мы разговаривали, всѣ другіе отошли отъ насъ и никому до меня дѣла не было.
— Пойдемъ ко мнѣ: у меня баба все тебѣ припомнитъ и разскажетъ. Имъ вѣдь, отъ нечего дѣлать, балясы точить. Много, братъ, времени прошло, куда много!
Мы отправились съ Ѳомой. Старуха его все припомнила и разсказала.
Я узналъ, что Дуняша моя едва могла воротиться домой и скончалась на рукахъ моей матери. «Умирая-то, все еще говорила она, будто тебя не въ очередь въ рекруты отдали, и все еще толковала, какъ она пойдетъ просить за тебя губернатора — да и отправилась съ этимъ въ дорогу немного подальше Курска».
Тутъ, словно напущенное обрушилось на нашу семью: вскорѣ умерла мать; Василій худѣлъ, бѣднялъ, заливалъ горе зе́ленымъ виномъ, наконецъ таскался по міру съ ребятишками, и умеръ подъ тыномъ у питейнаго дома; дѣвокъ побрали добрые люди по рукамъ и повыдали замужъ, а ребятишки, кто умеръ съ худобы, кто разбрелся, Богъ вѣсть куда, такъ-что и слуху нѣтъ; избушка, гдѣ мы жили, развалилась. Скоро сказка сказывается, а не скоро дѣло дѣлается; однакожъ, въ двадцать лѣтъ успѣетъ много его надѣлаться. Вся почти деревня перемѣнила хозяевъ, раза два горѣла, строилась, но опять была она попрежнему, и хозяева такіе же, какъ прежде, только не тѣ, что прежде были.
Напрасно старался я узнать: нѣтъ ли хоть кого-нибудь изъ племянниковъ въ живыхъ, и куда они дѣвались… У мужика память коротка: что за недѣлю сдѣлалось, онъ не помнитъ — а двадцать лѣтъ? Куда тебѣ! Коли хозяинъ дома умеръ подъ заборомъ — о домочадцахъ не спрашивай. «Аще не Господь созиждетъ домъ, всуе труждается зиждущій, и аще не Господь хранитъ градъ, всуе бдитъ стрегій».
— Варвара! говорилъ я женѣ Ѳомкиной; — не можешь ли ты указать мнѣ на кладбище могилы Дуняшиной?
— А! — отвѣчала Варвара: — какой ты затѣйникъ, Сидоръ: будто ты вчера ушелъ изъ нашей деревни, спрашиваешь о томъ, что̀ за 20-ть лѣтъ дѣлалось, будто это за недѣлю было! Ну, кто теперь изъ тѣхъ, кто твою Дуняшу помнитъ, остался въ деревнѣ? А кто и остался куда припомнить, гдѣ ее положили? На кладбищѣ, — говорить нечего объ этомъ; а чтобы найдти могилу, такъ разсуди ты самъ: сколько послѣ того похоронено народу, чай, раза три перерывали ее сплошь отъ одного конца до другаго…
Тутъ почувствовалъ я, что на концахъ усовъ моихъ что-то мокро, схватилъ рукой — слезы капали изъ глазъ моихъ и падали на мои сѣдые усы.
Хозяева поужинали и ложились спать. Я сказалъ имъ, что залягу въ своей телѣжонкѣ; но я не легъ спать, а пошелъ бродить по деревнѣ.
Ночь была свѣтлая, ясная; всѣ звѣздочки небесныя высыпали, какъ солдаты на генеральный смотръ. На землѣ было тихо, такъ, что листочекъ не шелохнеся, а на небѣ еще тише. Люди спали мертвымъ сномъ, и мнѣ казалось, что я пришелъ изъ могилы, съ того свѣта выходецъ, лѣтъ черезъ сотню: не нахожу ужъ ни родныхъ, ни привѣта. И все умерли въ моей родинѣ, умерли всѣ, кого зналъ я прежде; умерли дѣти ихъ, умерли внуки. Я бродилъ по опустѣлому домовищу, гдѣ когда-то я жилъ и другіе со мною.
Прибрелъ я, наконецъ, и къ домишку своему. Да, видно было, что онъ былъ теперь ужъ не мой, и не нашъ, а Божій. Пустырь съ полынью, крапивой, лопушникомъ; и на немъ избушка, кровля провалилась, оконъ нѣтъ, вся покривилась, держится на гнилыхъ бревнахъ, избоченясь, будто смѣется и плясать хочетъ.
Такъ грустно стало мнѣ!… Пойду лучше туда, гдѣ есть знакомые жильцы. «Здорово, родные! Шевелись, лѣнивый народъ! выходи на свиданье! вставай узнавай Сидора, Ѳедя! Дуня! мать! братъ!».

Но они не шевелились и молчали! До страшнаго Суда опредѣлено было имъ, единожды навсегда, молчать. Тутъ и горе, и радость, все тутъ, все присмирѣло и улеглось. Садись на могилу думай, и толкуй себѣ что хочешь.
Варвара правду мнѣ говорила, что кладбища я не узнаю. И мертвые, какъ живые, будто провели это время въ суетѣ мірской: все у нихъ было взрыто, перерыто, будто другъ у друга отнимали они домы; старые кресты сваливались, новые ставились.
На другой день отслужилъ я панихиду, подалъ по душѣ матери, брата, жены, сына, и сталъ думать, что мнѣ съ собой дѣлать?
Мнѣ только оставалось дожить. Калѣка безногій! не мнѣ ужъ было, одинокому сиротѣ, думать о томъ, какъ дожить!
Участокъ поля, который нѣкогда принадлежалъ намъ, былъ проданъ, давнымъ-давно, братомъ Васильемъ. Заводить тяжбу съ земляками — солдатское-ли дѣло? Да и къ-чему мнѣ участокъ?
По милости царской, хлѣбъ насущный у меня былъ, Подумалъ, подумалъ я…
Когда, на другой день, расходился я по деревнѣ, таково грустливо стало мнѣ…
Ну и то, ваше благородіе, какъ увидѣлъ я, что̀ за народъ мои земляки! Никто ничего не слушалъ, что̀ я имъ разсказывалъ; никто не слыхалъ ни о батюшкѣ Суворовѣ, ни о Бонапарте, ни о Финляндіи, ни о нѣмецкой землѣ… Пропадите вы, собачьи дѣти! — И я запрягъ свою лошадь и поѣхалъ къ тестю.
Его давно ужъ не было на бѣломъ свѣтѣ. Дуняшины сестры были такія старухи…
И бродилъ я потомъ по чужбинѣ, пока нашелъ пріютъ здѣсь, далеко отъ своей родины. А такимъ, изволите видѣть, образомъ нашелъ я его, что нечаянно встрѣтилъ полковаго нашего священника: а ему пріятель былъ священникъ ближняго села, и этотъ священникъ принялъ меня, видя, что я бѣгло разбираю церковныя книги. Началъ я звонить на колокольнѣ, читать Апостолъ въ церкви, пѣть на клиросѣ. За то изъѣлся на меня дьячокъ, хоть я не отнималъ у него ни кутьи, ни хлѣба. А будто въ церкви Божіей пѣть, да читать запрещено всякому, кто́ хочетъ? Священникъ радъ былъ мнѣ пособить, да ему не ссориться же за меня съ дьячкомъ! Тогда открылось мѣсто писаря въ Становой, спасибо, отецъ Алексѣй постарался: меня опредѣлили, и поселился я здѣсь, между добряками Малороссіянами. Право, хорошій народъ, ваше благородіе, и такъ вотъ усердно слушаютъ, когда что-нибудь имъ разсказываешь! Здѣсь теперь рѣдкій мальчишка не знаетъ о Суворовѣ — а это все я имъ поразсказалъ!
Иногда мнѣ кажется, будто нога у меня еще цѣла, будто я могу пошевелить ея пальцами, подымать, двигать ее. Такъ иногда мнѣ кажется, будто все, что бывало со мною на бѣломъ свѣтѣ, былъ сонъ, что я все еще попрежнему мужикъ, и со мною Дуняша, и Ѳедя, и мать… Иногда мнѣ кажется, будто все еще я солдатъ, съ батюшкою Суворовымъ въ цесарской землѣ, либо съ Петромъ Иванычемъ Багратіоновымъ въ прусской сторонѣ, либо съ генераломъ Кульневымъ въ этой снѣговой, чухонской сторонѣ, которую поглядѣлъ я, да расплатился за то ногой…
Вотъ и Петра Иваныча Багратіонова нѣтъ, и стараго генерала Розембергова нѣтъ — какіе были молодцы! и генерала Кульнева нѣтъ — царство имъ небесное, вѣчная память! Отцы были солдатскіе!…
А ужъ жаль, что эта окаянная деревяшка не дала мнѣ воли идти подъ матушку-Москву…
Однакожъ, поздно, ваше благородіе! Заговорилъ я васъ. Спокойной ночи желаемъ и здравія желаемъ. Отвелъ я съ вами душу — поговорилъ…
И онъ заковылялъ на своей деревяшкѣ; вдали раздавался голосъ его; онъ пѣлъ: «Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурею, къ тихому пристанищу притекъ, вопію ти…»
Голосъ умолкъ. Все затихло. Еще долго сидѣлъ я на томъ мѣстѣ, гдѣ слышалъ его разсказы — мнѣ было такъ грустно… Но, въ двадцать лѣтъ грусть не продолжительна — это легкій вѣтерокъ, который рябитъ прозрачное лоно водъ, и черезъ мгновеніе разлетается подъ небесами пѣсенкой птички…
☆☆☆
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.