Картины изъ быта русскихъ дѣтей
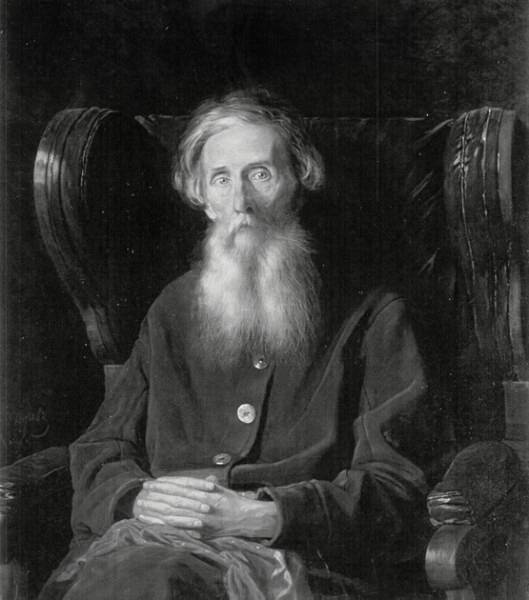
Содержаніе:
- ДѢТСКІЯ СУМЕРКИ
- БОГЪ ПУТИ ПРАВИТЪ
- КРЕЩЕНСКІЙ СОЧЕЛЬНИКЪ
- ЛИЧИНКА И МОТЫЛЕКЪ
- КРЕСТИНЫ
- ЗЕРНО НА ДОБРУЮ ПОЧВУ
- БУДНИЧНАЯ ЖИЗНЬ
- ДѢТСКАЯ СТРЯПНЯ
- ПЕРВЫЙ СБОРНЫЙ РАБОЧІЙ ДЕНЬ
- ВТОРОЙ СБОРНЫЙ РАБОЧІЙ ДЕНЬ. ДАННОЕ СЛОВО
- ТАЙНА
- ТРЕТІЙ РАБОЧІЙ ДЕНЬ. СКУЧНЫЙ ДЕНЬ
- ЧЕТВЕРТЫЙ РАБОЧІЙ ДЕНЬ. ДЕНЬ АНГЕЛА
- ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ
- ШЕСТИНЕДѢЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНІЕ
- ЕСТЬ КАРТИНКИ! КУКОЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ
- ВЧЕРАШНЯЯ ОБИДА
- УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНѢЕ
- СВЯТКИ
- МИЛОСТЫНЯ
ДѢТСКІЯ СУМЕРКИ
СУМЕРКИ ПЕРВЫЯ
Играя вечеромъ и прячась другъ отъ друга дѣти забѣжали въ свою любимую бѣлую комнату, и невольно оба остановились, оглядываясь по сторонамъ: такъ ново, странно и хорошо показалось имъ здѣсь, при яркомъ лунномъ освѣщеніи. Комната чудилась имъ выше и больше; казалось, что деревья, стоявшія по стѣнамъ, за день выросли и потемнѣли; на свѣтломъ паркетѣ, какъ въ зеркалѣ, отражались окна и балконная дверь, съ вьющимися по ней растеніями; отъ запотѣвшихъ стеколъ, по свѣтло-желтому просвѣту на полу, лежала мелкая рябь, и пробѣгала, отъ облачковъ ли на небѣ, или отъ колышущихся подъ инеемъ деревьевъ какая-то тѣнь. Глядя на все это, Саша задумалась. Она, какъ во снѣ, что-то припоминала; гдѣ то были такія же высокія, темныя деревья вокругъ, было такъ же тихо, такъ же свѣтло и будто даже глубоко по середкѣ, такъ же шевелилась рябь подъ ногами. Вода! — вскрикнула она, очнувшись, и давнишняя картина озера, въ мѣсячную лѣтнюю ночь, съ тѣнистыми берегами, съ мелкой рябью по свѣтлой водѣ, вдругъ живо явилась въ памяти ея. Саша вспомнила большую лодку, въ которой она сидѣла съ отцомъ и матерью, вспомнила весла, который будто черпали и пѣнили кругомъ воду.
«Ахъ, какъ хорошо», сказала дѣвочка, припоминая былое и приноравливая къ нему настоящее. «Миша, давай играть въ воду».
— Давай, — отвѣчалъ мальчикъ, не совсѣмъ понимая, какъ это играть въ воду.
— Притащимъ сюда маленькіе стульчики, — сказала Саша, — сдвинемъ ихъ, и это будетъ наша лодка; возьмемъ, вмѣсто веселъ, палочки, и будемъ грести!
— Будемъ, — весело закричалъ Миша.
Братъ и сестра бѣгомъ пустились за лодкой и веслами.
Няня, услыхавъ стукъ и бряканье стульями, вышла посмотрѣть, чѣмъ это дѣти вздумали шалить, но перепуганный дѣти, боясь, что няня пойдетъ за ними слѣдомъ и разстроитъ игру, присмирѣли, обѣщая играть тихонечко, не ссориться и не зашибиться. Поднявъ стульчики и чуть ступая, прокрались они въ бѣлую комнату, притворили за собою двери, сдвинули стулья подушками одинъ противъ другаго, сѣли, одинъ съ одной стороны, другая съ другой, и ну, покачиваясь, грести отцовскими тросточками, приговаривая: тшъ, тшъ. Но такая тихая забава скоро надоѣла живому Мишѣ, и онъ предложилъ сестрѣ изъ большой лодки сдѣлать двѣ маленькія. Стулья раздвинулись, и поѣхали дѣти изъ стороны въ сторону, шаркая ногами по-полу; съѣзжаясь, они раскланивались, спрашивали: не укачиваетъ ли кого, и опять лодочки расплывались въ разные углы. Саша, заѣхавъ въ темный уголъ подъ деревья, и любуясь оттуда мелкою, свѣтлою рябью посреди поля, сказала полушопотомъ:
— Миша, давай плавать въ водѣ, какъ рыбки!
— Давай! Это какъ? вотъ такъ просто? — спросилъ мальчикъ, растянувшись по полу и барахтаясь съ боку на бокъ.
— Ахъ, нѣтъ, лучше вотъ какъ, — говорила Саша, подпрыгивая и легонько опускаясь на четвереньки, и снова подымаясь, чтобы опуститься, приговаривая: — уфъ, уфъ! пф! пф! — И эта игра поправилась Мишѣ, онъ пыхтѣлъ и отдувалъ воду очень усердно.
— Миша, мы маленькія рыбки, а вонъ тамъ, гдѣ темно, тамъ живутъ большія рыбы, мы туда не станемъ плавать, онѣ насъ проглотятъ!
И дѣти плавали, держась свѣта; иногда Миша рѣшался подплывать къ деревьямъ, но Саша съ крикомъ вызывала его оттуда, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ подъ лаврами и фикусами жили настоящія акулы; тогда Миша, шлепаясь и пыхтя, съ замирающимъ сердцемъ, торопился выбраться изъ опаснаго мѣста.
— Отцы мои! да никакъ у насъ тутъ бугай завелся, — заговорила старая пріѣзжая няня, пріотворяя дверь и осматриваясь въ полутемной комнатѣ. Рыбки притихли, и, не шевелясь ни однимъ перышкомъ, лежали на днѣ; сердечки сильно бились, дѣтямъ такъ хотѣлось, чтобы няня, не замѣтивъ ихъ, ушла къ себѣ.
— Гдѣ вы тутъ? — говорила старуха, какъ будто не видя дѣтей, — давайте-ка и я съ вами поиграю, — сказала она, садясь на полъ.
— Няничка, душечка, мы играемъ въ рыбки, — закричалъ Миша, садясь на корточки, — а вонъ тамъ большія рыбы, — сказалъ онъ шепотомъ, указывая на темную сторону комнаты, — онѣ все за нами гоняются, а мы отъ нихъ уплываемъ!
— Нѣтъ, онѣ не гоняются, — сказала Саша, начиная плескаться и плавать: — онѣ насъ вонъ тамъ караулятъ, а мы здѣсь плаваемъ, — говорила она подпрыгивая, и взмахнувъ рученками, пыхтя и отдуваясь, опустилась передъ няней, а Миша опять забарахтался плашмя.
— Ахъ, дѣтушки, да какая у васъ игра-то занятная! — говорила податливая нянюшка, которая любила дѣтей и доказывала любовь свою не одними поцѣлуями, а неизмѣннымъ терпѣньемъ и готовностью дни и годы, безъ устали съ ними возиться. Всегда доброхотная и ласковая, она взяла маленькій стулъ, сѣла на него и протянувъ руку сказала: — Ну вотъ что: вы будете рыбки, а я рыбакъ, стану рыбу въ озерѣ ловить; вотъ, кто изъ васъ тронетъ меня за руку, того я поймаю, а пока не тронете моей удочки, хоть вокругъ колѣнъ вертитесь, не трону!
— А какъ обманешь, поймаешь? — спросилъ Миша, привыкшій плутовать въ игрѣ.
— Ну вотъ! сказала, что не трону, такъ ужъ ни за что не трону. Да и ты, смотри, чуръ не плутовать: какъ изловлю тебя, такъ смотри сиди смирно, назадъ не бѣгай! — сказала няня и вытянула руку, какъ будто закинула удочку въ воду. Дѣти сначала робко подкрадывались, но видя, что няня не шевелится, подплывали къ самымъ колѣнамъ, а потомъ, какъ будто боясь погони, спѣшно уплывали назадъ; но старуха сидѣла не трогаясь; протянутая рука ея сдѣлалась настоящей приманкой для дѣтей: они, не смѣя дотронуться, юлили и кружились, какъ кружатся и вьются пискарики у берега, передъ опущенной приманкой.
Няня молча слѣдила за дѣтьми; не первое поколѣніе рѣзвится съ нею, не первыя дѣти тормошатъ и цѣлуютъ старуху; тридцать лѣтъ тому такъ же копошились около нея дѣти и племянники госпожи ея; и тамъ была Саша, ея любимица, и крошка Миша, и еще много другихъ; но одинъ только уцѣлѣлъ, одного возрастила она на славу себѣ и на радость многимъ: отца этихъ дѣтей.
Вдругъ Миша завизжалъ, барахтаясь и вывертываясь изъ рукъ няни: старуха подстерегла его шаловливую рученку и зажала ее въ своей рукѣ.
— А ты, Мишенька, любишь кататься, люби и саночки возить! ужъ коли попался, такъ не вывертывайся, не фальши, сиди знай, будемъ сестрицу караулить, наслушивать рукой, какъ у насъ рыбаки говорятъ. — И стали они вдвоемъ наслушивать рыбку; скоро бѣленькій окунекъ забился у няни въ рукахъ, и съ поцѣлуями повисъ у нея на шеѣ. — Ну вотъ умница, Сашенька, не фальшишь, коли попала, такъ значить попала, — говорила няня, разглаживая широкою ладонью своей мягкіе волоски дѣвочки. — Ну, что же теперь дѣлать, опять ли васъ въ воду пустить? аль сказочку сказать какую, или пѣсенку споемъ? — говорила няня, усаживая дѣтей къ себѣ на колѣни.
— Няничка, милая, лучше пѣсенку про курочку хохлушечку, — просили дѣти. Старуха запѣла, а дѣти, сбиваясь, вторили ей.
Проходя мимо, Михаилъ Павловичъ узналъ знакомую пѣсенку, которую пѣвалъ ребенкомъ; постоявъ немного, онъ вошелъ къ дѣтямъ и позвалъ ихъ съ няней прокатиться; вечеръ былъ чудесный, дѣти скоро собрались и усѣлись съ отцомъ и съ няней въ четверомѣстныя сани.
СУМЕРКИ ВТОРЫЯ
Такъ же ярко свѣтилъ мѣсяцъ, какъ въ бѣлой комнатѣ у Саши съ Мишей, такъ и въ низенькой душной дѣтской, гдѣ лежитъ ихъ маленькая, больная внучатная сестрица. Лучи свѣта падаютъ прямо на рѣзную орѣховую качалочку; малютка спитъ, закинувъ голову, слезы еще свѣтятся на рѣсницахъ, и отъ нихъ лоснятся блѣдныя щечки ребенка. Притаивъ дыханіе, стоитъ надъ нею девятилѣтняя сестра, разодѣтая въ кружева и банты: это та самая Лиза, къ которой Саша писала первое письмо своего сочиненья. Любовь и жалость выказываются въ лицѣ и въ движеньяхъ дѣвочки; она, легонько покачивая колыбель, глазъ не сводитъ съ исхудалаго лица малютки, ей хочется вытереть слезки Лили, и поцѣловать крошечную ручонку, но она боится разбудить ее.
— Барышня, а барышня, Лизавета Петровна, пожалуйте внизъ, маменька салопъ надѣваютъ, станутъ гнѣваться, пожалуйте скорѣе, — говорила полушепотомъ горничная, внося Лизину шубку. Дѣвочка зашикала и замахала на нее руками, указывая на уснувшую малютку.
— Душечка моя, Поля, говорила она, спѣша одѣваться: ты посиди здѣсь у Лилиньки, покачай ее, няня очень устала, она уснула, ты не буди ее!
— Хорошо, хорошо, барышня, а вы идите скорѣе, а не то васъ забранятъ.
Лиза мигомъ сбѣжала съ тѣсной, крутой лѣстницы, пробѣжала цѣлый рядъ парадныхъ комнатъ, для которыхъ даже нѣтъ имени на нашемъ языкѣ, и нагнала мать и сестру въ передней. Лизѣ очень не хотѣлось бросить сестрицу и ѣхать въ гости, но она не посмѣла отпрашиваться.
«Ахъ, Лиличка, думаетъ она, сидя въ каретѣ, если бы моя воля была, ни за что бы не поѣхала я въ эти противные гости, особенно къ Ниночкѣ».
СУМЕРКИ ТРЕТЬИ
Ждетъ ли Ниночка своихъ маленькихъ гостей, прислушивается ли она къ проѣзжающимъ экипажамъ, или собираетъ для нихъ игрушки, книжки съ картинками?
Нѣтъ, Ниночка сидитъ со своей гувернанткой въ классной комнатѣ; керосиновая лампа давно зажжена. Мудрая воспитательница дала Ниночкѣ для ея упражненья въ щегольскихъ оборотахъ, первую часть одного изъ самыхъ уродливыхъ французскихъ романовъ, сама же съ замирающимъ любопытствомъ впилась въ третій томъ.
Обѣ наслаждаются по-своему: одна сочувствуетъ нравственному уродству человѣка, которое обычно называютъ увлеченьемъ страстей; другая пока радуется на внѣшній блескъ, на описанье нарядовъ, на красоту героинь, на ихъ ловкія, облыжныя рѣчи; изъ романовъ этихъ, какъ вихремъ, наносятся сѣмена сорныхъ травъ на дурно воздѣланную почву: волчецъ, крапива и полынь сѣятся, растутъ и глушатъ въ дѣвочкѣ тотъ добрый злакъ, что далъ Господь на потребу каждаго человѣка. Ниночка мысленно прикидываетъ къ себѣ изящные наряды, величавые или кроткіе взгляды своихъ героинь, затверживаетъ ихъ гордые отвѣты, усвоиваетъ себѣ пока то, что можно усвоить. Репей растетъ и крѣпнетъ, онъ скоро зацвѣтетъ, и дастъ свой колючій плодъ.
— Барышня, Нина Марковна! пожалуйте въ гостиную, гости пріѣхали! — сказала вбѣгая горничная.
— Ну вотъ еще! — закричала Ниночка, бросая книгу. — Кто это притащился? — спросила она.
— Зинаида Петровна съ сестрицей.
— Очень нужно! — сказала дѣвочка, вставая и громко откидывая стулъ.
Наставница въ это время такъ занята была чтеньемъ, что не слыхала ни разговора своей воспитанницы, ни шумнаго ея ухода.
СУМЕРКИ ЧЕТВЕРТЫЯ
— Мамочка, хочешь, будемъ играть, — говорила маленькая Мери, прижимаясь къ колѣнямъ матери, которая въ сумерки отдыхала отъ дѣятельнаго заботливаго дня своего, въ покойныхъ креслахъ.
— Давай, моя дѣвочка, будемъ играть, особенно если придумаешь веселую игру.
— Ахъ, да, очень веселую, — сказала дѣвочка, перебирая наскоро въ умѣ всѣ игры, какія могла припомнить…
— Мама, хочешь я тебя буду подчивать чаемъ?
— Хорошо, Мери, только осторожно, не обварись, — сказала мать, принимая видъ будто рѣчь идетъ о настоящемъ чаѣ, тогда какъ у Мери самоварчикъ былъ деревянный. Мери эта была та самая маленькая дѣвочка, которая, на кукольномъ вечерѣ, такъ горячо вступалась за Лину. Малютка притащила посудки, сказавъ мимоходомъ матери, что самоваръ закипаетъ, и побѣжала за нимъ; внося его въ комнату, Мери закричала, что обожглась. Мать вздрогнула, но вспомня объ игрѣ въ чай, успокоилась, замѣтя однако дочери, что играя обжогомъ или ушибомъ, надо оговариваться словомъ шутя, иначе можно встревожить кого нибудь.
Понявъ въ чемъ дѣло, Мери сказала: «Мама, шутя я не больно обожглась! Тш-ш-ш», проговорила она, наливая изъ чайника въ крошечную чашечку; но, должно быть, чашка эта была очень убориста, потому что чай въ нее долго лился; наконецъ, наполнивъ ее, она бережно, едва переступая, понесла ее къ матери.
Мамѣ чай показался настоящимъ кипяткомъ; она долго переливала его изъ чашки въ блюдечко и опять изъ блюдечка въ чашку, и наконецъ, выпивъ, похвалила его.
— Прикажешь еще? — спросила Мери, прыгая передъ нею.
— Да, пожалуйста, я очень озябла. — Разъ пять чай наливался и почти тѣмъ же порядкомъ выливался; наконецъ мать сказала, что и сыта, и согрѣлась; дѣвочка весело запрыгала, поцѣловала мать и побѣжала сама пить.
Наигравшись вдоволь, она стала убирать игрушки: это условіе давно было заключено съ нею; мать ея, хотя и любила, чтобы дѣти играли около нее, но требовала отъ нихъ и въ этомъ дѣлѣ порядка.
— Мама, мама! — кричала Мери, вбѣгая, опять, — я вотъ что придумала: поѣдемъ съ тобой, шутя, — прибавила дѣвочка, — за попугаями, знаешь, за тѣми крошечными, зелененькими? Знаешь, что мы видѣли въ зоологическомъ саду, поясняла дѣвочка.
— За неразлучками. Этихъ крошекъ зовутъ неразлучками, — потому что онѣ всегда живутъ дружками, и если съ однимъ случится бѣда, другой со скуки заболѣваетъ и помираетъ.
— Мамочка, мы также будемъ сажать ихъ по двое, чтобы они не скучали; вѣдь мы ихъ много привеземъ!
Началась постройка повозки: Мери принесла креслице-качалку, поставила его передъ матерью и привязала сахарными бичевками, какъ постромками, къ креслу матери, затѣмъ она сѣла на него и стала раскачиваться. «Мы такъ долго, долго поѣдемъ», говорила Мери, слегка поворачиваясь къ матери; но живая природа ребенка не выдержала тихой игры: «Мамочка, по дорогѣ много цвѣтовъ, нарвать тебѣ ихъ», спрашивала она, соскакивая на полъ, и наклоняясь къ пестрому ковру, будто рвала и теребила съ него цвѣты.
«Мама, какъ они хорошо пахнутъ, и какъ ихъ много», говорила она, складывая на груди ручонки, какъ будто она набрала цѣлое беремя цвѣтовъ, но заслышавъ въ сосѣдней комнатѣ походку отца, Мери стремглавъ пустилась къ нему. Мать, запутанная веревками, не могла выбраться изъ креселъ и слышала только радостные возгласы дочери: «Настоящіе цвѣты! ахъ, какъ пахнутъ! папочка, гдѣ ты ихъ взялъ? Дай, и я также понесу».
— А гдѣ мать? — спросилъ отецъ.
— Она, папочка, въ коляскѣ, мы ѣдемъ въ Африку!
— Ну и я съ вами въ Африку, — говорилъ Сергѣй Романовичъ, ставя передъ женою цвѣты и придвигая себѣ кресло. Мери, какъ маленькій паучекъ, мигомъ припутала отцево кресло къ своей повозкѣ, и поѣхали они втроемъ въ Африку, за попугаями. Раскачиваясь, Мери слышала, что отецъ съ матерью поминалъ о больной Лили, и потомъ, что Сережа и Алеша отпросились навѣстить своего нѣмецкаго учителя и что, пріѣхавъ домой, отецъ отправилъ за ними лошадь.
«Ахъ, кабы братья были здѣсь! мы бы вмѣстѣ поѣхали за попугаями въ Африку, это такъ весело», подумала маленькая Мери, продолжая качаться на своей качалкѣ.
СУМЕРКИ ПЯТЫЯ
Изъ знакомаго намъ подвальнаго жилья башмачника выбѣжали двое ребятишекъ; первымъ дѣломъ ихъ было схватиться — боролись, боролись они, и оба чебурахнулись въ сугробъ; весело мальчикамъ, снѣгъ такъ и рѣжетъ, такъ и палитъ руки и лицо, а они то вскочатъ, то опять повалятся!
— Ладно, пусти, Ванюшка! — кричитъ смятый имъ мальчикъ, пусти, говорятъ тебѣ, пора запрягаться.
— Поспѣешь, — отвѣчаетъ меньшой братъ, довольный тѣмъ, что ему удалось, чуть ли не впервые, уронить и смять старшаго.
Но Васютка справился, отмахнувъ брата, всталъ и побѣжалъ къ салазкамъ; оба принялись запрягаться.
— Мишутка, а Мишутка! подь сюда, мы тебя прокатимъ, — закричалъ одинъ изъ нихъ входившему во дворъ мальчику-сироткѣ, которымъ завладѣла пьяная нищая, назвавъ его внукомъ своимъ.
— Сядь, лихо прокатимъ, — кричали ребятишки, подскакивая къ нему съ санками. Одичалый мальчикъ схоронился за старуху, которая, пошатнувшись сильно, стала грозить клюкой и что-то бормотать, но несвязнаго бормотанья ея никто, даже самъ бѣдный Мишутка, не понялъ; да онъ и не заботился понимать: бѣднягу пронималъ только голодъ да холодъ, да бабушкинъ костыль.
— Вишь! дикой какой, юркнулъ въ дверь, словно мышь, — говорили другъ другу ребятишки, взвились, заржали и поскакали вдоль двора. Мѣсяцъ вышелъ изъ-за сосѣдней крыши, сталъ и свѣтилъ имъ прямо въ лицо; мальчики скачутъ, выкидывая ногами, а тѣнь ихъ стелется темными полосами позади салазокъ; они повернули къ воротамъ, и тѣнь обогнала ихъ и побѣжала впередъ. Стоитъ маленькая Лиза въ дверяхъ и дивится на темную синеватую тѣнь, которая бѣжитъ то впереди братьевъ, то позади ихъ. Вотъ поскакали мальчики по сугробамъ, двѣ тѣни мелькнули передъ ними и побѣжали по одну сторону, рядомъ съ Ванюшкой.
— Лиза, Лиза, что долго не шла! садись что-ли! — закричалъ Вася на сестру, которая, уставясь, смотрѣла на обѣ полосы тѣни позади салазокъ: Лиза искала глазами шапки у тѣни, и не узнавала ея, потому что шеи братьевъ рѣзко виднѣлись на снѣгу въ подворотнѣ, а шапки не ясно мелькали на темныхъ воротахъ. Мальчики схватили сестру и кочкой посадили на салазки — дѣвочка не успѣла опомниться, какъ уже неслась во весь духъ по двору; летитъ она и взадъ и впередъ, даже духъ замираетъ, а морозъ такъ и щиплетъ красненькую рожицу.
— Лизенокъ, держись крѣпче, мы тебя на гору взвеземъ, оттуда всю Москву увидишь! — со смѣхомъ проговорили ребята, воображая, какъ дѣвчоночка и въ самомъ дѣлѣ станетъ пялиться, чтобы съ сугроба увидать Москву, но не договорили они еще послѣднихъ словъ, какъ Лиза уже летѣла кубаремъ съ горы. Вскакавъ на гору, мальчики громко заржали и поматывая головами поскакали къ воротамъ.
— Что вы пустыя салазки катаете, сказалъ имъ отецъ, входя въ калитку, что бы вамъ сестру-то посадить!
— Мы и то съ Лизой — Изъ-за сугроба послышалось хныканье, братья переглянулись, посмотрѣли на салазки, и оба бросились туда, гдѣ слышался дѣтскій голосъ.
— Ребята, — закричалъ отецъ, — я иду за матерью, а вы скажите Лизенку, что мы поѣдемъ кататься на живой лошади! — Мальчики въ голосъ взвизгнули отъ радости и понеслись къ сестрѣ.
— И Москву-то не показали! — жалобно всхлипывала малютка.
У самой калитки ждутъ пустыя деревенскія сани, съ красными оглоблями; маленькая саврасая лошадка стоитъ какъ вкопаная; вся семья башмачника усаживается и размѣщается въ саняхъ: Вася сядетъ съ извощикомъ, на облучекъ, а Ванюшка станетъ передъ отцомъ и матерью, въ саняхъ.
— Ну, а кочешокъ-то куда? — спросилъ старикъ-извощикъ, подхватывая Лизу, и осматривая одежду ея; — пра настоящій кочанъ! Этихъ поддевокъ-то на ней, да платковъ однихъ что! словно листья окрутили вилокъ! Куда же взаправду ее, — говорилъ старикъ, — соломки позадь санокъ постлать? Понявъ шутку, мальчики захохотали, Лиза забарахталась: «къ тятѣ хочу», тревожно закричала она.
— Ну къ тятѣ, такъ къ тятѣ, — сказалъ старикъ, перекидывая ее на колѣни къ башмачнику.
— Эй вы ну! — весело вскрикнули мальчики на лошадь. — Ну, савраска, ну родимая! — сказалъ извощикъ трогая возжами; савраска замотала головой и пустилась рысцой. «Въ городъ», сказалъ башмачникъ, какъ зовутъ въ Москвѣ гостиный дворъ.
Долго-ли, коротко-ли бѣжала савраска, и провезла башмачникову семью мимо города. Затѣмъ въѣхали они, глядя на сѣрыя узорчатый башни, въ Кремль, и стали неподалеку Ивана Великаго, подлѣ воротъ, гдѣ стояли четверомѣстныя сани, въ коихъ сидѣла цѣлая семья: двое взрослыхъ, да двое дѣтей.
— Батюшка ты мой, Михаилъ Павловичъ, святыня-то, святыня-то какая, — крестясь, говорила старуха въ саняхъ, указывая на рѣшетчатыя окна, гдѣ теплились неугасаемыя лампады и тускло освѣщали позолоту образовъ и внутреннія украшенія соборовъ. Вдругъ надъ ними, въ сторонѣ, раздался громкій пѣвучій звукъ: прозвенѣлъ и замеръ въ воздухѣ.
— Восемь часовъ, восемь пробило, — проговорило нѣсколько голосовъ; видно было, что многіе изъ бывшихъ тутъ сочли бой.
— Батюшка ты мой, Михаилъ Павловичъ, неужто это и впрямь часы били? зычно да звонко таково, словно лебеди на озерѣ перекликаются? — спросила недоумѣвающая няня.
— А ты не знаешь видно поговорки: у Спаса часы говорятъ? Это спасовскіе часы пробили, — отозвался Михаилъ Павловичъ, — это красный звонъ, то есть подобранные подъ музыку колокола.
— Ну ужъ Москва! — сказала удивленная старуха, покачивая головой. — Чего-то, чего въ ней нѣтъ! — Она стала оглядываться кругомъ на освѣщенные мѣсяцемъ бѣлые соборы и золотыя ихъ маковицы. — Не даромъ, — прошептала она, — зовутъ Москву нашу бѣлокаменною, златоверхою.
Четверомѣстныя сани легонько повернули назадъ и проѣхали бокъ-о-бокъ мимо саней съ красными оглоблями; ребятишки всполошились; и Лиза также узнала, подъ боярской шапочкой, румяное, веселое личико Саши.
— Маленькіе бары! барышня! это бары, что намъ гостинцевъ пожаловали! маленькая барышня! — кричала Лиза, прыгая у отца на колѣняхъ и протягивая ручонки за уѣзжающими санями.
— Дѣдушка, миленькой, нагони господскія сани, — просили ребятишки, прыгавшіе отъ нетерпѣнія.
— Да, поди-ка, нагони ихъ, — отозвался извощикъ. — Кони-то у нихъ заводскіе, не совраскѣ чета, да еще же ихъ пара!
Гнѣдыя лошади играючи везли санки; откинувъ головку, радостно дышала Саша морознымъ свѣжимъ воздухомъ и щурила по-временамъ глаза, когда пристяжная закидывала ее ископытью, снѣгомъ изъ-подъ копытъ.
— Саша, Миша, здравствуйте! — послышались голоса изъ промелькнувшихъ саней. — Дядя, здравствуй! — закричалъ Сережа, оборачиваясь къ четверомѣстнымъ санямъ. Это Сережа съ Алешей, братья Мери, навѣстившіе больнаго учителя, возвращались домой; застанутъ ли они отца и мать дома, или Мери, шутя, увезла ихъ въ Африку?
БОГЪ ПУТИ ПРАВИТЪ
Раннимъ утромъ стоить Аннушка въ раздумьѣ передъ замерзшими стеклами; видитъ она или не видитъ чудные узоры, что вылѣпилъ морозь на окнахъ — и перья, и папоротниковые листья, и хвощи елками торчать, и разный звѣзды блестятъ; а на тѣхъ стеклахъ, что повыше, другой узоръ: точно мелкая надломанная луговая трава стоить, а надъ нею насѣяны частыя звѣздочки, одна надъ одной, другъ около дружки. Взглянула Аннушка вверхъ, да сквозь заиндевѣлыя оконницы и неба не видать; опустила она опять глаза на расписныя стекла, задумчиво глядитъ, ничего не видя, зато уши чутко слышать какъ мать вздыхаетъ, молитву творитъ, мѣдныя деньги считаетъ, и на лавочника да на стужу ворчитъ. Бряканье трешниковъ и семиковъ звонко отдается, не въ однихъ ушахъ, а и въ чуткомъ сердцѣ. Знаетъ дѣвушка, что деньги всѣ у нихъ на перечетѣ, а нуждъ не оберешься!
— Вотъ тебѣ и все тутъ, — проговорила мать вслухъ: — рубль тридцать семь копѣекъ! Тутъ и за квартиру, и лавочнику, и на дрова!…
При послѣднихъ словахъ, Аннушка тихонько подошла и заглянула въ печь: около десятка полѣнъ было аккуратно уложено, лучинка на растопку заготовлена, но незапалена. Дѣвушка припала къ печи, и тихонько вытащила три полѣшка и легонько уложила ихъ на лѣвую руку. Старуха окликнула: — «Никакъ, ты опять дрова изъ печи тащишь». Дѣвушка молча постояла, не выпуская полѣньевъ изъ рукъ, потомъ нѣсколько робко проговорила: «Матушка, я вчера забѣгала къ Матвѣевнѣ, у нея такая стужа стоитъ, что вода замерзла, печка третій день не топлена, а сама пошевелиться не можетъ, такой ломъ во всей.
— Ладно, дочка, у насъ у самихъ руки и ноги окоченѣли, завтра и намъ топить-то нечѣмъ будетъ.
Забота о работѣ и хлѣбѣ, что до свѣту разбудила швею Аннушку, подступила ей теперь къ самому горлу и хлынула изъ глазъ ручьями.
Выждавъ голосу, Аннушка, едва крѣпясь сказала: — «А что, матушка, кабы я на Сашиномъ мѣстѣ, а она на моемъ была, вѣдь она бы чай тебя то же не покинула, хворую да голодную»… И грустное воспоминанье объ утраченной подругѣ перенесло ее въ дѣтскіе годы, напомнило ихъ игры, ученье, вечера у просвирни, Сашиной крестной матери, какъ бывало сиживали онѣ и чуть не по складамъ читали изъ большой, старинной книги; и хочется ей припомнить какими словами тамъ было сказано: идите ко мнѣ всѣ, коихъ горе одолѣваетъ, всѣ больные и нуждающіеся, всѣ, всѣ. Я васъ упокою! Смыслъ-то она помнитъ, да слова не складываются по книжному. Между тѣмъ, изъ словъ ея, сказанныхъ матери объ умершей подругѣ, у старухи растетъ страшная мысль, растетъ, складывается чудовищемъ, и охватываетъ ее съ головы до ногъ морозомъ: «что, если и моя дочка помретъ, какъ умерла Саша? И словъ нѣтъ, какъ тяжко объ этомъ думать; Господи Батюшка, истинный Христосъ, Мать Пресвятая Богородица, не попустите такой бѣды на мою грѣшную голову». Вдругъ радостный голосъ дочери вызвалъ ее изъ-подъ гнетущей мысли: Матушка, а вѣдь намъ хозяйкѣ за квартиру не платить; пальто, что я ей намедни сшила, она намъ за два мѣсяца поверстала!
— Ой-ли! Ахъ ты, доченька моя, да какъ же мы это съ тобой забыли! Вотъ и подлинно: мы къ Господу съ печалью, а Онъ къ намъ съ милостью…
— И ужъ какъ же не съ милостью, — проговорила запыхавшаяся Анфиса Яковлевна, притворяя за собою дверь и крестясь на образа. — Здравствуемъ на радостяхъ, сватьюшка, говорила она, чинно кланяясь. Аннушка, что стоишь, обнявшись съ полѣномъ? Вѣдь стариковская примѣта: полѣно изъ печи къ гостю, а у тебя три на рукахъ, знать троихъ принимать, — говорила она, трепля ее по плечу.
— Что съ ней дѣлать, — сказала мать, — вотъ эдакъ все Матвѣевнѣ тащитъ, куска сама не доѣдаетъ; а погляди-ка въ печь, чай у самихъ съ пятокъ осталось!
Кума заглянула:
— Семь, сватьюшка, семь святое благодатное число, Господь на седьмой день почилъ, видно и васъ, отъ трудовъ и горя, успокоить время пришло; онъ не гуляетъ, добро перемѣряетъ!
— Иди, умница, — говорила кума, гладя и цѣлуя Аннушку въ голову; — иди, куда шла, да захвати Матвѣевнѣ пирожка! — Анфиса отломила треть принесеннаго ею пирога, и подавая его дѣвушкѣ, какъ то особенно нѣжно и весело смотрѣла на нее. — Скажи ей, что ужо забѣгу про Божьи милости поразсказать.
Аннушка понесла свои три полѣшка, да уголъ пирога; медленно спускалась она по лѣстницѣ. Ее брало раздумье чему радовалась Анфиса Яковлевна, какими милостями ее Господь нашелъ? Спустись въ подвальное жилье, дѣвушка тихонько отворила дверь; струя густаго, гнилаго воздуха обдала ее. Переступя порогъ, она споткнулась на небольшую кучку дровъ.
— Здравствуй тетя, что у тебя дрова у порога сложены, чуть было не упала!
— Здорово, Аннушка, какіе тамъ дрова, третій день печь не топлена, — послышался слабый голосъ.
— Ну, знать, тебѣ ихъ тихой милостыней подали!
— Согрѣй, Господи, душеньки ихъ, повѣй на нихъ тепломъ своимъ! — проговорила старуха, едва подымая руку для крестнаго знаменья. Вскорѣ полутемная конурка освѣтилась краснымъ свѣтомъ, дрова затрещали, точно все ожило кругомъ. — Влѣзь ко мнѣ сюда, дай поглядѣть на себя, красное солнышко! Что это, Аннушка, — говорила Матвѣевна, всматриваясь въ дѣвушку, — будто у тебя глазаньки заплаканы, а душенька то словно дѣтской усмѣшкой усмѣхнуться хочетъ, — прибавила старуха, всматриваясь въ нѣжное дѣтское личико.
— Не знаю, тетя, у меня сегодня съ утра все что-то дѣтское на умѣ, все игры разныя, да какъ мы у старой просвирни гащивали, какъ по вечерамъ съ Сашей одну святую книгу читывали; все мнѣ хочется припомнить, какими словами написано было тамъ!
И опять обняло ее то же не ясное утѣшное чувство; дѣвушка поникла головой, какъ никнетъ дитя на грудь матери. Помолчавъ немного, она промолвила:
— Что, кабы мнѣ досталась такая книга! — но тотчасъ же примолвила: — да гдѣ, просвирня говаривала, что этихъ книгъ годовъ двадцать и въ продажѣ нѣтъ.
Не дошли еще до швеи вѣсти, что одна благодатная душа послышала истому народа, открыла сокровищницу Господню; и полился источникъ воды живой по землѣ сухой, жаждущей, неплодной! Аннушка не знала, что рѣдкая книга, по которой она скучала, было Евангеліе, и что книга эта, дотолѣ по цѣнѣ своей недоступная народу, нынѣ уже напечатана вновь, и продается за нѣсколько копѣекъ.
— Что же это я сложа руки сижу, вѣдь у насъ своя печь незатоплена, — всполохнулась дѣвушка, — да и пирожокъ то Яковлевнинъ не отдала! Кушай, тетя, на здоровье, ужо забѣгу быть можетъ, горяченькой малинки напиться занесу!
— Спасибо, золотая, — говорила старуха, жадно втягивая въ себя питательный запахъ пирога: — сласти-то какія, говядинка съ лучкомъ и съ перчикомъ! богатымъ-то, какъ подумаешь, такъ и умирать не надо!
•••
— Что ты, матка, словно окоченѣла, слова не молвишь? А богатей-то, богатей какой, по всему Заволожью знаютъ! всего однимъ одинъ сынъ, валенымъ да щепеннымъ товаромъ торгуютъ, — разсыпалась Анфиса Яковлевна. Помолчавъ немного, она прибавила: — Ужъ подлинно, коли Богъ захочетъ дать, такъ въ окошко подаетъ! Видно слово-то мое не спроста сказалось, какъ намедни окно у Ивана Васильича треснуло, говорила кума, подталкивая старуху въ бокъ, вѣдь и въ заправду, какъ Аннушка то плясала, то и суженый-ряженый на улицѣ стоялъ, да невѣсту высматривалъ! А суженый-то какой, словно дитя малое, безъ утайки передъ Богомъ и людьми, препростая душа; а за правду, да за бѣднаго, какъ медвѣдь на рогатину полѣзетъ. Ну старикъ-то съ оглядкой живетъ, себѣ на умѣ; а все же хорошій, не пьющій человѣкъ. Мнѣ, говорить онъ, ихъ синя порохъ не надо, самъ все приданое справлю, не хуже гильдейской одѣну! Коли она не набалована, говорить, да почтительна, да въ страхѣ Божьемъ вырощена, такъ ты, Анфиса, хоть изъ воды добудь, да подай мнѣ ее!
Кума вдругъ вскочила и прислушалась. — «Никакъ Аннушка ворочается, смотри же сватья, безпремѣнно нынче у поздней, въ приходской будьте». Анфиса Яковлевна спѣшно поцѣловала со щеки на щеку ошеломленную хозяйку, и вышедъ, притворила за собою дверь. Старушка подошла къ двери, медленно наложила крюкъ, постояла немного, подняла голову и тихонько перекрестилась. — «Батюшки свѣты, — вдругъ прошептала она, — да что же это я дѣлаю, словно не въ своемъ умѣ, на что дверь-то запираю». И она тихонько побрела по стѣнкѣ, опустилась на первый стулъ, хотѣла обдумать, сообразить нежданное, негаданное счастье, но способность связывать мысли на время измѣнила ей. За что въ умѣ не возьмется, все обрывается, каждая мысль сказывается отдѣльнымъ словомъ, да на немъ на одномъ и поканчивается; опустила она, какъ оглушонная, голову и руки, и сидѣла такъ долго, пока не ударили въ колоколъ.
Обѣдня подходить къ половинѣ. «Что это, ужъ не рѣхнулась ли у меня старуха», думаетъ Анфиса Яковлевна, ворочаясь изъ стороны въ сторону.
Неподалеку отъ нея стоить чинный, плотный мужичекъ, лѣтъ пятидесяти, въ смушатой сибиркѣ, крытой тонкимъ сукномъ; осторожнымъ пытливымъ взглядомъ поглядываетъ онъ, нѣсколько исподлобья, по сторонамъ; изъ-подъ курчавой, сѣдой бороды виднѣется алая лента съ золотой медалью. Нѣсколько впереди, передъ мѣстнымъ образомъ, усердно и размашисто молится сынъ его какъ двѣ капли воды похожій на отца, съ тѣми же правильными чертами, только взглядъ карихъ глазъ мягче и открытѣе. Отецъ поглядѣлъ на сына, на четвертаковую свѣчку, и подумалъ: — усердствуетъ.
Въ это время вдругъ, между ними и иконой стала дѣвушка, прямая какъ сосенка, въ поношенномъ пальто и въ алой, вязаной шерстяной косыночкѣ съ бѣлыми полосками; стала, и набожно поклонилась въ землю, потомъ затеплила около толстой свѣчи свою тоненькую семишную, опять помолилась, и обратясь лицомъ къ прихожанамъ, скромно и тихо поклонилась на всѣ стороны. Старикъ, молча, съ видимымъ удовольствіемъ, отдалъ обычный поклонъ; его уже давно кума подтолкнула, а сынъ, встрѣтивъ тихій, добрый взглядъ синихъ глазъ, узналъ Аннушку. Желанная! сказалось у него въ душѣ, и тепло отъ сердца хлынуло въ голову. Онъ еще прилежнѣе сталъ слѣдить за службой, которую всю зналъ наизусть; вдругъ замѣтилъ жиденькую свѣчечку около своей: сердце сказало, чья рука ее поставила. — «Господи, Господи, говорилъ онъ, молясь, — вотъ онѣ двѣ лепты-то Твои! не изъ гордыни и я поставилъ, изъ усердія своего». Не спускаетъ старикъ долгаго, пытливаго взгляда съ Аннушки, а она стоить, не шелохнется, головы въ сторону не поведетъ, рта рукой не прикроетъ, чтобы скрыть грѣшный зѣвокъ, только молитвы про себя шепчетъ, да поклоны творить.
— Какъ есть, душа-дѣвушка! — закончилъ мысленно Карпъ Тимофѣевичъ, и положилъ три увѣсистыхъ земныхъ поклона. Всталъ, а его такъ и тянетъ опять взглянуть на перекосокъ: тамъ, изъ-за румянаго личика, виднѣется тощая морщинистая старушка; дрожащею рукою заносить она крестъ на голову, глаза, подъ слезой, какъ подъ слюдой блестятъ. «Сомлѣвается! пояснилъ себѣ старикъ; — что же конечно, — прибавилъ онъ думая, углубясь въ себя — однимъ одно дѣтище, тяжело, да вѣдь мы неразлучники какіе, станетъ и про сватбеньку, и свѣтелка особая ей найдется».
— И что это за диво, словно они уже семьей тутъ передъ Богомъ стоять, — думаетъ кума, — такъ тихо да ладно, безо всякихъ разговоровъ, все у нихъ дѣлается. Видно не нашимъ умомъ дѣло почато и покончено!
Одна Аннушка, ничему не причастная, тихо молится, не зная, что тутъ же, рука объ руку, стоить и судьба ея. Что съ сего дня, почти съ сего часу, сольется жизнь ея съ другою, столь же чистою жизнію, что потечетъ она, какъ рѣка широкая, тихая и приметъ во всю ширину и глубину свою и отразить въ себѣ всю красоту неба и все разнообразіе и пестроту береговъ.
КРЕЩЕНСКІЙ СОЧЕЛЬНИКЪ
— Бабушка, сегодня, няня говорить, опять сочельникъ, можно намъ съ Мишей…
— Постничать? можно и должно, — сказала бабушка, — но сочельничать со мной не сможете.
— Бабушка, душенька, позволь, ты увидишь, что сможемъ, намъ такъ хочется!
— Саша, дѣтямъ обыкновенно хочется болѣе того, что они могутъ исполнить; послушай, дружочекъ мой, — говорила старушка, притягивая дѣвочку къ себѣ за руку: — пока ты мала, то хоти и желай исполнять обряды наши, это хорошо, когда же выростешь и будешь здорова, то исполняй ихъ, по силѣ своей: постись, сочельничай, ходи въ церковь, ставь свѣчку, подавай вынимать просвирку; во всемъ этомъ, когда подростешь, поймешь высокій смыслъ. Теперь же, пока ты мала, то желай и думай: когда выросту, стану то и то дѣлать и сочельничать.
— Нѣтъ, душечка, бабушка, позволь теперь, — говорила внучка, вертясь отъ нетерпѣнья, — я и Мишу позову, и мы съ тобой вмѣстѣ станемъ сочельничать.
Съ этими словами она убѣжала и чрезъ минуту послышалась ихъ общая топотня и голосъ Миши: «И я хочу, я также буду съ тобой и съ бабушкой». Дѣти вбѣжали, держась за руки и говоря въ одинъ голосъ: «позволь, милая бабушка».
— Да васъ стошнитъ, дѣти!
— О нѣтъ, мнѣ ничего! папа часто опаздываетъ къ обѣду, а меня не тошнило!
— Дѣти, сколько разъ вы до обѣда ѣдите, — спросила старушка, и стала насчитывать: — Чай пьете?
— Да!
— Завтракаете?
— Да, но мы сегодня не хотимъ чаю, — отвѣчали дѣти, — а завтракъ часто бываетъ не вкусный!
— Послушайте, вотъ мы что сдѣлаемъ, — говорила бабушка: — такъ какъ сочельникъ болѣе для взрослыхъ, чѣмъ для маленькихъ, то вы будете сочельничать на половину.
— Какъ это? — спросилъ Миша, вскидывая голову и глядя прямо на бабушку.
— А вотъ какъ: завтракать вы не станете, а чай свой принесите сюда, его выпьете на мѣсто завтрака.
Саша была въ нерѣшимости соглашаться ли на такую сдѣлку; но Миша удовлетворился ею, и затопавъ лошадкой, побѣжалъ за своей чашкой, и дѣвочка увлеклась его примѣромъ. Няня внесла чашки и корзинку съ постнымъ хлѣбомъ, и поставила на столъ, покрывъ салфеткой.
— Теперь, дѣти, пока ступайте, — сказала бабушка, — у меня есть дѣло, а къ завтраку приходите.
— Хорошо, бабушка!
— Миша, какъ я рада, — говорила Саша, подпрыгивая по корридору. — Мы тоже сочельничаемъ; нѣтъ полусочельничаемъ, — поправилась дѣвочка. — Часа чрезъ два Миша вбѣжалъ къ бабушкѣ, съ вопросомъ: не пора-ли завтракать?
— Нѣтъ еще, дружокъ, — отвѣчала та.
Чрезъ четверть часа Саша тихонько постояла на порогѣ передъ бабушкой, но старушка не подымала глазъ съ большой темной книги, которая лежала передъ нею, и дѣвочка ушла. Немного погодя, Миша закричалъ въ дверь: — не пора-ли намъ кушать?
— Нѣтъ еще, — отвѣчала старушка. Чрезъ полчаса вошла тихонько задумчивая Саша; она была блѣднѣе обыкновеннаго. Бабушка перевернула листочекъ книги, и поглядѣла на внучку.
— Ну, что, Саша, тебѣ ѣсть хочется?
— Хочется, — тихонько проговорила дѣвочка, опустя голову.
— Пожалуй, завтракайте сегодня получасомъ ранѣе; погляди-ка, дружокъ, есть-ли половина двѣнадцатаго?
— Есть, есть, бабушка! даже двѣ черточки перешли за полчаса, — сказала Саша, водя пальцемъ по стеклу. — Миша! — закричала она, — а Миша уже давно поджидалъ у дверей. Другъ передъ другомъ, торопясь, усаживались они за чай.
— Бабушка, вы позволите намъ еще по кусочку? вѣдь мы завтракать не станемъ, — сказалъ Миша.
— Хорошо, кушайте, однако скажите-ка мнѣ, правду ли вамъ бабушка говорила, что маленькіе не могутъ сочельничать?
— Правда! — сказали дѣти.
— Знайте же и помните, что бабушка никогда не обманываетъ, а всегда говорить правду.
Слово это пришлось впору, и съ этого дня дѣти приходили къ бабушкѣ совѣтоваться во всѣхъ спорныхъ дѣлахъ. «Бабушка знаетъ, я бабушку спрошу, бабушка всегда говорить правду», толковали дѣти между собой.
— А можно туда, къ бабушкѣ, — послышалось нѣсколько дѣтскихъ голосовъ, и въ комнату вбѣжало трое: Мери впереди, двое братьевъ ея, Сережа и Алеша, за нею; поднялась суматоха, объятія, поцѣлуи, шумъ, смѣхъ: Дѣти эти были также внуки старушки, только не родные, а двоюродные, дѣти ея роднаго племянника.
— Мери, Мери, а мы сочельничаемъ, я сочельничаю, Мери, — кричалъ Миша, торопясь прожевать хлѣбъ.
— Ты какъ сочельничаешь? — спросила шестилѣтняя дѣвочка, не понимавшая этого слова.
— Ничего не ѣмъ до вечера, — важно отвѣчалъ Миша.
— Нѣтъ, — перебила Саша, толкуя его слова, — мы полусочельничаемъ.
Малютка стояла вытараща глаза, она ничего не понимала, тѣмъ менѣе, что входя видѣла, какъ дѣти ѣли.
— Мишенька, — громко сказала бабушка, — а что я тебѣ сказала о сочельникѣ?
И сама же старушка отчетливо и ясно повторила, что маленькіе и слабые сочельничать не могутъ, а потому и не должны, это не по силамъ ихъ; «Это, прибавила она, ты сегодня самъ на себѣ испыталъ; но, какъ малый, такъ и большой долженъ удерживаться отъ того, отъ чего въ силахъ воздержаться, напримѣръ: хвастать чѣмъ бы то ни было никуда не годится, и отъ этого всякій, кто захочетъ можетъ удержаться. Такъ ли, Сереженька», спросила старушка, замѣтя вниманье старшаго своего внука.
— Я думалъ теперь о томъ, о чемъ вы говорите, бабушка, только это трудно, очень трудно, все думать, да обдумывать, какъ бы чѣмъ не похвалиться; вѣдь если все передумать, — продолжалъ мальчикъ съ разстановкой, — то выйдетъ, что многое дѣлаешь изъ-за похвалы.
Старушка съ видимымъ удовольствіемъ слушала Сережу, потомъ взяла его голову обѣими руками, крѣпко поцѣловала въ лобъ, и пристально глядя въ разумные глаза ребенка, сказала: «Въ томъ-то и дѣло каждаго человѣка, чтобы всегда помнить и дѣлать должное. Привыкать же къ этому надо съизмала; вотъ хоть ты теперь, ты знаешь, что хвастать не должно, ну и будешь остерегаться, а когда отвыкнешь отъ этого, то задашь себѣ другую задачу, напримѣръ: дѣлать должное такъ, чтобы оно людямъ въ глаза не бросалось, и тебя бы не хвалили за то, что ты дѣлаешь свое дѣло».
— Да что жъ это! пойдемте играть, — кричала соскучившаяся Мери, таща то того, то другаго; — А знаете, — продолжала она, — у насъ скоро будутъ гости, только безъ куколъ!
— Ахъ, да, Саша, ты знаешь, что придумала Мери? — сказалъ Алеша.
— Что, что? — живо спросили маленькіе хозяева.
Алеша покатился со смѣху.
— Она хочетъ пригласить гостей съ тѣмъ, сказалъ онъ, чтобъ они пріѣхали въ штопанныхъ платьяхъ!
— Алеша! — закричала малютка, бросаясь къ брату.
— Право такъ, говорилъ онъ.
— Алеша! — кричала дѣвочка, зажимая ему ротъ.
— Это она все за Лину заступается, — говорилъ мальчикъ, увертываясь отъ маленькой ручонки, — а мама говоритъ: что же дѣлать тѣмъ, у кого нѣтъ рваныхъ платьевъ, тому какъ быть?
— Саша, Миша! вы его не слушайте! — торопилась перебить Мери, — я сказала: мнѣ не нужно, чтобы гости мои были разряжены, пусть пріѣдутъ въ старыхъ платьяхъ!
Бабушка, слышавшая о случившемся съ Линою на кукольномъ вечерѣ, поняла въ чемъ дѣло, и сказала:
— Ты, Мери, вотъ что сдѣлай: сама одѣнься попроще, ну и самыхъ близкихъ попроси о томъ же, а охотницамъ до нарядовъ ничего не говори, щеголихъ у тебя будетъ наполовину, а другая половина одѣнется просто, такъ что между ними и Лина не будетъ отличаться.
Этотъ совѣтъ очень понравился Сашѣ, и она, прыгая передъ старушкой, сказала:
— Бабушка, позволь мнѣ самой съ Мери выбрать изъ моихъ платьевъ то, которое и тогда надѣну.
— Идите, выбирайте что хотите, только чуръ не комкать. — И вся стая запрыгала и понеслась въ дѣтскую. Чрезъ часъ красныя, запыхавшіяся дѣти опять вбѣжали къ старушкѣ.
— Ахъ, мои голубчики, да какъ вы умаялись! — сказала она, глядя на внучатъ.
— Бабушка, я хочу имъ показать мою дочку!
— Нельзя, дружокъ, я сейчасъ была тамъ, она и мама твоя обѣ спятъ.
Дѣти переглянулись, какъ бы совѣтуясь, что имъ теперь дѣлать, чѣмъ заняться.
— Ахъ да, бабушка, няня хотѣла у тебя проситься за богоявленской водой, это какая вода? — спросила Саша.
— Та, которую сегодня святятъ за вечерней, — сказала старушка: — до нея ничего не ѣдятъ, сочельничаютъ; когда выпьютъ этой воды, тогда начинаютъ ѣсть.
Саша вдругъ вспомнила рождественскій сочельникъ, какъ бабушка съ нею говорила, какъ ей было хорошо сидѣть, пріютясь къ старушкѣ.
— Бабушка, милая, разскажи намъ про сочельникъ, помнишь, какъ тогда!
Бабушка, посмотрѣвъ на дѣтей, сказала:
— Трудновато говорить съ вами, дѣтки; вы всѣ неровни: Сережа и Алеша знаютъ Священную исторію, Мери съ Мишей ничего не знаютъ, и не понимаютъ, а ты, Саша, только нѣкоторыя картинки запомнила.
— Бабушка, ты какъ тогда говори — я все поняла!
— Ну, другъ мой, вѣдь разсказъ на разсказъ не придется; однако, пожалуй, попробую.
Всѣ захлопали въ ладоши; дѣти любятъ слушать, умѣли бы только съ ними говорить. Бабушка посадила Мери къ себѣ на колѣни, Сашу въ ноги, на скамеечку, мальчикамъ позволила сѣсть на коверъ, и, приноравливаясь сколько можно къ понятію дѣтей, начала:
— Ну, Саша, скажи намъ, какая картинка крещеніе Господне? на Іорданѣ, — прибавила старушка, видя, что дѣвочка задумалась.
— Ахъ, это на рѣкѣ-то! Вотъ стоитъ одинъ на берегу повыше.
— Іоаннъ Креститель, — подсказалъ Алеша.
— Да, Іоаннъ Креститель, у него палочка перевязана поперекъ крестомъ и кончики висятъ длинные, длинные, онъ зачерпнулъ въ чашечку водицы и льетъ ее на голову…
— Господа…
— Алеша, да я сама знаю, — нетерпѣливо отозвалась дѣвочка: — и льетъ на голову Господа Іисуса Христа, а Онъ по колѣни въ водѣ стоитъ, а надъ головою у него птичка…
— Голубь, — не утерпѣвъ подсказалъ Алеша.
Мери взяла бабушку за обѣ щеки, и она теперь также вспомнила картинку, и ну цѣловаться говоря: — я это также знаю, я все это знаю.
— Перестань, Мери, — нетерпѣливо перебилъ ее Сережа.
— Ну, такъ слушайте: Іоаннъ Креститель былъ пророкъ: ты помнишь, Саша, что я говорила тебѣ о пророкахъ? — Но видя, что дѣвочка задумалась, бабушка продолжала: — пророками назывались такіе люди, которыхъ Господь выбиралъ для того, чтобы учить людей и наставлять ихъ въ томъ, что заповѣди даны имъ не для того, чтобы ихъ прятать въ золотой ковчегъ и затверживать ихъ попугаями, но чтобы исполнять ихъ приказанія. Такой пророкъ былъ Іоаннъ, прозванный Крестителемъ.
— Бабушка, — спросилъ Алеша, — его прозвали Крестителемъ за то, что онъ крестилъ?
— Да, дружокъ мой, — отвѣчала та.
— Послушай, бабушка, — нѣсколько робко спросилъ Алеша, — за что же его прозвали такъ, вѣдь не онъ одинъ, а всѣ священники крестятъ?
— Ахъ, Аничка, здравствуй Оля! — кричали, дѣти, здороваясь съ вошедшею сестрицей. — Сядь сюда! Нѣтъ, сюда, ко мнѣ, къ намъ! — кричали они, сторонясь другъ передъ другомъ, чтобы дать мѣсто общей любимицѣ своей.
— Садись-ка, дружокъ, подлѣ меня, — сказала бабушка: — да помоги-ка мнѣ разсказать имъ о крещеніи Господнемъ: вы другъ друга лучше понимаете. — Затѣмъ, обратясь къ Алешѣ, она продолжала:
— Да, теперь, послѣ Іоанна Крестителя, креститъ каждый священникъ, но до него никто не крестилъ; онъ первый ввелъ этотъ обрядъ, и невидимое для насъ дѣло, покаяніе человѣка, обрядилъ, т. е. одѣлъ, въ видимый обрядъ омовенія водою.
— Бабушка, это что такое покаяніе? — спросила Саша, пристально глядя на старушку.
— Да, вотъ поди, толкуй съ вами! — сказала бабушка, тряхнувъ головой; потомъ, подумавъ немного, спросила внучку: — Ты, дружокъ, когда нашалишь, а потомъ, понявъ, что огорчила папу и маму, ты что тогда дѣлаешь?
— Что же, бабушка, я тогда прошу прощенья!
— Ну вотъ, это — то самое, когда пожалѣешь, что дурно сдѣлала, да идешь просить прощенья, это и зовется у людей раскаяніемъ, а раскаяніе передъ Богомъ называется покаяніемъ. Поняла ли, Саша?
— Да, поняла, — задумчиво сказала дѣвочка, а потомъ прибавила: — Когда я у папы прошу прощенья, это значить: я раскаиваюсь; когда же прошу прощенья у Бога, то я…
— То ты каешься, — подсказала старушка замѣтивъ, что дѣвочка не сладить со словомъ покаяніе.
— Бабушка, спросила Мери, Богъ слышитъ, когда у него просятъ прощенья?
— Слышитъ, и прощаетъ, если видитъ, что люди, каясь, хотятъ исправиться.
— Послушай-ка, бабушка, — началъ Миша, протираясь къ старушкѣ, — ты мнѣ скажи вотъ что: развѣ большіе также каются? Вѣдь большіе не шалятъ?
— И не шалятъ, да грѣшатъ, дружокъ, то есть, грѣшатъ, не дѣлая того, что Господь велитъ. Вотъ и въ то время, когда жилъ Іоаннъ, народъ очень грѣшилъ: хотя іудеи и писали приказанія Божія у себя на дверяхъ, чтобы всегда видѣть и помнить ихъ, но это обратилось у нихъ въ одинъ обычай, а исполнять заповѣдей они не исполняли. Св. Іоаннъ, живя въ степи, въ пустынномъ мѣстѣ, около Іордана, говорилъ приходящему къ нему народу: «Опомнитесь бросьте дурную жизнь, покайтесь и принесите плоды достойные покаянія: вы живете, какъ безплодныя деревья, которыя напрасно растутъ; но берегитесь за такую жизнь вашу, — наказаніе близко, сѣкира (топоръ) лежитъ у корня дерева, безполезное дерево скоро будетъ срублено». Вы видите, дѣти, что онъ говорилъ не такъ просто, какъ говоримъ мы; онъ уподоблялъ людей деревьямъ, полезныя дѣла — плодамъ, наказаніе — сѣкирѣ; такимъ языкомъ говорятъ на Востокѣ всѣ азіятскіе народы; слово Божіе писано на Востокѣ же, а потому и писано притчами и уподобленіями. Мало того, что восточные жители говорятъ иносказательно, но они часто рѣчи свои подкрѣпляютъ или изображаютъ дѣломъ, и это-то иносказательное дѣло или дѣйствіе мы называемъ обрядомъ; напримѣръ: ты, Сережа, вѣрно помнишь, что сказалъ Пилатъ, когда народъ требовалъ осужденія Господа?
— Помню, — отвѣчалъ Сережа, — онъ сказалъ: я невиненъ въ крови праведника этого.
— Ну, а что Пилатъ еще при этомъ сдѣлалъ? — спросила старушка.
— Онъ велѣлъ подать воды и умылъ, при народѣ, руки свои.
— Вотъ это-то дѣло и было уподобительнымъ, обрядливымъ; понимаешь ли ты, дружокъ?
— Да, — сказалъ мальчикъ, не сводя глазъ съ бабушки. — Этимъ иносказательнымъ умовеніемъ рукъ, Пилатъ подтвердилъ слова свои о чистотѣ и невинности своей въ дѣлѣ осужденія Іисуса Христа. Іоаннъ, призывая народъ къ покаянію и очищенію отъ грѣха, наставлялъ его, уча доброй жизни, и потомъ, въ знакъ очищенія отъ грѣха, омывалъ кающихся водою. Обрядъ крещенія, нѣсколько измѣненный, перешелъ и къ намъ.
— Замѣть, Сереженька, — сказала бабушка, обращаясь къ внуку, какъ къ старшему изъ дѣтей, — замѣть и помни, дружокъ, что наша христіанская церковь основалась на Востокѣ, и что вся внѣшность ея въ томъ же иносказательномъ духѣ, о которомъ я сейчасъ говорила: обряды, служба, одежда, даже утварь церковная, все это уподобительно, все заключаетъ въ себѣ высокій духовный смыслъ, который, къ сожалѣнію, немногимъ извѣстенъ.
— Отчего неизвѣстенъ? — живо спросила Аня.
— Оттого, что иные не могутъ, а другіе не заботятся понять его, — отвѣчала старушка, глядя въ глаза внучкѣ; ей отрадно было слѣдить за сочувствіемъ ребенка.
— Бабушка, — хотѣла что-то спросить Аня.
— Постой, постой, дружокъ, — перебила ее старушка: — съ тобой поговоримъ когда-нибудь на особицу, а теперь дай кончить о крещеніи и о богоявленской водѣ. Слушайте же, дѣтки: Іоаннъ Креститель поселился, какъ я уже вамъ сказала, въ пустынѣ, народъ сходился къ нему отовсюду, иные изъ усердія къ святому человѣку, другіе изъ любопытства, посмотрѣть на пустынника и послушать его дивныхъ рѣчей. Онъ говорилъ народу: «Кто вразумилъ васъ бѣжать отъ наступающаго гнѣва? Уже и сѣкира лежитъ при корнѣ дерева, всякое дерево, не приносящее хорошаго плода, будетъ срублено и брошено въ огонь; послѣ меня придетъ Тотъ, Кто сильнѣе меня, Кому я недостоинъ нести обувь Его. Я крещу васъ водою покаянія, Онъ же будетъ крестить Духомъ Святымъ и огнемъ. Лопата въ Его рукѣ, и Онъ очиститъ гумно свое и соберетъ пшеницу въ житницу, а солому сожжетъ огнемъ». Такъ говорилъ онъ, и въ народѣ пробуждалось темное предчувствіе чего-то близкаго, великаго; понимая притчу Іоаннову, народъ размышлялъ: обувь — это низшее, послѣднее въ одеждѣ; если же и святой мужъ недостоинъ понести обувь Того, Кого онъ возвѣщаетъ, то что же это будетъ? Народъ понималъ также, что пшеницею называлъ онъ добрыхъ и полезныхъ людей, а соломою пустыхъ тунеядцевъ; что гумно иносказательно представляетъ міръ, гдѣ люди полезные перемѣшаны съ безполезными, какъ зерно съ мякиной, и что Іоаннъ ждетъ Господина гумна. Однажды утромъ, когда онъ крестилъ и толпы народа собрались на берегу Іордана, онъ вдругъ увидѣлъ вдали идущаго къ нему Іисуса; пророкъ душею своею узналъ Господа и въ восторгѣ, подымая высоко руки, закричалъ народу: «Вотъ Онъ! Вотъ Агнецъ Божій, взимающій на себя грѣхи міра! Вотъ Тотъ, о Комъ я говорилъ: послѣ меня придетъ Тотъ, Кто сильнѣе меня».
— Бабушка, бабушка, я видѣлъ это! — радостно закричалъ Сережа: — Іоаннъ и рукой, и крестомъ указываетъ народу на Господа!
Дѣти въ изумленіи смотрѣли на раскраснѣвшагося мальчика, бабушка также, поглядѣвъ на него, спросила:
— Ты во снѣ видѣлъ это, дружокъ?
— Нѣтъ, не во снѣ, я видѣлъ картину Иванова, явленіе Господа народу! Ахъ, бабушка, какъ хорошо! Іоаннъ точно живой, точно громко говорить народу, а Господь идетъ вдали, тихо, тихо, одинъ одинешенекъ такъ хорошо, точно спереди картины шумно, а тамъ, вдали около Господа, такъ тихо! Алеша, ты помнишь, мы вмѣстѣ ходили смотрѣть, — спросилъ Сережа брата.
А Алеша ужъ давно припоминалъ что-то, и сказалъ:
— А, а, это гдѣ жиденокъ-то, изъ воды вылѣзъ, и озябъ?
— Да, да, подтвердилъ Сережа.
— Ну помню, помню: Іоаннъ Креститель точно мѣхомъ обернуть, самъ такой высокій!
— Такъ вотъ, дѣти, — перебила ихъ бабушка, — Господь Іисусъ Христосъ, который сошелъ на землю, и намъ въ примѣръ прожилъ съ людьми земную жизнь, самъ на Себѣ подтвердилъ обрядъ крещенья, т. е. самъ крестился отъ Іоанна, который сначала отказывался, говоря: «не Тебѣ у меня, а мнѣ слѣдуетъ у Тебя креститься». Но затѣмъ исполнилъ волю Господню, который сказалъ: «такъ тому быть должно». И когда Господь крестился, то Іоаннъ видѣлъ духомъ своимъ небо открытое и Духа Господня, Духа любви, кротости и чистоты, въ земномъ видѣ, въ образѣ самаго кроткаго и чистаго животнаго, голубя, летавшаго надъ Господомъ.
Саша, сидѣвшая въ ногахъ на скамеечкѣ, вдругъ потянулась черезъ Мери къ бабушкѣ, говоря:
— А какъ же это, помнишь, ты говорила о барашкѣ, что онъ самый добрый?
— Да, Саша, я говорила и теперь скажу, что между звѣрьми, барашекъ, ягня, или по-славянски агнецъ, есть самое смирное и доброе животное, а между птицами, голубь: потому-то они оба и означаютъ, на языкѣ притчъ или иносказаній, кротость и чистоту. У насъ, на полу-русскомъ, гостиномъ языкѣ, иносказаніе или притчу зовутъ аллегоріею, а самые образы иносказаній, какъ напримѣръ здѣсь ягня и голубя, эмблемою. Вотъ вамъ нѣсколько подобныхъ примѣровъ иносказаній: левъ, какъ самый сильный изъ звѣрей, есть представитель, эмблема или образъ силы; волкъ — образъ хищности; лиса — хитрости; собака — вѣрности; свинья — невѣжества и нечистоты. Говорятъ, у древнихъ на Востокѣ не только звѣри, птицы и рыбы, но даже каждый цвѣтокъ имѣлъ свое особое значенье! Тамъ еще и донынѣ сохранился языкъ цвѣтовъ, который, можетъ быть съ перемѣнами и прибавками, отчасти дошелъ и до насъ; напримѣръ: роза — образъ красоты; фіялка, — скромности; лавръ, — мудрости и славы; миртъ — образъ любви; полынь, — горькая неправда и пр. У языка образовъ или иносказаній было свое письмо, которое у древнихъ называлось іероглифами. Іероглифы, письменные знаки древнихъ, по сію пору уцѣлѣли на камняхъ и пирамидахъ египетскихъ, но, не зная языка этого, мы не понимаемъ и знаковъ его.
— Бабушка, я слышалъ отъ дяди, что есть ученые, которые разбираютъ іероглифы, — сказалъ Сережа.
— Да, дружокъ, и самый замѣчательный изъ нихъ Шамполіонъ; онъ говоритъ, что у египтянъ іероглифы были различные; древнѣйшіе тѣ, что называются символическими или картинными, тамъ каждое изображенье имѣло нѣсколько смысловъ. Вотъ напримѣръ, — и старушка, взявъ карандашъ, начертила кружочекъ, съ точкой, по серединѣ, — вотъ этотъ знакъ представлялъ солнце, и свѣтъ его, и день, и жизнь природы, такъ какъ ничто не можетъ жить безъ солнца; отвлеченно же, знакъ солнца означаетъ свѣтъ разума и тепло любви. Ну, да что объ этомъ говорить, вамъ этого еще долго не понять;— сказала старушка, усмѣхнувшись на своихъ слушателей и на непосильные для нихъ разсказы.
— Нѣтъ, бабушка, душечка, нѣтъ, разсказывай! — кричала Саша, показывая бабушкѣ лоскутокъ бумаги, на которомъ она сама начертила кружокъ съ точкой по серединѣ: — вотъ, когда кто напишетъ этотъ кружочекъ, то это все равно, что написать: с-о-л-н-ц-е.
— Да, — сказалъ Сережа, — и оно же значитъ: свѣтъ и тепло.
— Ахъ, какъ славно! — вскричала Саша, хлопая въ ладоши; — бабушка, душечка, скажи еще что-нибудь, а я нарисую и подпишу то, что оно будетъ значить!
— Ну, пиши молодую луну, вотъ такъ: — и старушка очертила полкруга двумя кривыми чертами; — это значить и мѣсяцъ и ночь и, свѣтъ безъ тепла, вѣдь мѣсяцъ не грѣетъ, такъ ли? — Дѣти молча кивнули головою.
— А вотъ, кругъ съ двойнымъ крестомъ по середкѣ, представляетъ землю, созданіе; эти же три зубчатыя черточки, одна надъ другою, какъ волны, означаютъ воду а кувшинчикъ, изъ котораго зубчиками льется вода, значить умовенье, очищенье; а вотъ нарисуй вѣсы — вѣсы и по нынѣ означаютъ: правду, правосудіе, — и бабушка, наклонясь надъ Сашей, начертила ея рукой вѣсы, — вотъ это и по-древнему: судъ и правда; теперь нарисуй-ка глазъ, и подпиши подъ нимъ: зрѣніе и пониманіе; потомъ начерти ухо, и подпиши: слухъ и послушаніе, и проч.
Оказалось, что ухо Саша не умѣла рисовать; многіе изъ дѣтей брались помогать ей, но покончилъ Сережа.
— Да это чудо какъ весело, — говорила Саша, носясь съ разрисованной бумажкой, — мы съ Лизой все такъ станемъ играть!
Мери потянулась посмотрѣть на бумажку, но, не понимая въ чемъ дѣло, нашла, что картинка не на столько хороша, чтобы долго ею забавляться.
Видя, что мысли дѣтей разбрелись, и желая, чтобы разсказъ ея не разсѣялся безъ слѣда, старушка захотѣла собрать коротенькія нити дѣтскихъ мыслей въ одно, и потому обратилась къ началу разговора.
— Что значить, Саша, богоявленская вода, за которою собирается идти твоя няня?
Саша, посмотрѣвъ поочередно, то на бабушку, то на дѣтей, въ недоумѣніи отвѣчала:
— Не знаю, ты кажется объ ней ничего не разсказывала.
— Нѣтъ, я еще не дошла до нее, но сейчасъ доскажу. Наканунѣ праздника крещенія, т. е. въ крещенскій сочельникъ, за вечерней, святятъ воду, опускаютъ въ нее крестъ, въ память того, что Господь на Іорданѣ самъ входилъ въ воду и тѣмъ ее освятилъ, и затѣмъ, освященную воду эту зовутъ богоявленской. Въ крещенскій сочельникъ мы сочельничаемъ до этой воды, какъ въ рождественскій — до первой звѣзды. У насъ установлено праздновать каждый годъ всѣ самые замѣчательные случаи изъ земной жизни Господа, и эти праздники называются Господними. Ахъ, дѣтки мои, — заключила бабушка тѣмъ же, чѣмъ начала разсказъ, трепля и цѣлуя дѣтей: — трудно говорить съ вами, съ такими неровнями!
— Мы всѣ поняли, — весело сказалъ Алеша, сознавая въ себѣ новыя понятія, вслѣдствіе разговора съ бабушкой.
— Ты не бойся, бабушка, — говорилъ Миша, карабкаясь на диванъ, хватая и обнимая старушку: — мы съ Сашей все поняли, мы знаемъ, что Богъ былъ на землѣ такой добрый, какъ барашекъ и голубокъ.
— И вамъ велѣлъ быть такими же, — промолвила старушка: — будьте кротки, какъ голуби, говорилъ Онъ, уча людей.
— Бабушка, — спросилъ Алеша, — а тѣ люди, которымъ говорилъ Господь, сказали это другимъ людямъ, а тѣ люди еще другимъ, а тѣ другіе, — говорилъ мальчикъ, прикачивая головой въ мѣру, сказали твоей бабушкѣ, — а ты ужъ намъ рассказала, да? Такъ вѣдь?
— Было, пожалуй, и такъ, — сказала старушка смѣясь Алешиной догадкѣ: — такой разсказъ отъ бабушки къ внучкѣ называется преданьемъ; но преданье не всегда бываетъ вѣрно, а вѣрнѣе дошли до насъ слова Господни чрезъ учениковъ Его, которые записали все, что Онъ дѣлалъ и говорилъ на землѣ, и помѣстили вотъ въ этой книгѣ, — сказала старушка, указавъ на большую толстую книгу, лежавшую на столѣ: — эта книга называется Евангеліемъ.
— Такъ твоя книга Евангеліе, — протяжно сказали Саша съ Мишей, — ты бабушка покажи ее намъ когда-нибудь.
Пока Саша договаривала эти слова, лицо ея вдругъ засвѣтилось радостью, губы улыбались: видно было, что ее тѣшила какая-то пріятная мысль. Бабушка, съ легкой улыбкой, пытливо глядѣла на дѣвочку. «И», сказала старушка, ободряя Сашу высказать свое чувство. Улыбка совсѣмъ разцвѣла, и Саша, полно вздыхая, сказала: «Быть можетъ, моя дочка будетъ такая же хорошая и добренькая, какъ барашекъ». Сережа, потянувъ Сашу, посадилъ ее къ себѣ на колѣни и сказалъ: «Ты знаешь что сдѣлай: ты проси бабушку читать тебѣ изъ той книги, а потомъ учи Любу тому, что тамъ написано». На мгновенье дѣвочка задумалась: она вникала въ слова брата; потомъ, взглянувъ на бабушку, ласково припала къ ней головкой и тихонько спросила: «да?», и на одобрительный знакъ старушки она еще крѣпче обняла ее, говоря: «моя хорошая бабушка, какъ я люблю тебя». — «И я, вскричалъ Миша, и мы, и мы также», говорили дѣти, тѣснясь около старушки.
ЛИЧИНКА И МОТЫЛЕКЪ
— Ну, друзья мои, дождались вы меня, — говорила бабушка, входя въ столовую и цѣлуясь съ сыномъ и трепля внучатъ.
— Ну что, матушка, какъ застали вы Машу; что ребенокъ? — спрашивалъ Михаилъ Павловичъ.
— Да что, малютка не жилица, до вечера едва ли доживетъ, а Маша плачетъ; безпрестанно принимаетъ капли, растираютъ ее разными спиртами, въ спальнѣ ея такая духота, что я немного побыла, а виски и сердце забились. Совѣтовала ей прокатиться, но она не рѣшилась, а напрасно: свѣжій воздухъ лучше бы ее поправилъ. Но вотъ что, другъ мой, дурно, племянница не знаетъ, кому она ввѣрила воспитаніе дѣтей своихъ; представь себѣ, отъ нея прошла я въ классную, и что же я нахожу: дѣти столпились въ кучку около гувернантки и робко что-то слушаютъ, а она съ жаромъ разсказываетъ. Входя, я скрипнула дверью, всѣ съ крикомъ разбѣжались, слѣдомъ за дѣтьми и сама воспитательница. «Дѣти, дѣти, что вы, куда вы», кричала я за ними, — но и слѣдъ ихъ простылъ; пошла въ дѣтскую, зову по именамъ: Зиночка, Лиза, Софочка! Наконецъ онѣ меня узнали. «Это вы, бабушка, а мы думали сестрица». «Какая сестрица». — «Лили». — «Да вѣдь она очень больна и ходить не можетъ». — «Можетъ быть она уже померла мы думали, что она мертвая идетъ». Тутъ подошла ко мнѣ ихъ умная наставница, и едва переводя духъ, сказала: «Боже мой, какъ я испугалась, просто едва дышу, а я только разсказывала дѣтямъ, какіе бываютъ иногда случаи, а вы тутъ и вошли». Я до того была озадачена такимъ вздоромъ, что не вдругъ опомнилась, а гувернантка продолжала: «я буду проситься въ отпускъ на эти дни, потому что ни за что не останусь въ одномъ домѣ съ мертвой». — «Вамъ бы слѣдовало давно взять отпускъ, сказала я ей, и не стыдно, доживъ до этихъ лѣтъ, не отвыкнуть отъ ребяческихъ глупостей! или быть можетъ вы шутя пугаете дѣтей? Посмотрите, Зинаидѣ двѣнадцать лѣтъ, а вѣдь она вамъ повѣрила, вздору дѣти всегда скорѣе вѣрятъ чѣмъ правдѣ».
— Надо мнѣ съ бѣдными дѣтьми потолковать, — сказала озабоченная старушка. — Ты, Михайло, съѣздилъ бы послѣ обѣда, да привезъ бы ихъ къ намъ.
— Очень охотно, матушка, а что, и мои дѣтки не боятся ли мертвыхъ? — привѣтливо говорилъ отецъ, поглядывая то на того, то на другаго.
Саша сидѣла молча и глядѣла на старушку; Миша, какъ бы скрѣпясь, вдругъ крикнулъ: «бабушка, ты не боишься мертвыхъ».
— Нѣтъ, мой другъ, — спокойно и рѣшительно сказала старушка, — не боюсь; когда отецъ твой былъ маленькій, какъ ты, то училъ глупыхъ деревенскихъ мальчишекъ не бояться ни мертвыхъ, ни могилъ.
— И я никогда не стану бояться! — сказалъ Миша. — А ты, Саша? спросилъ онъ сестру.
Саша сидѣла задумавшись и ничего не отвѣчала.
— Я замѣчаю, что мои внучатый стали привыкать ко ржаному хлѣбу, — сказала бабушка, чтобы перемѣнить разговоръ.
Миша высоко поднялъ оставшуюся нижнюю корочку, говоря: «у меня только осталось, видишь».
— Хорошо, Миша, привыкай, не будь нѣженкой.
— Бабушка, я также всегда стараюсь ѣсть ржаной хлѣбъ, но сегодня мнѣ ничего не хочется, вотъ и пирожокъ остался, — говорила Саша, показывая едва надкусанный пирожокъ.
•••
Послѣ обѣда бабушка пошла отдыхать, отецъ уѣхалъ провѣдать сестру, а дѣти остались вдвоемъ: имъ было что-то дико и странно. Они ходили вдвоемъ по залѣ и гостиной; пристегнувъ новую саблю свою, Миша бодро побрякивалъ ею, вертясь около сестры.
— Саша! я ничего не боюсь, — говорилъ онъ, — и стану пріучать племянницу не бояться мертвыхъ!
— Я также хочу учить, — нерѣшительно сказала дѣвочка, — это такъ невесело бояться, только я не умѣю учить.
— Вотъ не умѣю, да вѣдь папа же училъ деревенскихъ мальчишекъ!
— Ахъ, Миша, такъ вѣдь папа умѣлъ!
— И я умѣю, — самонадѣянно сказалъ мальчикъ.
•••
Въ бабушкиной комнатѣ еще нѣтъ огня, только передъ кіотомъ мерцаетъ лампада; старушка прилегла было немножко отдохнуть, а вотъ спитъ уже около двухъ часовъ; быть можетъ ей во всю ночь не придется отдохнуть; она обѣщала племянницѣ пріѣхать свечера и остаться около умирающей; и вотъ слышитъ она впросонкахъ дѣтскіе голоса: «А вотъ я пойду, я ей это скажу», такъ, грозясь, кричалъ Миша обиженнымъ голосомъ. «Миша, тихонько», кричатъ нѣсколько голосовъ, и старушкѣ слышно, что ребенокъ крадется по корридору.
— Ми-и-ся, — протяжно запищала Софочка, — тамъ темно!
— Я ничего не боюсь, — забывшись бойко и громко отвѣчаетъ Миша, и на цыпочкахъ бочкомъ пролѣзаетъ къ бабушкѣ, въ пріотворенную дверь. А бабушка уже сидитъ и завязываетъ чепецъ.
За мальчикомъ вбѣжала толпа пріѣхавшихъ дѣтей: «Бабушка, Зина говорить». — «Да постойте, кричалъ Миша дѣтямъ, который всѣ шумѣли и другъ передъ другомъ торопились поздороваться съ бабушкой. — Пустите, дайте мнѣ разсказать, продолжалъ нетерпѣливо Миша: Зина говорить, что ты говоришь неправду, и сама также боишься мертвыхъ, — какъ и всякій человѣкъ ихъ боится».
— Когда, когда я тебѣ говорила? — затарантила дѣвочка, — вотъ и стыдно лгать!
— Нѣтъ, ты говорила, — закричалъ обиженный мальчикъ.
— Постой, Миша, — перебилъ Сережа, — Зиночка вотъ что сказала: «бабушка говорить это только такъ, а всѣ на свѣтѣ боятся мертвыхъ».
— Ну видишь, моя правда, — закидывая на бокъ голову, проговорилъ Миша.
— Что же, я не сказала про бабушку, что она говорить неправду, — отвѣчала Зина.
— Ты была вѣжливѣе, мой другъ, но если подумаешь да разберешь, то увидишь, что смыслъ почти тотъ же, — сказала бабушка, усаживаясь на свое мѣсто.
Дѣти ее окружили, и Саша, присѣвъ на скамеечку и положа руки на старушкины колѣни, задумчиво глядѣла ей прямо въ глаза, и спросила:
— Ты ничего не боишься, бабушка?
— Какъ, дружокъ, ничего! я очень многаго боюсь! — Дѣти въ изумленіи переглянулись. — Я боюсь прогнѣвить Бога, т. е. не послушаться Его заповѣдей; я боюсь обидѣть или огорчить кого нибудь; я боюсь не слушаться царя и его законовъ; ну, еще боюсь всего вреднаго мнѣ или другимъ; боюсь ядовитой змѣи, боюсь вреднаго кушанья…
— А мертвыхъ? — въ нѣсколько голосовъ спросили дѣти. — А Лили?
— По мертвымъ я скучаю. Лили мнѣ будетъ жаль, потому что не увижу болѣе милаго ребенка. Да вотъ что, дѣти, знаете ли вы что такое умирать? — Бабушка взяла Зиночкину и Сашину руки въ свою, а увидя это, Миша и Лиза протянули и просунули свои ручонки туда же. — Умирать, значить: перестать жить на землѣ, а начать жить на небѣ. Когда Господу угодно человѣка взять къ себѣ, тогда человѣкъ или душа сбрасываетъ одежду, т. е. тѣло, вотъ это, которое видимъ на себѣ и другъ на другѣ, вотъ это — и бабушка потрясла четыре дѣтскія ручонки въ своихъ. — Душа бросаетъ тѣло, какъ вы сбрасываете съ себя платья. Снятыя платья и башмаки не ходятъ безъ васъ и не шевелятся; такъ ли, дѣти? спросила бабушка.
— Конечно, разумѣется! — закричали всѣ въ голосъ.
— Ну вотъ, точно также тѣло, брошенное душою, не ходить и не шевелится, а лежитъ, какъ пустая выползинка или личинка. Что такое душа? хотите вы спросить. Это вы сами, кромѣ тѣла, то, что въ васъ думаетъ, соглашается, хочетъ, не хочетъ, сердится и любитъ. Миша и Лиза протянули руки ко мнѣ, это душа ихъ подумала и захотѣла. — Дѣти молча смотрѣли на бабушку. — Давича Миша разсердился на Зиночку — и это душа его сердилась. Теперь вы всѣ слушайте меня, это слушаютъ души ваши, чрезъ уши, какъ чрезъ окошечко.
— Бабушка, душа моя такъ любитъ тебя, — говорилъ Сережа, обнимая бабушку, — я все слушалъ бы тебя!
— И мы, мы также, — кричали дѣти безъ умолку, цѣлуя старушку.
— Вѣдь вы выводили бабочекъ изъ гусеницъ? — спросила бабушка, — кто изъ васъ видалъ, какъ вылетаетъ бабочка изъ личинки своей?
— Я, я, мы видѣли, — говорили дѣти.
— Кто же бы подумалъ, глядя на личинку, — продолжала бабушка, — что въ ней растетъ такая красивая бабочка? Она покидаетъ личинку, какъ душа тѣло, и обѣ, т. е. и душа, и бабочка забываютъ о тѣлѣ, какъ о вещи болѣе непригодной. Сережа, скажи мнѣ, куда ты дѣвалъ сброшенныя бабочками личинки?
— Я не знаю, я ихъ просто бросалъ, — отвѣчалъ Сережа.
— Почти то же случается съ нами, только мы кладемъ въ гробъ и зарываемъ свои личинки въ землю.
— Бабушка, когда я помру, то жива буду? — спросила Саша, которая, какъ дитя неиспорченное, была склонна къ размышленью.
Много евангельскихъ изрѣченій мелькнуло въ умѣ старушки въ отвѣтъ внучкѣ, но они были бы неумѣстны, потому что дѣти были очень запущены въ понятіяхъ вѣры. Священную исторію они прочитали тупо, безъ всякаго соображенья, читали ее, какъ всякій другой разсказъ, или какъ волшебную сказку; съ ними обо всемъ, касающемся вѣры, должно было начинать сначала.
— Да, Сашенька, — сказала бабушка, — хоть и помрешь а все жива будешь, вѣдь человѣкъ умираетъ тогда, какъ я вамъ это уже говорила, когда настанетъ пора душѣ сбросить тѣло и идти жить въ небѣ.
— Бабушка, — сказалъ Алеша, — лучше всегда жить на землѣ а не умирать!
— Нѣтъ, дружокъ, — усмѣхнувшись на дѣтскую недальновидную мысль, отвѣчала старушка. — Тотъ, Кто создалъ для насъ землю, знаетъ и опредѣляетъ срокъ каждаго изъ насъ, долго ли на ней жить; Онъ, Господь нашъ, знаетъ, что для насъ лучше, а мы передъ Нимъ — какъ глупыя дѣти передъ родителями; дѣти желаютъ и просятъ того, чего и сами не знаютъ.
— Бабушка, — опять перебила Саша, — ну, когда я помру, что я въ небѣ буду дѣлать? Здѣсь я и съ папой и съ мамой, и тебя вижу и слушаю, и съ Мишей играю, ну и все такое, а что я буду дѣлать въ небѣ?
— Вотъ забота далась моей дѣвочкѣ, — сказала бабушка, смѣясь и цѣлуя внучку; — скажи-ка мнѣ вотъ что: когда я зову тебя въ свою комнату, почему ты идешь безотговорочно и не боишься, что тебѣ будетъ скучно или нечего дѣлать?
— Ахъ, бабушка моя! — говорила Саша, прижимаясь къ старушкѣ, — какъ же можно, скучно! Ты такая добрая, что мы всѣ рады идти къ тебѣ; мы уже знаемъ, что съ тобой всегда весело!
— А не знаешь весело ли, хорошо ли у Господа, который добрѣе всѣхъ бабушекъ, всѣхъ матерей и всѣхъ отцовъ земныхъ! Нѣтъ, Саша моя, только бы ты жила хорошо и послушно на землѣ, послушна заповѣдямъ Господнимъ, помнишь, какъ мы говорили въ рождественскій сочельникъ?
— Помню, помню, бабушка! я даже и имъ всѣмъ разсказывала, — отвѣчала Саша, кивнувъ головою на братьевъ и сестеръ.
— Ну, дружокъ мой, — продолжала старушка, — только бы мы дѣлали свое дѣло, а ужъ Отецъ небесный дастъ намъ болѣе радости и счастія, чѣмъ мы вздумать можемъ; каждый человѣкъ найдетъ въ небѣ свою семью, своихъ друзей, которые одинаково думали, одинаково жили, одно съ нами любили, одного желали; и тамъ еще дружнѣе будемъ думать, еще сильнѣе любить другъ друга, и всѣ вмѣстѣ будемъ любить Отца нашего.
Такъ говорила бабушка, дѣти же задумчиво сидѣли и слушали новыя для нихъ рѣчи.
•••
Чуть свѣтаетъ; бабушка стоить надъ кроваткой умирающей Лили, перекладываетъ ее то такъ, то иначе, а та все пищитъ; старушка осторожно взяла ее на руки и усѣлась съ нею въ подушки, на диванъ: крошка успокоилась и заснула; бабушка, не шевелясь, бережно ее держитъ. Около часу продержала она ее такъ; вдругъ Лили глубоко вздохнула, раскрыла глаза, осмотрѣлась, и остановила ихъ на бабушкѣ: видно было, что она узнала ее и обрадовалась ей, хотѣла поднять ручонку, чтобы погладить старушку по лицу, какъ обыкновенно ласкала ее, но рука опустилась, дитя опять закрыло глаза и болѣе не открывало ихъ. Бабушка долго и грустно смотрѣла на малютку; ей вспоминалось былое, не первый ребенокъ умиралъ на ея рукахъ; но и теперь, какъ тогда, она обратилась съ молитвою къ Тому, по чьей волѣ мы живемъ и умираемъ. Крѣпко и нѣжно поцѣловавъ ребенка, она сказала: «прощай, Лили, дитя Господне, иди къ Отцу нашему». Подержавъ покойницу еще нѣсколько времени на рукахъ, она тихонько переложила ее въ кроватку; потомъ подошла къ образамъ, и усердно помолившись, написала Сашѣ такую записку: «Господь призвалъ къ себѣ нашу Лили, она улетѣла на небо, какъ улетаетъ бабочка; малютка покинула тѣло, какъ личинку, которую мнѣ хочется убрать цвѣтами. Поѣзжайте съ сестрами въ цвѣтную лавку, возьмите хорошенькихъ цвѣтовъ и пріѣзжайте помочь мнѣ». Старушка приказала горничной отослать эту записку въ десять часовъ утра, а себя разбудить, какъ только станутъ въ домѣ вставать; затѣмъ написала другую записку Алексѣю Романовичу, совѣтуя ему не привозить Алю для прощанья съ покойницею, чтобы не возбудить въ ней тяжкихъ воспоминаній о матери, — и сдѣлавъ все это, притворила къ себѣ дверь и заснула тѣмъ тихимъ сномъ, коимъ спятъ люди чистые и вѣрующіе.
Нѣсколько часовъ спустя, бабушка уже укладывала малютку въ боковой комнатѣ, на бархатномъ диванѣ; бѣлое легкое платье, отъ самаго горлышка по кончики ногъ, пышно одѣваетъ ее; она опоясана бѣлою же широкою лентою; на золотистые волоски надѣтъ вѣнокъ изъ свѣжей зелени; фарфоровое личико точно улыбается. Старушка надѣваетъ ей башмаки; послышался шумъ около двери, потомъ Мишинъ голосъ: «пустите меня, я напередъ», и съ этими словами вошелъ онъ, а за нимъ сестры. Бабушка, надѣвъ башмакъ, нагнулась, крѣпко поцѣловала ножку и привѣтливо кивнула дѣтямъ; всѣ обступили диванъ и молча смотрѣли на покойницу; на робкихъ лицахъ показалась тихая улыбка. Миша первый запрыгалъ и потянулся къ бабушкѣ цѣловаться, говоря: «какая она хорошенькая». Всѣ дѣти подтвердили въ одинъ голосъ то же. «Правда, правда, дѣти, дайте ка сюда цвѣты, я развяжу ихъ, мы еще лучше уберемъ тѣло». Развязавъ цвѣты, она ихъ раздала дѣтямъ, и каждый, другъ передъ другомъ, торопился заткнуть ихъ, то за поясъ, то около шейки, а остатокъ разбросали по всему платью.
Лиза, задумчиво стоявшая передъ покойницей, вдругъ съ громкимъ плачемъ бросилась обнимать и цѣловать ее; доселѣ она еще не понимала своей утраты; сначала глупый страхъ къ мертвой, наведенный на нее безразсудною гувернанткой, потомъ разумная мысль о смерти, поселенная въ ней бабушкой, занимали умъ и удерживали ее, но теперь заговорило сердце. «Ты ушла, Лили, и никогда не вернешься, говорила она рыдая и прижимаясь къ покойницѣ. Какъ скучно безъ тебя».
— Тише, тише, Лизочка, мама услышитъ, не тревожь ее, она и то больна, — сказала бабушка, притягивая къ себѣ дѣвочку.
— Бабушка, душечка, — шептала плача Лиза, — ужъ я никогда не стану играть съ Лиличкой, никогда больше не увижу ее, ужъ Лили нѣту, — говорила малютка, прижимаясь ко груди старушки и удерживая громкія рыданья.
Бабушка крѣпко прижала къ себѣ внучку, и давъ ей немного выплакаться, сказала вздохнувъ:
— Играть съ ней не станешь, и пока жива, на яву ее не увидишь! но, голубка моя, развѣ тѣхъ людей уже нѣтъ, которые ушли отъ насъ и не живутъ болѣе съ нами? Твоя Лили теперь не съ нами на землѣ, а въ небѣ, у Бога, но она тебя видитъ и слышитъ и любитъ лучше прежняго; она будетъ радоваться каждый разъ, какъ ты сдѣлаешь что-нибудь доброе: удержишься ли отъ вспышки или лжи, поможешь ли кому въ трудѣ, забудешь ли чью обиду и проч.
— Бабушка, душечка моя, я очень рада дѣлать все, все, за что Лиличка меня станетъ любить… Да какъ же Лили будетъ радоваться? стало быть она меня видитъ? Вѣдь она такъ высоко ушла, такъ далеко! — говорила Лиза, взглядывая въ окно, на небо: — я тамъ ничего не вижу!
— Увидать этими глазками, — сказала бабушка, цѣлуя Лизу въ глаза, — ты не увидишь; пока душа живетъ въ тѣлѣ, то видитъ только одно тѣло, но когда сброситъ его, то будетъ видѣть не одно тѣло, но и души людей. Лили смотритъ на тебя и видитъ такъ, какъ видятъ тебя ангелы съ неба.
— Пустите меня, ня тоже, показите литинку; — съ этимъ словомъ вбѣжала запоздавшая Софочка, запнулась, и растянулась блиномъ посереди комнаты; но плакать было некогда, вскочила и прямо черезъ Лизу къ бабушкѣ на колѣни: «Покази лити». Она не договорила и уставила глазенки на умершую. «Это… это не литинька, это Лили, робко проговорила она, не совсѣмъ однако же довѣряя себѣ, потому что личико покойницы нѣсколько вытянулось и носикъ заострился». — «Ахъ, Софа; закричало нѣсколько голосовъ, это уже не Лили, Лили пошла къ Богу, это ея тѣло, все равно какъ пустая личинка, безъ бабочки». подсказала Саша. Софочка присмирѣла, она смотрѣла и думала: «это не Лили, Лили ушла, а это тѣло, личинка, бабочка». Эти три слова мѣшались въ маленькой головкѣ, и она не знала, какимъ именемъ назвать то прекрасное, что лежало передъ ней.
Изъ оранжереи принесли большое цвѣтущее дерево камелію, усыпанное бѣлыми цвѣтами съ алыми крапинами, и поставили въ головахъ дивана. — «Дѣти, срѣжьте для Лили по одному лучшему цвѣтку». Всѣ бросились наперерывъ украшать головку ея, и бабушка, ободряя Зиночку, сказала: «а ты воткни цвѣточекъ свой въ вѣночекъ, посрединѣ». — «Погляди, бабушка, точно три бѣлыя звѣздочки», сказала Саша, любуясь вѣночкомъ. Между тѣмъ братецъ ея, посвоевольничавъ, настригъ цѣлую горсть цвѣтовъ и не зналъ куда съ ними дѣться; ихъ заткнули за кушачекъ, а остальные разбросали по платью.
— Миша, — сказала старушка, — возьми ручку покойницы, пощупай, какая она холодная и тяжелая, это всегда такъ бываетъ въ неживомъ тѣлѣ.
Миша взялъ ручку, развелъ ее, и подавая Сашѣ, говорилъ: «посмотри, Саша». И всѣ дѣти принялись щупать и гладить Лилину ручку. Въ это время вошелъ какой-то господинъ съ ящикомъ, спрашивая: здѣсь прикажете? Бабушка хотѣла встать, но Софочка уцѣпилась за нее и не пускала отъ себя, говоря: «бабушка, я тозе хочу, и она посмотрѣла на покойницу, — бабуська дусичка, я тозе, какъ Лили хотю». — «Что ты, къ Богу хочешь», сказавъ: «Да, моя крошка, придетъ время — и тебя позоветъ Богъ, а пока дожидайся, будь умница, миленькая дѣвочка». Съ этими словами старушка спустила ее съ колѣнъ и пошла толковать съ фотографомъ. Софочка знала, что миленькія дѣвочки, дожидаясь, сидятъ смирно; она взлѣзла на диванъ, усѣлась въ ногахъ покойницы; сложила руки и просидѣла такъ минутъ съ десять; соскучась наконецъ, она закричала: «бабуська скола». А дѣти въ это время ничего не слыхали: они облѣпили камеробскуру. Немного погодя раздалось громче: «скола ли». Потомъ, чрезъ минутку Софочка закричала еще громче: «скола ли меня Богъ заклититъ».
— Не знаю, Софочка, видно не скоро.
— Мнѣ мозьна пока къ нянѣ? — Дѣти засмѣялись.
— Можно, иди, играй, моя голубочка, — сказала бабушка, цѣлуя ребенка. Софочка вперевалку пустилась въ дѣтскую.
— Ну, дѣтки, — сказала бабушка, — теперь я пойду, а вы хотите, тутъ играйте, хотите, идите въ залу, только не очень шумите около спальни.
Дѣти весь день весело играли и весело заходили посмотрѣть и поцѣловать тѣло сестрицы, а Софочка совсѣмъ, съ игрушками, перешла подъ камелію и разставила тамъ: собачку, кошку, пичужекъ въ клѣткѣ; попугая же она не любила, его спрятала за дверь, хотѣла и сама взлѣзть на кадку камеліи, но няня сказала, что барышни на кадкахъ не сидятъ, поэтому она сѣла на скамеечку, взяла пичужекъ и стала ихъ кормить листочкомъ, суя въ клѣточку, приговоривая: «кусай позяласта». Вдругъ она подняла на няню большіе голубые глаза, и наклонивъ нѣсколько головку на бокъ, сказала: «ня тозе, какъ Лили, пойду къ Богу».
— Ты? нѣтъ, золотая моя, — говорила няня, садясь около нее на полъ, — нѣтъ, ты не уходи, будетъ и того, что Лили отъ меня ушла!
— Ня пойду, — рѣшительно сказала малютка.
— Пойдешь! ну я стану плакать, — говорила няня, закрываясь передникомъ; этого Софочка очень не любила, а потому припала къ ней и ну цѣловать ее и отымать передникъ отъ глазъ, утѣшая тѣмъ, что она пойдетъ послѣ, завтра, что означало въ понятіяхъ ребенка очень отдаленный срокъ. Въ сумерки бабушка застала Сережу въ ногахъ у покойницы; на колѣняхъ у него сидѣла меньшая сестра его, Мери, наша старая знакомка; она обвила шею брата одной ручонкой, склонясь къ нему головой, и полушопотомъ говорила: «да, Сережа я всегда буду тебя слушаться, чтобы, когда помру, Богъ взялъ меня къ себѣ, гдѣ Лили, гдѣ всѣ добрые».
Мирно и дружелюбно провели дѣти весь этотъ день; они, какъ настоящіе хозяева, встрѣчали посѣтителей, водили ихъ, показывали имъ покойницу, инымъ толковали, что самой сестрицы тутъ нѣтъ, что она ушла къ Богу рано утромъ, а это тѣло ея сброшено ею, какъ сбрасываетъ бабочка личинку. Чрезъ недѣлю фотографъ, принесъ прекрасную, отчетливую картинку, представляющую комнату всю въ цвѣтахъ, подъ большимъ цвѣтущимъ деревомъ; на диванѣ нѣжно покоится младенецъ въ вѣнкѣ, легкое бѣлое платье все усыпано цвѣтами. Эта картинка представляла умершую Лили, но въ ногахъ у ней, недумано-негадано, отпечаталась другая малютка, полная здоровья и жизни, съ задумчивымъ, чего-то ожидающимъ личикомъ: — это Софочка, которая, скрестя толстенькія ручонки, чинно и смирно дожидается призыва Господня.
КРЕСТИНЫ
Софья Васильевна, мать Саши и Миши, впервые послѣ долгой болѣзни своей обходила комнаты, опершись на руку мужа: онѣ кажутся ей и выше и свѣтлѣе прежняго; дойдя до любимой бѣлой комнаты, она остановилась передъ дверью ведущею съ широкаго крыльца прямо въ огромный, тѣнистый садъ. Изнутри, дверь эта обвита дикимъ виноградомъ какъ частою, зеленою сѣтью; тонкіе, сочные усики и молодые нѣжные отпрыски блестятъ и дрожать на солнышкѣ; снаружи, морозь изукрасилъ окна по-своему, отпечатавъ на нихъ зубчатыя морскія водоросли, а повыше ихъ, по чистому стеклу протянулъ тонкую иглистую сѣть, какъ корабельныя снасти. Стоять хозяева передъ дверью, миръ и радость въ душѣ ихъ, стоять и любуются прадѣдовскимъ садомъ: прямо передъ домомъ, какъ въ лѣсу на прогалинѣ, стоить полутора-вѣковой, темный сибирскій кедръ; могучіе сучья его широко раскинулись надъ снѣжной равниной луга; кедръ этотъ садилъ своими руками бояринъ Максимъ Абрамовичъ, прадѣдъ хозяйки. Позади зеленаго кедра, подъ густой опокой, тѣснится цѣлымъ, частымъ туманомъ роща чернолѣсья; плакучія березы чище и яснѣе другихъ выдаются въ своихъ прозрачныхъ серебристыхъ ризахъ, сіяя и искрясь на свѣтло-голубомъ небѣ.
Софья Васильевна легко и отрадно вздохнула и, поднявъ веселый взглядъ на мужа, проговорила: «какъ хорошо, какъ отрадно».
Изъ какой-то думы вывелъ Михаила Павловича добрый голосъ жены его. «Да, очень хорошо, отвѣчалъ онъ, но ты устала, пойдемъ, я доведу тебя туда, куда мы шли, — къ матушкѣ». Софья Васильевна еще разъ окинула взглядомъ комнату; стѣны, углы и простѣнки съ полу до потолка заставлены были богатою зеленью; повойныя и ползучія растенія красиво обвивали зеркала и окна; хозяева любили семейно собираться въ бѣлой комнатѣ, которую дѣти звали дачей. Уводя жену, Михаилъ Павловичъ сказалъ ей, что дѣти неотступно просили крестить сегодня малютку въ бѣлой комнатѣ, — на дачѣ.
— Что же, очень хорошо, — отвѣчала мать, — пойдемъ, я почти не видала дѣтей, они вѣрно у матушки. Миша что-то очень боекъ и предпріимчивъ, а Саша задумчива и какъ будто озабочена, — замѣтила Софья Васильевна.
Говоря это, они подошли къ дверямъ бабушки, и остановились: старушка сидѣла на широкомъ сафьянномъ диванѣ; на колѣняхъ у нея пріютилась Саша, а Миша съ малюткой Мери дружно, тѣсно усѣлись на мягкой, диванной ручкѣ; Сережа, Алеша и дядя Сережа, братъ молодой хозяйки, помѣстились на коврѣ, у ногъ бабушки, которая, глядя Сашѣ въ глаза, толкуетъ чинъ крещенья. Замѣтивъ дѣтей своихъ, она встала и сердечно обняла невѣстку; дѣти съ визгомъ окружили дядю съ теткой, малютка Мери почти кувыркомъ перелетѣла черезъ Мишу къ своей милой тетѣ, которая, поцѣловавъ ее, ласково погрозила дѣтямъ, показавъ имъ на покинутыя мѣста ихъ, а сама тихонько прошла въ уголокъ; и тамъ мужъ усадилъ усталую жену свою въ покойное старушечье кресло, а самъ, прислонясь къ стѣнѣ, смотрѣлъ и слушалъ. Душа его была полна любви, она на долю каждаго давала мѣру полную и переливающую.
Дядя Сережа, который у бабушки шаловливо бросился съ дѣтьми на коверъ, глядя на племянниковъ, мало-помалу присмирѣлъ: слѣдя за ихъ вниманьемъ, онъ волей-неволей и самъ сталъ вникать въ бабушкины рѣчи, въ толкованье крещенья.
«Крестить младенца, говорила бабушка, значитъ омыть, очистить его отъ природнаго грѣха, и посвятить, какъ будущаго человѣка, на службу Господу. Господь соединяется съ душою младенца, посылая ему свою силу и благодать, но этого соединенья Бога съ человѣкомъ мы не видимъ и не понимаемъ, а потому и называемъ таинствомъ; таинство это обряжено, то есть, какъ бы одѣто, обрядомъ крещенья, какъ душа одѣта тѣломъ; каждая вещь, каждое движенье въ обрядѣ, иносказательное. Крестная мать и отецъ отвѣчаютъ священнику за младенца на всѣ вопросы, и обѣщаютъ за него не быть злымъ, но добрымъ и послушнымъ; впослѣдствіи они же должны стараться помогать родителямъ воспитывать ребенка въ добрѣ и правдѣ». — При этихъ словахъ Саша робко взглянула на дядю, будущаго крестнаго отца малютки, и чувствуя свою слабость, въ недоумѣнье, еще крѣпче прижалась къ бабушкѣ. Старушка продолжала: — «Крестная мать приносить ребенка раздѣтаго, завернутаго въ однѣ пеленки и одѣяльце или ризки; это означаетъ, что какъ тѣло малютки не одѣто, такъ и душа ея не одѣта еще въ истинную вѣру: здѣсь понятія, познанія вѣры изображаются одеждой. Священникъ ставить воспріемниковъ съ младенцемъ, то есть крестнаго отца съ матерью, лицомъ къ востоку; это опять иносказательно означаетъ обращенье ихъ къ Господу, какъ къ душевному Солнцу человѣка. Потомъ онъ три раза дуетъ на младенца и трижды осѣняетъ его крестнымъ знаменіемъ. Замѣтьте, дѣти, что число три часто встрѣчается у насъ въ обрядахъ, и означаетъ дѣло полное, законченное. Помолясь Богу о принятіи и сохраненіи принесеннаго младенца, священникъ трижды отгоняетъ духа зла, потомъ просить Бога открыть ребенку мысленные, т. е. душевные глаза, на то, чтобы понимать слово Божіе; далѣе, просить дать ему на всю жизнь Ангела-хранителя, и затѣмъ, какъ бы сдувая съ дитяти все нечистое, говорить: «изгони, Господи, духа нечиста, духа лжи, лихоимства, духа гордости, и прими дитя это, какъ ягня Твоего стада».
Послѣднее уподобленье очень понравилось меньшимъ дѣтямъ; Саша улыбнулась, Миша захлопалъ о колѣни руками, а Мери потянулась спросить бабушку: «развѣ гордой быть нехорошо».
— Нѣтъ, дружокъ, нехорошо.
— А какъ же, бабуся, няня говорить про гостей: «они такіе нарядные, да гордые».
— Нянюшка твоя не понимаетъ хорошенько этого слова; у нея гордый значить: статный, видный, красивый.
— Бабушка, а я такъ понимаю, — говорилъ Миша, закидывая голову.
— Ладно, дружокъ, про это послѣ, — сказала старушка, и глядя на Сашу, продолжала: — «Священникъ оборачиваетъ воспріемниковъ на западъ, т. е. въ противную отъ востока сторону, и спрашиваетъ: отказываешься ли отъ злаго духа и злыхъ дѣлъ? Ты, Сашенька, отвѣтишь: отрицаюсь, т. е. отказываюсь; потомъ трижды спросить онъ: отреклась ли? ты отвѣтишь: отреклась. Послѣ этого онъ велитъ дунуть и плюнуть на полъ, чтобы показать этимъ свое отдаленье и нелюбовь къ тому, отъ чего сейчасъ отреклась. Затѣмъ, поворотить васъ опять на востокъ, спросить трижды: сочетаешься ли Христу, т. е. хочешь ли соединиться со Христомъ; на это ты отвѣтишь: сочетаюся, потомъ спросить: вѣруешь ли въ Него? ты скажешь: вѣрую яко Царю и Богу моему…
— Бабушка, я все забуду, когда и что надо говорить!
— Нѣтъ, моя голубка, — отвѣчала старушка, цѣлуя встревоженую дѣвочку, — тебѣ будутъ подсказывать. Слушай дальше: священникъ прочтетъ сѵмволъ вѣры, то есть молитву — Вѣрую, и спросить еще разъ: вѣруешь ли? и ты отвѣтишь: вѣрую; это онъ спрашиваетъ трижды, и ты трижды отвѣчаешь: вѣрую.
Вдругъ по корридору послышалась дѣтская бѣготня. Зина и Лиза проворно вбѣжали, и ну обниматься.
— Здравствуйте, здравствуйте, дѣти, — сказала бабушка, — садитесь, мнѣ нужно, до священника, досказать Сашѣ.
Лиза усѣлась, а Зина никакъ не хотѣла помять платье и стояла какъ распыженная кукла.
— Ну, Саша, потомъ на вопросъ: сочеталась ли ты? отвѣтишь: сочеталась; онъ велитъ поклониться, ты поклонишься, говоря: и поклоняюся Отцу и Сыну и Святому Духу.
Опять послышалось шлепанье маленькихъ ножекъ: то бѣжала Софочка.
— Баба, бабуська, — кричала малютка, — пусти, пусти, — пищала она, вывертываясь изъ рукъ братъевъ: Алеша тащилъ ее къ себѣ на колѣни, дядя Сережа къ себѣ. — Пусти, я къ бабѣ хотю, — и съ этими словами, растолкавъ всѣхъ, она стала прямо передъ бабушкой.
Видъ тихой, задумчивой Саши, одѣтой въ бѣлое тонкое платье подъ горлышко, въ бѣломъ широкомъ кушакѣ, видъ этотъ поразилъ малютку и будто что-то ей напомнилъ; разсѣянно принимая поцѣлуи со всѣхъ сторонъ, она глазъ не сводила съ Саши. Между тѣмъ бабушка продолжала: — «Священникъ молится и благословляетъ воду, беретъ елей (масло), чтобы помазать младенца на ту жизнь, которою ему придется жить на землѣ. Въ древности былъ обычай, помазывать елеемъ человѣка, идущаго на какой либо подвигъ; и здѣсь священникъ помазываетъ младенца, какъ будущаго человѣка, на безпрестанные подвиги жизни: грудь помазываетъ онъ на должное храненіе души; уши на ученье и слышаніе вѣры; руки на полезный дѣла; ноги на хожденье по заповѣдямъ. Выраженье: ходить по заповѣдямъ часто встрѣчается въ словѣ Божьемъ, и значитъ: узнавать заповѣди, обдумывать ихъ и стараться жить, какъ онѣ велятъ. Затѣмъ, священникъ беретъ ребенка и опускаетъ его трижды въ купель, говоря: «крещается раба Божія Любовь», потомъ надѣнетъ на нее рубашечку и скажетъ малюткѣ: «ты облачаешься въ ризу правды», т. е. тебѣ дается ученье вѣры, и ты, понявъ его, прими, какъ эту видимую одежду, и ходи въ правдѣ.
Софочка все это время, напыжившись, что-то думала; чинное вниманье дѣтей, думное, тихое личико Саши, все это напоминало ей что-то недавнее; она поглядѣла еще разъ на бѣлое платьице, на широкіе, длинные концы Сашинаго кушака, потомъ на свое зеленое шотландское платье.
— Сася, Сася, ты къ Богу идесь, тебя Богъ сколо позяветъ? Да? — говорила она, вопросительно глядя на бабушку.
Дѣти засмѣялись и зашикали на малютку: «Софа дурочка! Софочка, перестань».
— Ня тозе хотю, — говорила малютка, не зная сама чего хочетъ; ей нравилось прошлое, неясное чувство ея.
— Дѣвочка моя, — говорила ей бабушка, — сегодня Саша будетъ дѣло дѣлать, — крестить.
— Какъ это? — спросила Софочка, услыхавъ новое, незнакомое ей слово.
— А вотъ увидишь, — отвѣтила бабушка, — а теперь будь миленькая дѣвочка, не мѣшай намъ.
Софочка сложила на груди толстенькія ручонки и не знала что ей далѣе дѣлать. Сережа тихонько поманилъ ее пальцемъ, говоря: тумбочка, тумбочка, сюда! Дѣвочка съ радостью бросилась къ нему на шею, и ну, картавя шепотомъ, разсказывать, какъ она съ Сашей пойдетъ въ гости и къ Богу. Сережа цѣловалъ ее, уговаривалъ, что Саша никуда не пойдетъ, что она здѣсь дома будетъ свое дѣло дѣлать, крестить съ дядей Сережей, но ее ничто не брало — она лепетала свое, мѣшая Сережѣ слушать.
— Сережа, — закричала Лиза, — ты зажми ей ротъ, она сейчасъ перестанетъ.
И правда, только Сережа закрылъ ей ротъ ладонью, какъ дѣвочка успокоилась и стала обдумывать слышанное. Крестить — думала она — и это дѣло? Въ памяти Софочки замелькало много вещей одного названья: горничная Поля свое шитье зоветъ дѣломъ, и няня, копаясь спицами въ чулкѣ, говорить: не мѣшай дѣло дѣлать; а лѣтомъ, когда Софочка смотрѣла какъ ключница укладывала въ кадку зеленые огурчики, то эта закричала кому-то: вѣдь видишь, что дѣло дѣлаю! Все дѣло, думала Софочка, и то, что Саша будетъ дѣлать, также дѣло, но какое? — Мысль безъ образа осталась пробѣломъ въ дѣтской головкѣ, и Софочка, задумавшись, молчала, а Сережа съ прочими спокойно дослушали чинъ крещенья.
— Послѣ мѵропомазанья, — продолжала бабушка, — священникъ съ воспріемниками обходить, съ зажженными свѣчами, три раза вокругъ купели; здѣсь свѣчи изображаютъ свѣтъ истины, Господа Іисуса Христа, къ которому человѣкъ долженъ вѣчно стремиться, а эту вѣчность представляетъ или знаменуетъ кругъ, коимъ обходятъ купель, и въ которомъ нѣтъ конца. Послѣ этого священникъ состригаетъ съ темени малютки крестъ-накрестъ немного волосъ, въ знакъ того, что дитя предано власти Господней; этотъ обрядъ, и самое значенье его, также взято съ древняго обычая: встарь побѣдители остригали покоренныхъ, что и означало подвластность и покорность послѣднихъ.
Покончивъ разсказъ и крѣпко поцѣловавъ Сашу, бабушка встала и пошла къ сидѣвшей молча невѣсткѣ, но дѣти, такъ давно не видавшія любимую тетю, кинулись впередъ, обступили ее толпой и шумно засуетились, какъ пчелы вокругъ своего улья. Софочка и тутъ протерлась впередъ, и сидя на полу чуть дотрогивалась пальчикомъ до бѣлыхъ пуговокъ тетинаго капота, приговаривая: пудовта, пудовта, и это пудовта!
Бабушка стала приготовлять что нужно къ крестинамъ, выкладывая изъ плетенки рубашечку, сшитую Сашей, чепчикъ съ розовыми лентами, розовый поясокъ и золотой крестикъ на тоненькой золотой цѣпочкѣ, принесенный, по обычаю, крестнымъ отцомъ, дядей Сережей.
— Бабушка, можно къ вамъ? — спросила Аля, вбѣгая въ мѣховой шапочкѣ.
— Если здорова и не сплю, то всегда можно, — говорила бабушка, цѣлуя внучку въ смышленые глазки.
— Вѣдь я не одна, мы втроемъ, пріѣхали, — говорила Аля: — Лина, да Вѣра, двоюродная сестрица моя Вѣра Посошкова, — поясняла дѣвочка, поворачиваясь на всѣ стороны, то къ бабушкѣ, то къ дѣтямъ.
Старушка, наклонясь къ Алѣ, шепнула ей:
— А сказывала ли ты тетѣ, что привезешь съ собою гостью?
— Тетѣ, — вскрикнула Аля, — теточка всегда рада, когда намъ весело!
— Слышишь, Софья, — сказала бабушка, и въ отвѣтъ на это изъ угла послышались мягкіе переливы смѣха, какъ воркованье горленки.
— Тетя, душка моя, тетя, ты здѣсь, а я тебя не видала! — закричала обрадованная Аля; и широко раскинувъ объятія, понеслась, и припала къ теткѣ, засыпая ее поцѣлуями. Дѣти ея, племянники и даже постороннія дѣти, страстно любили Софью Васильевну; она, сама дитя душой, любила и тѣшила всѣхъ безъ различія, что даже часто служило ко вреду дѣтей.
— А какъ же это, Марья Александровна рѣшилась отпустить Вѣру безъ себя? — спросила Софья Васильевна.
— Видишь что, тетя, правда, что Марья Александровна никуда не пускаетъ Вѣру одну, но она ужъ очень обожаетъ нашу бабушку, а потому и рѣшилась отпустить Вѣреньку, — съ дѣтскою важностью отвѣтила Аля.
— Обожаетъ! да она ее никогда не видала, — смѣясь сказала тетка.
— Это, тетя, нужды нѣтъ. Марья Александровна говоритъ, что обожать можно заглазно, по наслышкѣ о жизни и дѣлахъ человѣка, а мы съ Сережей такъ часто разсказываемъ про бабушку; она говоритъ, что очень мечтаетъ о томъ, гдѣ бы ей увидать ее, — сказала Аля, выражаясь словами гувернантки, которая въ десятки лѣтъ не могла отвыкнуть отъ своихъ институтскихъ обычаевъ и выраженій.
— Да чего же легче пріѣхать ей къ намъ? — вопросительно сказала Софья Васильевна.
— Ну вотъ, и я тоже говорю, — отвѣчала дѣвочка, разводя руками, — а она отговаривается, что никогда не осмѣлится, что бабушка такая почтенная…. и много, много все такого хорошаго говорить она про бабушку.
— Странныя эти институтки стараго закалу, — промолвилъ Михаилъ Павловичъ; потомъ, глядя на племянницу, прибавилъ: — да ты, Алечка, скажи ей, что она сама почтенная, что мы ее очень уважаемъ и сами желаемъ ее видѣть у насъ въ домѣ.
Все еще стоя передъ теткой на колѣняхъ, Аля быстро, какъ птичка, вскинула голову, и зорко глядѣла на дядю, недоумѣвая зерна или мякину посыпали передъ нею, правду или насмѣшку сказалъ Михаилъ Павловичъ; дѣвочка знала, что дядя никогда ни надъ кѣмъ не насмѣхается, но ее смущало то, что онъ повторилъ о Марьѣ Александровнѣ почти слово въ слово ту же похвалу, которую Аля слышала отъ старушки-гувернантки о бабушкѣ, которую Аля цѣнила выше всѣхъ.
Замѣтя недоумѣнье дѣвочки, Михаилъ Павловичъ сказалъ: «Да, душечка, скажи ей, что мы давно уважаемъ ее, какъ добрую наставницу».
Недоумѣнье Али прошло, она радостно обхватила тетку и чмокнула ее въ самую пряжку кушака.
— Да идите же, — кричалъ Миша, подталкивая худенькую дѣвочку, подросточка Вѣру, и шедшую съ нею Лину.
— Ужъ купель принесли! Пустите, что вы стали въ дверяхъ, ужъ купель тамъ поставили, — точно захлебываясь, кричалъ за ними Алеша.
Всѣ встали, засуетились, бабушка опять подошла къ плетеночкѣ, Саша бросилась къ старушкѣ и робко прижалась къ ней, прочія дѣти понеслись волной въ бѣлую комнату, и въ главѣ ея гребнемъ влетѣли Миша съ Алешей, и стали на порогѣ.
Посреди комнаты облачался почтенный священникъ въ праздничныя бѣлоглазетовыя ризы, у купели зажигали свѣчи; вмѣстѣ съ причетниками суетилась, разодѣтая, какъ въ святъ день до обѣда, няничка, какъ прозвали дѣти старушку, отцову няню, — въ отличку отъ своей.
Обрядъ начался. Какъ встарь, надъ поверхностью водъ носился Духъ Божій, такъ и нынѣ, надъ купелью благодать Божья осѣняетъ души вѣрующихъ людей, проникаетъ ихъ тепломъ, располагая сердца ко взаимному снисхожденью, доброжелательству и благости.
Задумчиво стоитъ надъ купелью воспріемникъ; сознательно и отчетливо отвѣчаетъ Саша; въ ней затеплилось святое чувство покровительства меньшому, и еще что-то, неясное, восторженное, что свѣтитъ въ глазахъ и пылаетъ на лицѣ.
Всѣ дѣти внимательно слѣдятъ за ходомъ обряда; маленькая Мери стоитъ на стулѣ, около Сережи, обнявъ шею его одной рукой, а другою держится за Лину; Софочка, въ очень дружескихъ отношеніяхъ съ нянею, сидитъ у нея на рукахъ и безпрерывно сообщаетъ ей свои замѣчанія, пересыпая ихъ поцѣлуями: — «Дитя — мааленькое, мааленькое, шепчетъ она на распѣвъ, показывая на послѣдній суставчикъ своего указательнаго пальчика; дитя купатьтя, пать пать будетъ, а пакить не будет», прибавляетъ она успокоительно, обнимая няню.
Священникъ поднялъ младенца надъ купелью; дѣти, затая дыханье, подвинулись впередъ. Раздалось великое слово:
— Крещается раба Божья Любовь, во имя Отца и Сына и Святаго Духа! — Благоговѣйно преклонились въ другой комнатѣ отецъ съ матерью, молясь за судьбу дочери.
Бабушка стоить около Саши; казалось она вся обратилась въ заботу и помощь маленькой воспріемницѣ но Тотъ, кто знаетъ тайное человѣка, Тотъ видитъ, какъ въ тайникѣ души ея чувство складывается мыслію, и слышитъ: Господи, да обратится земное имя Любовь въ душевное ея качество, да будетъ она свята земною любовью для людей, да стремится вѣчно къ образу и подобію Твоему!
Заботливо подбираетъ бабушка ризки, укладывая ихъ на руки воспріемника, который, вмѣстѣ съ Сашей, обносятъ дитя и зажженныя свѣчи вокругъ купели.
— Свѣтъ свѣчей означаетъ Господа, — думаетъ Сережа, и тихонько сообщаетъ это Алѣ, которая жадно слушаетъ всѣ его толкованія; — они пойдутъ три раза вокругъ купели, продолжаетъ онъ, а кругъ, значить то, что безъ конца, — что вѣчно; число же три — тутъ Сережа остановился: — это я не помню, — сказалъ онъ, — но все вмѣстѣ значить, что Люба должна думать и жить, какъ Господь приказалъ.
Софочка, завидѣвъ въ другой комнатѣ голубой мериносовый капотъ и бѣлыя фарфоровый пуговки, въ прискочку мячикомъ покатилась туда прямо къ тетѣ. Между тѣмъ обрядъ кончился, Саша съ дядей несутъ свою крестницу къ Софьѣ Васильевнѣ: «Вотъ тебѣ, мама, наша дочка», сказала Саша, а увидя отца, бросилась къ нему на шею, и заплакала; душа ея была слишкомъ полна, она перелилась чрезъ край и вылилась слезами.
ЗЕРНО НА ДОБРУЮ ПОЧВУ
Часу въ осьмомъ вечера, бабушка пила чай въ своей комнатѣ, по тому случаю, что сына и невѣстки не было дома; подлѣ нея сидѣла Аля за своей чашкой, изрѣдка поглядывая на разогнутую нѣмецкую книжечку, которую она привезла почитать съ бабушкой. Ей очень нравился разсказъ объ упавшемъ съ неба лепесточкѣ, и она пріѣхала подѣлиться имъ.
Саша съ Мишей, не понимая по-нѣмецки, забрались съ игрушками въ уголъ, и строили тамъ подъ стульями бесѣдку для куколъ и птицъ, да еще конюшню для лошадей голубаго гусара. Аля первая заслышала шелестъ шелковаго платья въ корридорѣ, вскочила на встрѣчу нежданнымъ гостямъ, но тутъ же въ дверяхъ столкнулась съ теткой Марьей Романовной, которая, разодѣтая какъ на балъ, плавно входила въ комнату, а за нею чопорно шли разряженный куколками дочки ея, Зина съ Лизой.
— Вѣдь не ко мнѣ же ты такъ разодѣлась, Маша, — шутливо спросила старушка.
— Нѣтъ, милая тетушка, я къ вамъ заѣхала на часокъ, мы ѣдемъ на дѣтскій вечеръ, — отвѣчала Марья Романовна, усаживаясь подлѣ старушки.
— Тетя, а тетя! — кричалъ Миша, проталкиваясь къ теткѣ, — правда это, что Луи подарили настоящую живую лошадь?
— Тетя, правда это, что Ниночка будетъ учиться на конькахъ кататься, и что лѣтомъ ей также купятъ маленькую настоящую лошадку? — спрашивала Саша.
— Не знаю, дѣти, не слыхала.
— А ты, тетя, узнай, да и разскажи намъ, — сказалъ Миша, по привычкѣ своей говорившій со старшими, какъ съ равными.
Между дѣтьми зашли толки о ледяныхъ горахъ, конькахъ и салазкахъ; одному хотѣлось одного, другому нравилось иное; мысль о рѣзвомъ бѣгѣ по льду тѣшила дѣтей, и они стали придумывать, какъ бы имъ испытать эту забаву.
Старушка, изрѣдка поглядывавшая на шумную толпу, вдругъ спросила племянницу: «Здорова-ли Лиза». Марья Романовна, съ недоумѣньемъ поглядѣвъ на тетку, подозвала меньшую дочь и спросила: развѣ у тебя что болитъ? Отрицательный отвѣтъ Лизы успокоилъ мать, но бабушка умѣла лучше вывѣдывать у дѣтей то, что имъ самимъ было неясно. Она взяла жавшуюся внучку за руку и спросила: «Тебѣ жарко, Лиза».
— Ахъ нѣтъ, бабушка, мнѣ очень холодно, я весь день зябну.
— А здѣсь болитъ? — спросила старушка, прикладывая руку Лизѣ къ лбу.
— Нѣтъ, бабушка, тутъ не очень болитъ, а вотъ, когда я пила чай, то мнѣ было больно глотать.
Выслушавъ Лизу, старушка повернулась къ племянницѣ и сказала ей: «Маша, я тебѣ не совѣтую вывозить ребенка на воздухъ въ такомъ положеніи, у нея то что зовутъ доктора катаральной лихорадкой; оставь ее у меня дня на три, можетъ быть это и пройдетъ безъ врачебныхъ пособій».
Марья Романовна, напуганная смертью меньшой дочери, охотно согласилась на это предложеніе, и это былъ большой праздникъ для всѣхъ дѣтей. Радостная Саша, взявшись съ Лизой за руки, побѣжала помочь ей переодѣться.
— Не забудьте занавѣсокъ, — закричала Сашѣ вслѣдъ бабушка.
— Какъ же, какъ же, бабушка! — отозвалась Саша, — и шторки спустимъ, и дверь на задвижку запремъ!
Дѣти стали пріучаться къ порядку, съ тѣхъ поръ, какъ поселилась у нихъ бабушка; даже Миша не бѣгалъ болѣе полуодѣтый по дому, и не сзывалъ прислуги, чтобы обуться или умыться; имъ купили низенькіе умывальные столики съ подножкой, отъ нажима которой вода лилась широкой, свѣтлой струею въ пригоршни и они охотно сами плескались и полоскались. При одѣваньѣ же и раздѣваньѣ, дѣти, по наставленью бабушки, очень совѣстливо наблюдали, чтобы занавѣски были спущены и двери притворены.
Марья Романовна уѣхала съ Зиной, Аля принялась было читать бабушкѣ разсказъ Андерсена, но вбѣжавшія дѣти опять ей помѣшали.
— Бабушка, скажи пожалуйста, развѣ дьяконъ въ церкви все по-русски читаетъ? — спрашивала Саша. — Лиза говорить, что по-русски, а я думаю, что не все по-русски потому что инаго нельзя понять.
Дѣвочки стали передъ бабушкой, ожидая ея рѣшенія.
— Священникъ, дьяконъ и весь причтъ читаютъ церковную службу не на нашемъ, русскомъ языкѣ, а на славянскомъ, и мы, вслушиваясь и вникая, не учась понимаемъ его, потому что нашъ языкъ произошелъ отъ общаго славянскаго и къ нему весьма близокъ; поэтому мы, съ небольшимъ навыкомъ, можемъ понимать и другіе языки родныхъ намъ славянскихъ племенъ, которые разбросаны посреди Европы; большая часть племенъ этихъ покорена небольшимъ Австрійскимъ герцогствомъ, и вмѣстѣ съ нимъ называются Австрійскою имперіей.
— Бабушка, Австрійская имперія большая? — спросили дѣти.
— Съ славянскими землями велика.
— Бабушка, вотъ ихъ зовутъ славянами, а отчего же насъ зовутъ русскими? — спросили меньшія дѣвочки.
— И у нихъ, дѣти, есть свои особенныя имена, чтобы отличить одно племя отъ другаго; они зовутся болгары, сербы, чехи, хорваты, словаки, черногорцы, галицкіе руссы и проч.
— Если бы къ намъ пришелъ сербъ, онъ бы понялъ, что мы съ тобою говоримъ?
— Съ непривычки, онъ понялъ бы, какъ говорится, изъ пятаго въ десятое; но дай ему эту книгу, — сказала бабушка, придвигая къ себѣ Евангеліе, — и онъ пойметъ ее всю, съ начала до конца, такъ же хорошо, какъ и я ее понимаю.
— Неужели, спросила Аля, каждый сербъ, чехъ и болгаринъ пойметъ наше Евангеліе?
— У всѣхъ почти славянъ слово Божіе писано на одномъ языкѣ; болгаринъ даже легче нашего пойметъ его, потому что оно переведено съ греческаго Кирилломъ и Меѳодіемъ, болгарскими монахами, на тогдашній болгарскій языкъ.
— Бабушка, а вѣдь это весело думать, что у насъ есть что-нибудь одно съ ними, и мы всѣ это одинаково любимъ! Не правда ли, бабушка, это весело? — ласково спрашивала Аля, умильно заглядывая старушкѣ въ глаза.
Нѣжно и тихо усмѣхнувшись на эту задушевную рѣчь внучки, старушка молча поцѣловала Алю.
— Бабушка, и они насъ любятъ? — спросила Саша.
— Кто, дружокъ?
— Да они всѣ, тѣ люди, про которыхъ ты говорила, тѣ… что ты называла роднею нашей, — поясняла Саша, не могшая припомнить названій разныхъ славянъ.
— А ты ихъ любишь? — спросила старушка.
— Я? — сказала удивленная Саша: — бабушка, я ихъ совсѣмъ не знаю!
— Правда, моя дѣвочка, и нельзя любить того, чего не знаешь; думаю, что и они насъ знаютъ немного по-болѣе твоего! А все-таки, — сказала старушка, поворачиваясь къ старшей внучкѣ, — отрадно, дружокъ, что есть между народами такая высокая связь, какова у насъ съ родными намъ славянскими племенами.
Полубольная Лиза мало участвовала въ этомъ разговорѣ; она сидѣла на диванѣ, подобравъ подъ себя ноги; ей было такъ хорошо и свободно, въ Сашиной теплой, кашемировой блузочкѣ; ей думались тѣ счастливые дни, которые она теперь здѣсь пробудетъ. Вскорѣ подсѣла къ ней Саша; и Аля уже готова была взяться за Андерсена, но сестры ея, надумавъ что-то, обратились опять къ бабушкѣ съ вопросомъ.
— Бабушенька, почитай мнѣ немножко изъ твоего Евангелія; Лиза говоритъ, что если я хорошенько вслушаюсь, то пойму.
Такъ упрашивала Саша свою терпѣливую бабушку. Въ Лизѣ замѣчательно развивалась способность къ языкамъ; никто не училъ ее церковной грамотѣ, а она довольно порядочно читала ключницѣ вслухъ псалтырь; никто не толковалъ ей значенье словъ или оборотовъ, а она ихъ уже на столько понимала, что слушала славянскій языкъ, забывалась и принимала его за свой родной, русскій.
Саша придвинула Евангеліе, открывъ на своей закладкѣ; бабушка перевернула нѣсколько листковъ, потомъ прочитала внятно, съ разстановкой, изъ десятой главы Маркова Евангелія: «И приношаху Ему дѣти, да коснется ихъ, ученицы же прещаху приносящимъ. Видѣвъ же Іисусъ, негодова, и рѣче имъ: оставите дѣтей приходити ко Мнѣ и не браните имъ, тацѣхъ бо есть царствіе Божі». Прочитавъ это, старушка посмотрѣла на удивленную Сашу.
— Ну, Саша, — закричала Лиза, — развѣ это не все равно, что по-русски, развѣ ты этого не понимаешь?
— Конечно по-русски, — бойко закричалъ Миша, которому слова показались знакомыми, а о смыслѣ онъ не заботился.
— Прочитай, душечка бабушка, еще разъ, — сказала недоумѣвающая Саша, которую поразило что-то въ выговорѣ, да и самый смыслъ она не совсѣмъ поняла.
Почти на первыхъ словахъ она остановила старушку, вопросомъ: — это что значить, и приношаху и прещаху?
— По нашему, — отвѣчала бабушка, — приношаху значить приносили, а прещаху — значить запрещали.
Потомъ дѣвочка остановила ее на словѣ тацѣхъ.
— Тацѣхъ, значить такихъ; на славянскомъ языкѣ буква к часто замѣняется буквою ц, когда говорится о многихъ; по-русски говорится: ученики, а по-славянски ученицы; по нашему руки, а по-славянски руцѣ.
Пока бабушка читала и толковала, Саша все тянулась и слѣдила за пальцемъ старушки; замѣчая же, что она, прежде чѣмъ выговорила для примѣра руцѣ, что-то прочла про себя, дѣвочка попросила прочесть тѣ строки вслухъ; и старушка прочитала медленно: «и объеме ихъ возложе Руцѣ на нихъ, благословляше их», и тотчасъ же перевела это такъ: Господь обнялъ дѣтей, и положа на нихъ руки, благословилъ ихъ.
— Бабушка, это кто обнялъ дѣтей? Богъ-то?
— Да, Мишенька, Господь обнялъ и благословилъ ихъ.
— А за что Онъ обнималъ и благословлялъ ихъ? — спрашивалъ удивленный мальчикъ.
— За то, дружокъ, что ихъ обижали, гнали, не допускали къ Господу, а Онъ любитъ и жалѣетъ всѣхъ людей, особенно тѣхъ, кого обижаютъ; Онъ всегда заступается за нихъ и утѣшаетъ ихъ.
— Бабушка, это очень хорошо! — говорилъ Миша, все ближе и ближе становясь къ старушкѣ; — а дѣти Его очень любили? — горячо допрашивалъ мальчикъ, прижимаясь къ бабушкѣ и оттѣсняя Сашу: — да Саша, пусти — сказалъ онъ наконецъ, оттолкнувъ сестрицу и ставъ на ея мѣсто.
— Какъ же не любить! разумѣется любили, и слушались Его, и никогда не отгоняли и не отталкивали другъ друга, чтобы стать на чужое мѣсто, — прибавила старушка, пристально глядя на Мишу. — Господь велитъ заботиться другъ о другѣ, никого не обижать, говорить правду, не лгать; кто изъ дѣтей слушается Его, того Онъ и любитъ.
— Вѣдь ужъ Богъ теперь на небѣ! — сказалъ Миша въ раздумьѣ, — ужъ Онъ болѣе не здѣсь!
— Это, Мишенька, все равно: Богъ одинаково видитъ, слышитъ и знаетъ все, что мы дѣлаемъ, слушаемся Его или нѣтъ, обманываемъ, обижаемъ кого, или заботимся другъ о другѣ; все это Онъ видитъ точно такъ какъ бы стоялъ здѣсь, передъ нами.
Миша, взглянувъ на Сашу, посторонился немного, давая ей мѣсто, потомъ, надумавшись, вдругъ воскликнулъ: «А когда у меня няня на ночь гаситъ свѣчу, вотъ тогда ужъ темно, такъ что Богъ меня не видитъ».
— Видитъ и тогда, дружокъ, для Его очей и темная ночь ясна, какъ день! И не только видитъ тебя, но знаетъ все, чего тебѣ хочется, и о чемъ ты думаешь; обидишь ли кого, и опомнясь, пожалѣешь и поправишь вину свою, Господь видитъ и душу твою, и дѣло, и благословить тебя также, какъ благословлялъ евангельскихъ дѣтей, — сказала старушка, обнимая и цѣлуя внука, который еще крѣпче къ ней прижался, когда она при этомъ шепнула ему что-то на-ухо, напомнивъ, какъ онъ толкалъ сестру, но вскорѣ опомнясь, посторонился.
Пришла няня звать дѣтей спать, но пришла не впопадъ: всѣмъ имъ показалось это слишкомъ рано, имъ бы хотѣлось еще послушать, еще о многомъ спросить, но о чемъ именно спросить, они и сами не знали!
— Пора, дѣтки, вы и то пересидѣли, — сказала бабушка, — а если что надумаете, то спросите завтра.
Начались нескончаемый дѣтскія прощанья: вотъ, кажется, одинъ кончилъ, началъ другой обниматься, анъ нѣтъ, Миша видно не допростился, опять начинаетъ снова. Саша кончила и хотѣла уже идти вслѣдъ за Лизой въ дѣтскую, а Лиза, взглянувъ на свою чистенькую кроватку подлѣ Сашиной, побѣжала благодарить бабушку за то, что она оставила ее у себя.
— Идите дѣти, идите, Господь съ вами, давно пора спать!
— Ужъ нечего дѣлать, — сказалъ Миша, опустивъ голову, — надо идти! Прощай, бабушка, — продолжалъ онъ, обнимая въ третій разъ усталую старушку, и потомъ примолвилъ: — ты не безпокойся, бабушка, у меня занавѣски спустятъ, когда стану раздѣваться, и дверь затворять.
Только-что оправилась и усѣлась бабушка, а Аля принялась за книжку, какъ вбѣжала Саша въ одной юбочкѣ, ночной кофточкѣ и чепчикѣ, а за нею слѣдовала въ такомъ же нарядѣ Лиза. Увидавъ дѣтей, старушка спросила: что у нихъ случилось?
— Ничего, душечка, совсѣмъ ничего, — успокоивала Саша; — мы вотъ съ Лизой толковали, да и пришли тебя спросить: какъ Господь говорилъ съ дѣтьми; по-славянски, или по-русски?
— Ахъ вы, дурочки, да вѣдь это можно бы спросить и завтра! — сказала бабушка, заботливо поглядывая на столовые часы, — посмотрите, ужъ сорокъ минуть десятаго, идите лучше спать!
— Бабушка, — вступилась Аля, — позволь имъ сегодня еще посидѣть, имъ приходится же иногда сидѣть въ гостяхъ до одиннадцати часовъ.
Дверь Мишиной комнатки громко хлопнула, и вотъ онъ самъ, полуодѣтый, явился въ корридорѣ, заглядывая къ бабушкѣ въ дверь.
— Что, и ты, молодецъ, поспѣлъ? да никакъ босикомъ, — спросила бабушка, взглядывая на Мишу, которому всячески хотѣлось скрыть эту неисправность, — поди, поди, голубчикъ, одѣнься хорошенько, и тогда приходи. Ужъ видно вамъ, дѣтки, придется просидѣть до десяти часовъ.
— Бабушка, а сестры-то? — спросилъ Миша, поглядывая на дѣвочекъ.
— Что же, дружокъ, сестры твои, хотя и въ утреннемъ нарядѣ, но одѣты прилично, а ты прибѣжалъ босикомъ, распояской; иди же, иди скорѣе, я подожду тебя!
— Ну, смотри же, бабушка, подожди меня, я сейчасъ!
Старушка накинула на Лизу свой платокъ, и когда дѣти собрались, она начала такъ:
— Вы спрашиваете, на какомъ языкѣ говорилъ Господь съ маленькими дѣтьми; вѣроятно на томъ языкѣ, который они всѣ знали, то-есть на ихъ природномъ языкѣ, иначе бы они его не понимали.
— А какой же былъ ихъ языкъ? — спросили дѣти въ три голоса.
— Еврейскій, языкъ Авраама, Іосифа, Моисея и царя Давида.
— А не русскій? — медленно проговорилъ Миша.
— Во времена Господни, не только русскаго языка, но и самихъ русскихъ еще и въ поминѣ не было, отвѣчала старушка.
— Бабушка, меня очень удивляетъ, отчего Господь жилъ и родился у евреевъ; чѣмъ же они были лучше другихъ народовъ? — спросила Аля, — они убили Господа и убивали Его пророковъ!
— Да уже тѣмъ были они лучше, моя Аличка, что сберегли ветхозавѣтное слово Божье и что между ними были люди, ждавшіе пришествія Господня!
— Такъ Господь не съ нами жилъ, — вздохнувъ сказала Саша, — а я думала, Онъ нашь!
— И Онъ нашъ, и мы Его. Господь пришелъ на землю не для одного народа, а для всѣхъ; если евреи Его распяли, то язычники съ радостью приняли Его ученье, назвались, по Его имени, христіанами, и многіе изъ нихъ пожертвовали жизнію за имя это и за святое ученье Христа, которое зовутъ христіанской вѣрой. Вѣрѣ этой учили апостолы, то-есть ученики Господни, которые вездѣ сопровождали Его, видѣли все, что Онъ дѣлалъ, слышали все, чему училъ, и по вознесеніи Его на небо, пошли учить въ тѣ земли, гдѣ народъ, по отдаленности своей, не могъ видѣть и слышать самого Господа. Почти всѣ они умерли мученической смертью. Четверо апостоловъ написали все то, что видѣли и слышали отъ Господа; эти четыре списка называются: радостью, благою вѣстью, а по-гречески Евангеліемъ. Звали же этихъ четырехъ евангелистовъ: Матѳеемъ, Маркомъ, Лукой и Іоанномъ; писали они, одни по-еврейски, другіе по-гречески; греческій языкъ былъ тогда самый общій и любимый всѣми народами; для насъ же, какъ я сказала, Евангеліе переведено на славянскій. Съ Рождества Христова прошло восемнадцать съ половиною вѣковъ, а въ каждомъ вѣкѣ сто лѣтъ; если же считать годами, то будетъ тысяча восемьсотъ лѣтъ, да изъ девятнадцатаго вѣка мы уже прожили семьдесятъ три года. Такъ вотъ, дѣти, сколько лѣтъ прошло съ Рождества Христова! Ну, теперь полно намъ толковать, пора спать!
И бабушка поднялась съ мѣста, спроваживая дѣтей въ постели.
— А съ тобой, дитя мое, намъ сегодня не удалось почитать, — говорила старушка Алѣ, — до другаго раза.
— Не удалось, душечка! да я къ тебѣ скоро пріѣду, папочка очень любить, когда ты зовешь насъ къ себѣ, и дядя также, и тетя Ольга Борисовна. Знаешь ли, бабушка, мы бы къ тебѣ еще чаще ѣздили, да папа боится, что ты устаешь съ нами!
— Нѣтъ, Аля, скажи отцу, что для меня радость и отдыхъ быть съ вами, — задумчиво отвѣтила бабушка, прощаясь со внучкой.
Дѣти разошлись; старушка походила еще съ четверть часа по комнатѣ, передумывая разговоръ свой со внуками; потомъ, подойдя къ столу, бережно закрыла Евангеліе и вздохнувъ изъ глубины души, сказала: «Пошли, Господи, доброе сѣмя на добрую почву».
БУДНИЧНАЯ ЖИЗНЬ
— Мама, мама, папа въ шубѣ! папа шубу купилъ себѣ! — кричала Лина, вбѣгая въ кухню къ матери, которая достряпывала обѣдъ съ своей единственной служанкой. — Какую себѣ папа шубу купилъ! — кричала она, всплескивая руками, — такая теплая, пушистая!
Спѣшно мѣшая что-то въ кастрюлечкѣ, мать радостно проговорила: «Слава Богу, дитя мое! шуба эта сбережетъ много здоровья отцу твоему».
— Эмилія, Эмилія, — закричалъ въ дверь Эдуардъ Ивановичъ, — погляди, что я тебѣ привезъ!
Линочка скользнула изъ кухни и стала въ недоумѣніи передъ отцомъ, который вынималъ изъ узла и стряхивалъ лисій салопъ, крытый чернымъ атласомъ.
— Что это, откуда ты взялъ? — спросили въ голосъ мать и дочь. Эмилія Ѳедоровна знала, что мужъ ея уѣхалъ съ газетнымъ объявленіемъ искать себѣ шубу, но на дешевенькій салопъ у нихъ не доставало нѣсколькихъ десятковъ рублей, и потому она рѣшила, напередъ купить шубу, которая мужу ея была нужнѣе чѣмъ ей.
— Гдѣ же твоя шуба? — въ какомъ-то страхѣ спросила Эмилія Ѳедоровна.
Мужъ весело накинулъ на нее салопъ, и проворно снялъ со стула енотовую шубу, надѣлъ ее на себя и, поворачиваясь передъ женою, тѣшился ея недоумѣніемъ.
— Да что же это, Эдуардъ, скажи пожалуйста, что все это значить?
Довольный своей покупкой, Эдуардъ Ивановичъ разсказалъ женѣ, что, обходя Москву по объявленьямъ, онъ ничего не нашелъ годнаго; большая часть оказалась проданною, другая же была либо дурна, либо ему не по цѣнѣ. На пути онъ встрѣтился съ знакомишь, который послалъ его къ своимъ однодомцамъ, гдѣ мужъ и жена продавали свои шубы задаромъ.
— Бѣдные! — невольно сорвалось съ языка Эмиліи Ѳедоровны.
— Какое бѣдные! смѣясь сказалъ мужъ, напротивъ того, богатые, имъ посчастливилось: они выиграли въ лотерею или имъ достались по наслѣдству, не знаю хорошенько, большія деньги; мужъ и жена вздумали распродавать свои прежнія вещи, чтобы обзавестись щегольскими, и продаютъ все за безцѣнокъ. Когда мнѣ вынесли напоказъ шубу, я подумалъ: ну, это не про насъ! Хозяинъ сказалъ: «Вотъ, батюшка, за шубу эту я самъ заплатилъ нынѣшней осенью сто семьдесятъ рублей, а теперь отдамъ ее вамъ за полцѣны». Подумавъ немного, я вынулъ сторублевую бумажку, да и сказалъ: «Вотъ мой капиталъ, надо купить шубу и себѣ, и женѣ». Барыня всполошилась: «Возьмите, да возьмите мой салопъ; я его отдамъ за ту же цѣну, за что мужъ отдаетъ свою шубу». Тотъ было сталъ отговаривать, но она и слышать ничего не хочетъ! Онъ помянулъ что-то про тетушку, но барыня, передавая мнѣ салопъ, весело сказала мужу: «Что намъ теперь тетушка, мы сами себѣ господа». — Я держалъ бумажку въ рукахъ, и повторилъ: «Нѣтъ у меня больше, хоть обыщите». — Ну, домой сходите, сказалъ мужъ. — «Да и дома-то нѣтъ, вотъ весь капиталъ мой, говорю по совѣсти». — Барыня первая бросила мнѣ салопъ свой, а за нею и новый баринъ, подумавъ немного, сдѣлалъ то же. Я сунулъ ему скорѣе бумажку, да домой, чтобы не передумали: вѣдь у такихъ затѣйниковъ семь пятницъ на недѣлѣ! Погляди, Эмилія, какъ легокъ и хорошъ твой салопъ! говорили, что нѣтъ еще трехъ лѣтъ, какъ его сшили!
Салопъ и шуба переходили изъ рукъ въ руки. Линины родители долго трудились, чтобъ отложить отъ своего бѣднаго хозяйства сотню рублей, и вдругъ на эту счастливую, трудовую сотню купили они необходимый для нихъ вещи, потому что доселѣ сидѣли оба безъ шубъ, и купили за такую цѣну, что одна труженическая сотня ихъ пошла чуть ли не за четыре!
— Надо же мнѣ на радостяхъ потѣшить Лину, — сказалъ отецъ, и садясь обѣдать, развернулъ жиденькій бумажникъ, вынулъ изъ него рублевую бумажку, и отдавая ее дочери, сказалъ: — это тебѣ на угощенье подругъ!
Счастливая Лина! наконецъ-таки исполнилось твое давнишнее желанье! — «Вотъ теперь, сказала она, я позову Мери, Сашу и Алю! Мама, можно ихъ всѣхъ позвать? Вѣдь у меня ужасъ какъ много денегъ», добавила дѣвочка, поглядывая на задумавшуюся мать.
— Да, сердце мое, да, ты можешь пригласить ихъ, но мнѣ хотѣлось бы потѣшить этихъ добрыхъ дѣтей чѣмъ нибудь особеннымъ. Угощенія на ихъ дѣтскихъ съѣздахъ бываетъ болѣе чѣмъ нужно, и намъ съ тобой, на твой цѣлковый, не угоняться за ними; но я вотъ что придумала: такъ какъ всѣ дѣти вообще любятъ стряпать, то пригласи ихъ съ тѣмъ, чтобы вы всѣ вмѣстѣ сами состряпали свой обѣдъ, а я прибавлю къ твоему цѣлковому свой полтинникъ и еще тѣ тридцать пять или сорокъ копѣекъ, чего стоитъ нашъ ежедневный обѣдъ!
— Мама! — восторженно проговорила Лина, сжимая ручонки, — милая мама, какая ты добрая!
И дѣвочка схвативъ руку матери, крѣпко прижалась къ ней, потомъ бросилась на шею къ отцу, потомъ объявила свою радость старой чухонкѣ Анхенъ, которая бережно вносила въ комнату кучу тарелокъ и молочную рисовую кашу. Старуха остановилась, подумала и сердито сказала: «Эта кароса обѣдъ будетъ! А кто этотъ обѣдъ отъ маленки барисня кусать будетъ». Слова эти поохладили дѣтскую радость. Лина робко и вопросительно поглядѣла на мать, которая успокоительно кивнула ей головой. Эмилія Ѳедоровна одна умѣла ладить съ преданною ей, своенравною старухой.
— А я сафтра пуду полъ мыть! — задорливо сказала чухонка.
Быстрый взглядъ на жену и легкая усмѣшка Эдуарда Ивановича не застали Эмилію Ѳедоровну врасплохъ, она удивительно мягко умѣла вести упрямую старуху.
— Да, Анхенъ, пожалуйста, только поранѣе, чтобы чужіе люди не застали насъ врасплохъ; ты и посуду посвѣтлѣе вычисти, чтобы гости видѣли, что не у однихъ богатыхъ людей бываетъ порядокъ въ кухнѣ и въ комнатахъ.
Тактика барыни удалась; поглядѣвъ исподлобья и постоявъ немного, чухонка круто повернулась, забрала грязную посуду и пошла въ кухню, даже не хлопнувъ за собою дверью; это былъ добрый знакъ, его даже поняла Лина, и потому дѣвочка, обратясь къ матери, весело заговорила о предстоящей стряпнѣ:
— Что же мы станемъ стряпать, мама? навѣрно клецки съ черносливомъ, и сладкій супъ, и рисовую кашу съ корицей, и пышки съ вареньемъ?
— Нѣтъ, Линочка, этого нельзя, это все не русскія кушанья, надо угощать всякаго тѣмъ, къ чему онъ привыкъ и что любить.
— Ахъ, мама, это все такія прекрасный кушанья, всѣ гости навѣрно будутъ имъ рады!
— Нѣтъ, дитя мое, мы выберемъ лучше общія намъ блюда, напримѣръ: сваримъ мясной супъ съ курицей, курицу эту подадимъ съ рисомъ и съ тертымъ сыромъ; потомъ, мясныя котлетки и сладкій пирогъ, хоть лорхенкухенъ, знаешь?
— Очень, очень хорошо, чудесно! только, мамочка, нельзя ли намъ еще сдѣлать пирожковъ ком-моргенъ-видеръ, я ихъ такъ люблю!
— А что, Лина, — спросилъ отецъ, — если твои гости, понявъ названье пирожковъ: «приходи на завтра опять», что, если онѣ и послѣ-завтра пріѣдутъ къ тебѣ обѣдать?
Лина задумалась, наконецъ сказала: «Я имъ, папа, не скажу названья пирожковъ, — пусть это будетъ нашъ секретъ». Потомъ, обратясь къ матери, заботливо спросила, останутся ли отъ обѣда деньги на угощенье крымскими яблоками, до которыхъ дѣвочка была большая охотница.
— Не только на десятокъ яблоковъ, и на шоколадъ станетъ.
Обрадованная Лина, едва переводя духъ, тихонько проговорила: и на штрицель, мама?
— Быть можетъ и штрицель испечемъ, — сказала мать, вставая изъ-за стола, — къ счастью, что наши курочки занеслись.
Лина, въ дѣтской радости своей, забѣгала цѣловаться отъ отца къ матери, и отъ матери къ отцу; но успокоясь немного, она припала къ колѣнямъ матери, крѣпко обняла ихъ, и поднявъ голову сказала:
— Возьми меня съ собой, когда пойдешь за припасами!
— Конечно, надо же тебѣ самой закупить припасы къ своему обѣду; но напередъ всего, напиши одну общую пригласительную записку къ твоимъ гостямъ; Анхенъ разнесетъ ее по домамъ.
Посовѣтовавшись съ матерью, Лина написала слѣдующую записку:
«Милыя мои Саша, Мери и Аличка! «Мама и папа мои такіе добрые, они позволили мнѣ задать вамъ обѣдъ, и позволили намъ самимъ его состряпать! Подумайте только, какъ это будетъ весело! настоящій обѣдъ, и супъ, и котлетки, и вафли, все это сами изготовимъ! Я иду съ мамой сама закупать припасы, все самое лучшее, — денегъ у меня очень много!
«Пріѣзжайте пораньше. Мама велѣла сказать, что сама станетъ съ нами готовить.
«Ваша вѣрная Лина».
Въ сумерки, раскраснѣвшіяся отъ мороза мать съ дочерью вернулись домой, и обѣ принесли по кульку; старая Анхенъ отперла имъ дверь и весело проговорила:
— Барисиа всѣ кароси, кланятся фелятъ, сафтра пудутъ.
Напившись чаю, Эмилія Ѳедоровна велѣла Линѣ записать счетъ, сказавъ напередъ: молоко на шоколадъ и на вафли намъ пришлетъ тетя, а мы съ тобой запишемъ только то, на что издержали деньги.
| 4 ф. | бульонной говядины, по 5 к. | 20 к. |
| 4 ф. | мягкой говядины въ начинку и котлеты, по 7 к | 28 к. |
| 1 | курица | 30 к. |
| 1 ф. | русскаго масла, жарить пирожки и котлеты | 22 к. |
| 1 ф. | чухонскаго, въ вафли. | 25 к. |
| 1 ф. | сахарнаго песку. | 19 к. |
| 3 ф. | лучшей крупитчатой муки на печенье, по 6 к. | 18 к. |
| ¹⁄₂ ф. | шоколаду | 40 к. |
| Итого. 2 р. 2 к. | ||
— Всего на все закуплено на два рубля двѣ копѣйки, — сказала мать; — теперь, давай сочтемъ, велики ли паши съ тобой деньги? папа далъ тебѣ рубль, я подарила полтинникъ, — это выходить 1 руб. 50 к., да еще надо прибавить 40 к., что стоить нашъ ежедневный обѣдъ, всего 1 руб. 90 коп.
— Мамочка! — всплеснувъ руками, вскричала Лина, — мы съ тобой передержали!… А яблоки! еще и яблоки забыли, — говорила она жалобно, покачивая головой.
Вдругъ Лина вскочила и черезъ минуту принесла свою кружечку-копилку, прося мать отпереть ее и взять передержку. Эмилія Ѳедоровна, подумавъ немного, отперла копилку, отсчитала двѣнадцать копѣекъ и положила ихъ въ свой кошелекъ. Родители Лины пріучали ее съ дѣтства къ толковому хозяйству, то есть, чтобы не расходовать болѣе положеннаго. Линочка, не смотря на свои девять лѣтъ, такъ привыкла къ этому порядку, что считала долгомъ своимъ отдать передержку, тѣмъ болѣе, что сама напросилась на покупку яблоковъ и на прибавку своихъ любимыхъ блинчатыхъ пирожковъ. За яблоки пока мать ничего не вычла, сказавъ, что оставить до послѣ-завтра, и если тогда будетъ остатокъ припасовъ, то положить его въ цѣну, и тогда уже разочтется.
— Это такъ, это хорошо, мамочка, — сказала дѣвочка повеселѣвъ опять, — ты хорошо придумала!
Анхенъ также что-то очень хорошее придумала для своей ненаглядной кухни; она уже раза два бѣгала съ лукошечкомъ къ знакомому садовнику за бѣлымъ пескомъ, промыла квасною гущею стекла въ шкапу и въ окнахъ, вымыла щелокомъ изразцовую плиту, пересмотрѣла еще разъ чугунный поливанныя кастрюли, и въ первый разъ пожалѣла блестящихъ мѣдныхъ, которыя такъ бы украсили теперь ея кухню! Неблагодарная старуха забыла десятилѣтнюю службу скромныхъ чугунныхъ кастрюль, и не разсчитала того, что одна ежегодная полуда мѣдныхъ стала бы дороже всей цѣны поливанныхъ чугунныхъ.
Огонь въ кухнѣ погашенъ; вездѣ темно, только въ спальнѣ горитъ небольшая керосиновая лампа и за нею сидитъ трудолюбивая чета: мужъ поправляетъ ученическіе переводы, жена штопаетъ бѣлье. И какъ мастерски, съ какимъ соображеньемъ! ея легонькая частая штопонка постоитъ за себя, не проносится въ середкѣ и не вывалится съ боковъ; работа не видная и не потѣшная, но необходимая во всякомъ мало-мальски порядочномъ хозяйствѣ; у богатыхъ этимъ дѣломъ небрежно занимаются горничныя, здѣсь же въ бѣдной учительской квартиркѣ, штопаетъ сама хозяйка, и трудится съ такимъ мирнымъ удовольствіемъ, съ какимъ рѣдкая барыня забавляется надъ своей работой! Душевнаго спокойствія не купишь и въ долгъ не возьмешь, а дается оно даромъ Божьимъ тому, кто съ любовью выполняетъ дѣло свое, какъ у себя дома, такъ и на сторонѣ.
ДѢТСКАЯ СТРЯПНЯ
На другое утро, часу въ одиннадцатомъ, Алексѣй Романовичъ повезъ Алю на званный обѣдъ; ему хотѣлось самому поближе заглянуть на нѣмецкое хозяйство; но напередъ онъ заѣхалъ за племянницами, которыя еще гостили у Саши; тамъ встрѣтили его слезами: Лиза съ Зиной неутѣшно плакали о томъ, что мать отказала пустить ихъ стряпать обѣдъ, — она обѣщала привезти ихъ сегодня на какой-то парадный вечеръ. Сердитый Миша встрѣтилъ дядю словами:
— Эти дѣвочки думаютъ только о томъ, чтобъ имъ было весело. Онѣ насъ не приглашаютъ, такъ хорошо же!… Вотъ ужо, на мои именины, я самъ съ Алешей и Сережей состряпаю обѣдъ, а ихъ не позову… И ничего имъ не дамъ, — сказалъ онъ задорно, поглядывая на Алю съ Сашей, — только Лизу съ Зиной приму, — прибавилъ обиженный мальчикъ. Когда же дѣвочки стали нѣжно другъ съ другомъ прощаться, то онъ выбѣжалъ изъ комнаты, чтобы скрыть свои слезы.
— Папа! — сказала Аля, глотая слезы, — я лучше не поѣду!
Услыхавъ слова сестры, Саша въ одну минуту рѣшительно сбросила съ себя шапочку, и съ плачемъ бросилась къ бабушкѣ; дѣвочка крѣпилась цѣлое утро, еще со вчерашняго вечера перебрала она всѣ игрушки, даря то ту, то другую сестрамъ; ей казалось, что онѣ утѣшились. Но когда дѣло дошло до прощанья, Лиза съ Зиной позабыли всѣ подарки и уговоры, и плакали навзрыдъ.
Полубольная старушка подозвала племянника и сказала ему:
— Отвези напередъ дѣтей къ Линочкѣ, нельзя же имъ въ самомъ дѣлѣ не ѣхать и разогорчить бѣдняжку; она вѣрно уже совсѣмъ приготовилась и потратила много денегъ. Потомъ поѣзжай къ сестрѣ, и попроси ее отъ меня, пустить дѣтей на Линочкинъ обѣдъ; пусть Маша извинится моимъ именемъ передъ своими знакомыми, — со старухи не взыщутъ. Ну, дѣтки, поѣзжайте съ Богомъ, а вы, дурочки, перестаньте плакать, сказала бабушка, я надѣюсь, что дядя выпросить васъ у мамы.
Лиза съ Зиной повеселѣли, у Али съ Сашей также отлегло отъ сердца, и онѣ, распростясь и усѣвшись въ сани, быстро покатились къ свѣтленькой учительской квартиркѣ, гдѣ такъ нетерпѣливо ждала ихъ маленькая хозяйка.
— Мама, что же это будетъ, — спрашивала Лина, — если онѣ опоздаютъ и не пріѣдутъ къ десяти часамъ?
— Мы подождемъ съ полчаса, даже подождемъ ихъ до одиннадцати, — сказала мать.
Дѣвочка весело вздохнула и побѣжала еще разъ заглянуть на кухню. Кухня эта была всегда такъ свѣтла и чиста, какъ прочія комнаты въ домѣ, и отличалась отъ нихъ развѣ только плитой, да кухонной посудой; сегодня же Анхенъ убрала ее на славу, точно какъ бывало, живя подъ Нарвой, убирала комнаты своей хозяйки, т. е. густо усыпала полъ тонкимъ бѣлымъ пескомъ съ Воробьевыхъ горъ, разбросала по немъ пригоршни двѣ зеленыхъ вѣточекъ и листьевъ, который выпросила у земляка садовника, разставила въ парадѣ всѣ свои четыре кофейника, надѣла шерстяное коричневое платье, бѣлый чепецъ съ такими же оборками и поблеклый тафтяной передникъ, подъ рукою же держала взапасъ другой, тиковый. Гостей на кухнѣ Анхенъ считала своими гостями.
Малютка Мальхенъ, сидя посереди кухоннаго стола, сосетъ морковку; завидя сестру, она замахала ручонками и потянулась было къ ней; Лина и не прочь бы понянчиться съ сестрицей, но у нея одна забота: что, какъ гости опоздаютъ и придется безъ нихъ приставить супъ, а супу надо вариться на легкомъ огнѣ часовъ пять! Но вотъ кто-то подъѣхалъ, и точно будто стукъ затихъ у самаго подъѣзда; Лина постояла одно мгновенье… заслыша шорохъ въ галерейкѣ, она бросилась въ переднюю, а тамъ отецъ ея уже впускалъ и принималъ желанныхъ гостей!
Перецѣловавшись съ Алей и Сашей, она понеслась съ ними къ матери, крича: «Мама, мама, ужъ пріѣхали, мама, мы пойдемъ въ кухню».
На дорогѣ Лина узнала отъ гостей своихъ, что Лиза и Зина быть можетъ еще пріѣдутъ, а Мери навѣрно будетъ.
Остальныхъ гостей нельзя было ждать; повязавшись салфеточками, дѣти обступили столъ. Эмилія Ѳедоровна хотѣла дать, какъ слѣдуетъ, урокъ стряпни: она взвѣсила при дѣтяхъ говядину, ее оказалось четыре фунта, кухарка еще разъ сполоснула ее и передала дѣтямъ, который съ непривычки нѣсколько попятились, но потомъ Аля храбро взяла сырое мясо и положила въ кастрюлю, туда же положили телячью кость, изъ-подъ вчерашняго жаркаго. Въ толковомъ нѣмецкомъ хозяйствѣ ничего не пропадетъ.
— Ну, теперь надо наливать воду, только самую холодную, — сказала Эмилія Ѳедоровна, и обратясь къ дочери, спросила ее: — Много ли бутылокъ воды слѣдуетъ на четыре фунта?
— Полторы бутылки на каждый фунтъ, значитъ, надо влить шесть бутылокъ воды, да еще, мама, на кость надо прибавить.
— Ну, кость мы положимъ даромъ, а на курицу, которую сваримъ попозже въ этомъ же наварѣ, нальемъ, пожалуй, теперь же еще бутылки двѣ воды.
Тяжелую кастрюлю Анхенъ бережно взяла со стола и поставила на край плиты. Хозяйка замѣтила дѣтямъ, что если кто хочетъ сварить хорошій супъ, безъ пригари и клейнаго вкуса, то надо ставить его на самый слабый огонь, часовъ на пять; а какъ подавать его, тогда снять вьюшку, подвинуть супъ на самый пыль и дать минуть десятокъ хорошенько прокипѣть.
— Мама, а мы соли не положили, — закричала Лина.
Саша взяла было щепоточку соли и хотѣла бросить въ кастрюлю.
Старая чухонка расхохоталась:
— Маленька барисня такъ въ сладкое пирозное соль кладутъ, говядина хоцетъ много соли!
— Ты не бойся, Саша, захвати цѣлую горсть! — ободряла Лина гостью, и соль посыпалась изъ маленькой горсточки въ кастрюлю, и запрыгали крупинки по плитѣ.
— Теперь давайте чистить коренья въ супъ, — продолжала маленькая наставница.
Дѣтямъ дали одну рѣпку, пять картофелинокъ и двѣ морковки; сама же кухарка, ошелушивъ луковицу, воткнула въ нее гвоздичку и опустила въ кастрюлю.
Гости, поглядывая на искусную Лину, робко чистили ножомъ картофель, но, съ непривычки, кожурка безпрестанно обрывалась и падала, а у проворной хозяйки она висѣла длинной, ровной ленточкой!
Послышался сильный звонокъ, и вслѣдъ за нимъ вбѣжала маленькая Мери, вбѣжала, и ну со всѣми цѣловаться! Прыгнула она и къ Эмиліи Ѳедоровнѣ и повисла у нея на шеѣ: «Душечка, Эмилія Ѳедоровна, что я вамъ скажу, говорила она задыхаясь отъ волненія, какъ братьямъ хотѣлось къ вамъ стряпать».
— А какъ Мишѣ-то хотѣлось, — печально сказала Саша, — онъ чуть-чуть не плакалъ!
Эдуардъ Ивановичъ, курившій въ дверяхъ сигарку, подслушавъ дѣтскіе разсказы, весело кивнулъ женѣ и вышелъ тихонько изъ кухни; нарядясь въ свою новую шубу онъ спѣшно вышелъ изъ дому.
Тонкій паръ подымается съ суповой кастрюли; дѣти поочередно стоятъ съ шумовкой и караулятъ пѣну, не давая ей перекипать или пасть на дно, иначе супъ будетъ мутенъ.
Мери очень удивлена убранствомъ кухни, она долго ахала и любовалась, но теперь поуспокоилась и забавляется тѣмъ, что перепрыгиваетъ чрезъ вѣточки, оглядываясь на крошечные слѣды, которые за каждымъ ея прыжкомъ такъ вѣрно отпечатываются на бѣломъ пескѣ.
Караулить пѣну около часу, безпрестанно славливая ее рѣшетчатой ложкой, дѣло вовсе не занимательное, но дѣтямъ нашимъ эта забота такъ нова, что онѣ нехотя уступаютъ другъ другу свой чередъ.
Сильный звонокъ вызвалъ кухарку, за нею побѣжала Лина съ Сашей, чтобы посмотрѣть, не Алексѣй ли Романовичъ пріѣхалъ и не привезъ ли онъ Зины съ Лизой, но онѣ встрѣтились и столкнулись лбами съ Мишей и Алешей, и всѣ четверо едва устояли на ногахъ, такъ спѣшили мальчики стряпать, крича: «И мы, и мы тоже, мы все станемъ дѣлать, что дѣлаютъ сестры, мы станемъ слушаться Эмилію Ѳедоровну».
Видно было, что бабушка хорошо затвердила имъ это наставленіе. Откуда же взялась эта шумная ватага? Давно ли Алеша ходилъ повѣся голову, а Миша дулся и плакалъ про себя? Видно, не даромъ Эдуардъ Ивановичъ подслушалъ Мерины розсказни! Радость Сережи была покойнѣе, онъ не метался какъ братья его, отъ плиты къ столу, къ ушату, къ полкамъ, но радость его выражалась въ быстрой готовности всѣмъ прислуживать. Миша же служилъ себѣ, онъ уже прыгалъ на четверенькахъ по полу, а Алеша приглядывалъ, хорошо ли отпечатывались братнины пятерни.
— Дѣти, дѣти! это слѣды допотопной ящерицы! — закричала Аля, шутя, глядя на испещренный песокъ.
Алеша соблазнился Мишиной игрой, не устоялъ и бросился плашмя на полъ; песокъ брызнулъ вверхъ и обдалъ маленькихъ стряпухъ; но Эмилія Ѳедоровна всѣхъ угомонила, раздавъ каждому по особому дѣлу.
Супъ накрыли крышкой, потому что пѣна болѣе не всплывала; дѣвочки принялись варить рисъ къ курицѣ: положили въ кастрюльку масла, растопили его, высыпали фунтъ рису, посолили и поставили на плиту, чтобы зарумянился, а чтобы онъ не пригорѣлъ, то дѣти безпрестанно мѣшали деревяннымъ веселкомъ; когда же рисъ слегка весь пожелтѣлъ, то налили въ него ковша два навару, и поставили вариться, до тѣхъ поръ, пока въ зернышкахъ ничего не останется жесткаго.
Наконецъ-таки пріѣхалъ Алексѣй Романовичъ и привезъ дѣтей; онъ прошелъ съ ними на кухню, осмотрѣлъ разныя замысловатыя выдумки, полюбовался кухоннымъ парничкомъ, который занималъ все окно: петрушка, порей, укропъ и салатъ росли взапуски другъ передъ дружкой; такъ свѣжо и зелено было тутъ, какъ будто солнышко свѣтило на нихъ среди весны; но болѣе всего похвалилъ онъ рѣшетчатыя дырочки передъ топкою, эту необходимую вещь въ домѣ, гдѣ дѣти часто вертятся около плиты: долго ли подпалить себѣ платье — отчего дѣти не разъ уже умирали ожогами.
Алексѣй Романовичъ уѣхалъ, хозяйка пошла уложить ребенка, дѣти рубятъ котлетки, толкутъ сахаръ и щебечутъ какъ воробушки въ оттепель. Вдругъ слышитъ Эмилія Ѳедоровна звонокъ, потомъ шумъ, потомъ легкую побѣжку своей дочери.
— Мамочка, мамочка! бѣда случилась! Какая у насъ бѣда случилась! Варинька пріѣхала! что мы станемъ теперь дѣлать? — говорила перепуганная Лина.
Варинька была дѣвочка добраго сердца, но вѣтрена и шаловлива до крайности; посѣщенія ея рѣдко обходились безъ большихъ шалостей.
— И какъ это она, мама, узнала, что мы готовимъ обѣдъ, — шептала Лина сквозь слезы.
— Душечка, Эмилія Ѳедоровна, я выпросилась къ вамъ стряпать! — звонко проговорила Варя, кидаясь на шею къ своей бывшей учительницѣ.
— Тсъ! — тихо проговорила хозяйка, указывая глазами на заснувшую малютку.
— Линочка, душечка, какъ я тебя люблю, — тарантила Варя уводившей ее Линѣ; — ты не знаешь какъ трудно мнѣ было выпроситься у мамы, она совсѣмъ не хотѣла меня пускать, говоритъ, что не годится навязываться!
— Такъ ты какъ же? — спросили ее дѣти.
— А я, какъ услыхала отъ нашей ключницы, что Эдуардъ Ивановичъ пріѣхалъ забирать мальчиковъ на стряпню, я и побѣжала также проситься, а потомъ, какъ мама отказала, я придумала съ Досенькой сказать мамѣ, будто Эдуардъ Ивановичъ вызвалъ Досеньку и просилъ передать мамѣ приглашенье; мама позвала ее, а она, такая душка! все такъ и разсказала, точно въ самомъ дѣлѣ все такъ и было!
— Ты обманула свою маму! Ты съ Досенькой солгала! — закричали въ голосъ Лина съ Алей.
— Кто эта Досенька? — спросила хозяйка.
— Это моя новая гувернантка, Ѳедосья Ивановна, что была у Зины, — бойко отвѣтила Варя.
— Ай да Ѳедосья Ивановна! — крикнулъ Сережа, хлопая въ ладоши: — такъ вотъ чему она тебя учитъ!
— Ну, что же вы стряпаете? Ну, давайте же и я буду съ вами! Это ты что дѣлаешь? — спрашивала Варя, хватаясь за блюдо, на которомъ Анхенъ деревянной вилочкой взбивала бѣлки́, — дай мнѣ, душенька, я это очень люблю болтать!
— Нельзя, нельзя, — сказала хозяйка, отводя дѣвочку: — бѣлки́ надо умѣючи подымать, а то, если ихъ подсѣчешь, то тѣсто не подымется и пирогъ намъ не удастся.
Варинька никогда не задумывалась надъ своими шалостями, не дослушивала, что ей говорили; она бросилась въ другую сторону, заглядывая во всѣ миски и кастрюли.
Четыре сестрицы поочередно что-то мѣшали въ мискѣ деревянной ложкой, по краю посуды текла густая, желтая полосочка; маленькая Мери старательно подчищала ее пальцемъ и облизывала его.
— Душечки, это что у васъ такое? — спросила Варя, ткнувъ пальцемъ въ чашку.
— Варинька! ахъ, Варя! какъ тебѣ не стыдно, Варя, пальцемъ подлизывать.
Но Варя была уже около мальчиковъ, гдѣ толкли сахаръ: — дайте-ка я потолку! — Эту работу Эмилія Ѳедоровна охотно передала неугомонной дѣвочкѣ; видно, шумная и звонкая стукотня пришлась ей по вкусу. Варинька усердно занялась сахаромъ и истолкла его мелко и скоро. Мальчики изо всѣхъ силъ рубили говядину на котлеты. Наконецъ повѣстили о томъ, что все для пирожнаго готово, и дѣти собрались вкругъ стола: девять желтковъ съ полу-фунтомъ сахару были сбиты, какъ густая сметана; Анхенъ такъ искусно подняла девять бѣлковъ, что дѣти приняли ихъ за глыбу снѣга и Миша съ Алешей очень обрадовались: они вообразили что мороженое дѣлается изъ снѣга съ сахаромъ, и потихоньку сообщили другъ другу о томъ, что за обѣдомъ будетъ мороженое. Желтки и бѣлки смѣшали, положили туда три осьмушки толченаго миндалю, стертую на сахарѣ съ одного лимона цедру, по небольшой щепоткѣ толченой гвоздики, мускатнаго цвѣта, кардамона и немного мелко изрѣзаннаго цуката; перемѣшавъ все это, всыпали сушенаго ржанаго хлѣба, натолченаго въ мелкій порошокъ. Миша запрыгалъ и захлопалъ въ ладоши; просѣянные сухари ему показались тертымъ шоколадомъ, которому онъ очень обрадовался.
Аля держала большую жестяную чашку наслоеную, то есть всю вымазанную внутри чухонскимъ масломъ, это дѣлается для того, чтобы пирогъ легче вышелъ изъ формы. Жидкое тѣсто почти вылили въ эту чашку, и Эмилія Ѳедоровна бережно поставила ее въ желѣзный шкапъ, что обыкновенно дѣлается съ боку плиты.
— Ай, ай, ай, зачѣмъ вы туда ставите! — закричали мальчики, хватаясь за дверцы шкапа, — вѣдь мороженое будетъ теплое! вѣдь оно тамъ растаетъ, у плиты очень жарко!
— Мороженое? — спросила удивленная Эмилія Ѳедоровна. Дѣвочки захохотали въ голосъ. — Какое это мороженое? это пирожное!
— Это лорхенъ-кухенъ, — поучительно сказала Лина.
Миша, красный какъ ракъ, стоялъ разиня ротъ; Алеша былъ также взволнованъ, — оба ошиблись въ разсчетѣ.
— А снѣгъ-то, а шоколадъ-то? — проговорили они въ недоумѣньѣ.
Дѣвочки опять засмѣялись:
— Это не шоколадъ, а черный хлѣбъ!
Шаловливую Варю очень смѣшило это недоразумѣнье, она, проворная какъ обезьяна, захватила въ щепоть оставшіяся ржаныя крошки и мазнула ими Мишу по губамъ, который, сердито отмахнувшись, побрелъ вонъ изъ кухни.
— Мама, мама! Когда же мы станемъ печь комъ-моргенъ-видеръ? — Послѣднія слова Лина проговорила шепотомъ; она хорошо помнила вчерашній разговоръ съ отцомъ, и его шутку приняла за настоящее предостереженье.
— Ну, дитя мое, я чуть не забыла о блинчатыхъ пирожкахъ! Анхенъ, дай-ка намъ три яичка, три стакана молока, тамъ на полочкѣ осталось кажется распущенное чухонское масло, дай и его полторы ложки, а сама пока приготовь говяжій фаршъ.
Опять вокругъ чашки собралась цѣлая куча дѣтей; они во всѣ руки мѣшаютъ три яичка съ шестью ложками муки и съ распущенымъ масломъ, Аля же помаленьку подливаетъ молока.
— А соли, парисня! безъ соли плина не короса пуваетъ, — сказала Анхенъ, и въ туже минуту ухватила за руку Вариньку, которая, захватя горсть соли, спѣшила бросить ее въ тѣсто, чѣмъ она бы его вовсе испортила. Дѣти вскрикнули; Варя, пойманная врасплохъ, сыпнула солью во всѣ четыре стороны и захохотала, и всѣ глядѣли на нее съ изумленьемъ.
— Варенька, уймись, а не то я тебя прогоню изъ кухни! тихо, но положительно сказала хозяйка. Строгій голосъ прежней учительницы поудержалъ дѣвочку и она стала осматриваться, чѣмъ бы ей потѣшиться и подивить бойкостью своею дѣтей, не подвергаясь однакоже непріятному наказанью. Веселыя подруги ея начали печь блины, выливая на сковороду по полъ-чайной чашкѣ жидкаго тѣста; такой блинокъ готовь минуты въ двѣ, и дѣвочки радостно чередуются, пекутъ, снимаютъ блинки со сковороды, складываютъ на блюдо, опять маслятъ сковороду и вновь, подливъ тѣста, готовятся подымать блинъ; конечно не всякій сходить удачно, иной порвется на боку, другой лопнетъ посередкѣ, но дѣти не унываютъ: подложивъ немного поболѣе маслица, они опять-таки наливаютъ тѣста, и минутки чрезъ двѣ снимаютъ тоненькій, бѣленькій блинокъ со сковороды; всѣ веселы и радостны. Миша, забывъ о своемъ горѣ, возится вмѣстѣ съ другими дѣтьми; когда же перепекли все тѣсто, то стали свертывать блины трубочками, накладывая напередъ въ середку фаршу, потомъ всѣ эти сверточки положили на большую сковороду и еще разъ поджарили.
— Ну, дѣти, теперь стряпня наша оканчивается, надо сдѣлать подливку къ курицѣ, — сказала хозяйка, и взявъ кастрюлечку, положила въ нее кусочекъ масла величиною въ полъ-яйца, и ложку муки, размѣшала это подъ плитой, подлила наварцу, помѣшала еще, — и подливка готова. — Вотъ этимъ соусомъ, — сказала она, — мы обольемъ рисъ съ курицей, а сверхъ всего посыплемъ тертаго сыру.
Никогда дѣти не садились такъ радостно за столъ, какъ сегодня; никогда не ѣли такъ охотно; и супъ съ пирожками, и курица съ рисомъ, и котлеты, все для нихъ чудо какъ вкусно; только взглядъ на пирожное заставилъ было кое-кого пригорюниться.
— Чудо, что за пирогъ, — сказала Аля, — я никогда не ѣдала такого!
— Это лорхенъ-кухенъ, по-русски Лорино пирожное, — сказала Лина. — Чудесное пирожное, такое сладкое, мягкое!
Залпъ Мишиныхъ рукоплесканій перебилъ Линины похвалы: забывъ о мороженомъ, Миша уставилъ глаза на пирожное, и не могъ дождаться своей очереди; видя нетерпѣнье брата, Саша отщипнула крошечекъ отъ своего куска и передала ему. Дѣти всѣ въ голосъ заявили свое удовольствіе, кушая прекрасное пирожное.
— Да отчего же оно Лорино кушанье? — спросилъ кто-то изъ дѣтей.
— Вѣрно какая нибудь Лора его очень любила, — живо сказала Саша.
— Нѣтъ, — сказала Аля, сомнительно качая головой, — не можетъ быть, чтобы его за это такъ прозвали, такой пирогъ не одна Лорхенъ, а всякій полюбить!
— Ахъ нѣтъ, — сказала Лина, приподымаясь на стулѣ: — пирогъ этотъ зовутъ лорхенъ-кухенъ потому, что одна дѣвочка, Лора, жила у своей крестной матери, баронессы, и училась тамъ всему, это такъ въ книжкѣ написано, — пояснила мимоходомъ Лина, — и училась также стряпать такой пирогъ, а другія дѣвочки, который читали эту книжку, вздумали сами попробовать приготовить такое пирожное, а когда испекли его и отвѣдали, то оно имъ очень понравилось, и вотъ эти-то дѣвочки и прозвали лорхенъ-кухенъ.
Дѣти слушали разскащицу и ѣли, кусая понемножку; Эмилія Ѳедоровна взяла оставшіеся кусочки, перерѣзала ихъ и раздѣлила всѣмъ поровну.
— А Анхенъ, мама, вѣдь и Анхенъ надо также попробовать! — Дали и Анхенъ.
Послѣ обѣда дѣти плясали, потомъ въ сумерки усѣлись сказывать сказки.
Часовъ въ семь принесли свѣжее парное молоко, и рѣзвая стайка опять скучилась около плиты.
— Вотъ, дѣти, — говорила Эмилія Ѳедоровна, — сколько берется шоколаду, соразмѣрно молоку: полфунта на двѣнадцать чашекъ, а одну, тринадцатую чашку, прибавляютъ на укипку; вы знаете, что чѣмъ долѣе какую-нибудь жидкость варить, тѣмъ она болѣе укипаетъ, т. е. уходить парами. И мы теперь, отсчитавъ на каждаго по чашкѣ, прибавимъ одну на укипку.
Дѣти принялись считать, много ли понадобится чашекъ, разумѣется не обошлось безъ споровъ и ошибокъ; досчитавши однако до конца, сняли кастрюлю съ плиты, вылили изъ нее кипятокъ. Хозяйка объяснила дѣтямъ, что безъ этой предосторожности, молоко, налитое прямо въ сухую кастрюльку, легко пригораетъ, не смотря на то, что его мѣшаютъ. И такъ молоко отмѣрили, налили, поставили на легкій огонь, палочки же шоколада сложили въ глубокую тарелку и поставили на плиту; вскорѣ онѣ размякли, такъ что ихъ можно было давить и растирать столовой ложкой; старшія дѣвочки терли, а Лина подливала воды въ тарелку, потому что шоколадъ лучше распускается въ водѣ, чѣмъ въ молокѣ; дѣтямъ велѣли тереть шоколадъ до густоты сметаны, потомъ вылить въ кипящее молоко, и опять мѣшать хорошенько.
Линина мать была большая мастерица варить шоколадъ, а старуха-кухарка, забавляясь дѣтской радостью, взбила на шоколадѣ такую пѣну, что вмѣсто одной чашки на долю каждаго пришлось чуть не по двѣ.
— Ахъ какъ у тебя весело, Лина, — говорили дѣти, — ни у кого не бываетъ такъ хорошо какъ у тебя!
И правда, никто не видалъ какъ прошло время, только конецъ вечера испортила опять Варя. Дѣвочкѣ этой не терпѣлось въ покойной бесѣдѣ или въ порядочныхъ играхъ, ей всегда хотѣлось чего-нибудь новаго, и она безразсудно, безсмысленно кидалась на все, что на умъ взбредетъ или что мелькнетъ ей передъ глазами. На столѣ передъ зеркаломъ стояла небольшая лампа съ бѣлымъ колпакомъ, Варенька схватила его, и чтобы подивить подругъ своею смѣлостью и ловкостью, нахлобучила его себѣ на голову.
— Варя! Варя! Ахъ, что ты дѣлаешь! Разобьешь! — закричали дѣти, но никто не рѣшился отнять у нея колпака, боясь разбить его въ борьбѣ съ нею.
— Варенька, душенька, оставь колпакъ, ты разобьешь его, — тоскливо упрашивала Аля.
— Вотъ вздоръ! онъ такъ крѣпко держится на головѣ, что могу вовсе не придерживать его, — хвастливо сказала Варя, опустивъ руки; и правда, что колпакъ на головѣ держался прямо.
— Я даже могу въ немъ танцевать! — и съ этими словами Варенька пустилась выпрыгивать вторую фигуру французской кадрили.
Перепуганная Лина побѣжала за матерью, — но было поздно! Подходя къ двери, Эмилія Ѳедоровна услыхала стукъ и звяканье стеколъ, — бѣлые черепочки запрыгали по полу. Общее: ахъ! потомъ шумное дѣтское негодованье и Линины слезы, все это на мгновенье оглушило вѣтреницу: она стояла не шевелясь, не подымая глазъ, хотя и чувствовала, что всѣ смотрятъ на нее; ей было совѣстно Эмиліи Ѳедоровны. Но Варя не знала, какъ велика ея шалость, она не видала и не понимала бѣдности, слѣдовательно понять не могла и того, что покупка новаго колпака поведетъ ко многимъ лишеніямъ въ хозяйствѣ.
Лина, знавшая и понимавшая всѣ тайны домашнихъ обстоятельствъ, тотчасъ смекнула, что деньги, скопленный матерью на покупку цвѣтовъ ко дню рожденія отца, пойдутъ теперь на это дѣло.
— Мама, бѣдная мама! — рыдая и цѣлуя мать, говорила Лина….
— Полно, Лина, не ребячься, принеси лучше щетку, да вымети черепочки; всѣ до одного подмети, чтобы Мальхенъ, ползая по полу, не порѣзалась объ нихъ.
Лина грустно пошла въ кухню, дѣти побѣжали за нею.
— Линочка, Лина, послушай, — говорили Мери съ Сашей, — тамъ въ Столешниковомъ переулкѣ есть точно такія лампы, и совсѣмъ такіе же колпаки, ты скажи это мамѣ твоей!
Много труда стоило дѣвочкѣ пояснить подругамъ, что дѣло станетъ не за отысканьемъ вещи, а за деньгами. Дѣти слыхали, а иные и видали бѣдность неопрятную, грязную, докучную, но бѣдности приличной, спокойной, даже счастливой, они не видывали, и потому то съ трудомъ поняли, отчего нельзя купить колпака на лампу, и вмѣстѣ съ тѣмъ цвѣтовъ къ рожденью Эдуарда Ивановича.
— А какіе цвѣты твой папа больше любитъ? — спросили Сережа съ Алешей.
— Мама хотѣла купить мирточку, желтофіоль, да еще резеды.
— Такъ хорошо же! — крикнулъ Алеша, хлопнувъ себя кулакомъ въ ладонь, и тутъ же что-то шепнулъ Мишѣ. Дѣвочки, всѣ до одной, что-то поняли и вдругъ, повеселѣвъ стали обнимать Лину.
— Ахъ, Линочка, я что-то хорошее придумала! — закричала малютка Мери, повиснувъ у Лины на шеѣ; Сережа потянулъ къ себѣ скоренькую сестрицу свою и заказалъ ей молчать.
— Лина, я тебѣ теперь ничего не скажу, Сережа не велитъ! а это что-то очень хорошее, что мы вздумали! папѣ твоему будетъ очень весело! — досказала Мери, уводимая братомъ.
•••
Въ день рожденья Эдуарда Ивановича, когда маленькая семья усаживалась за самоваръ, подлѣ котораго стоялъ прекрасный праздничный крендель, вдругъ чуткому носику Лины послышались какіе-то духи: поднявъ носикъ вверхъ и слѣдя въ воздухѣ какой-то нѣжный запахъ, она прямо побѣжала въ кухню; тамъ старушка Анхенъ весело помогала ходячему снимать съ лотка и развязывать горшки желтофіоли, миртъ и резеды, изъ-подъ котомки выглядывали листья красной драцены и еще какой-то свѣжей зелени; Лина взглянула на столъ — стояло небольшое апельсинное деревцо, покрытое душистымъ цвѣтомъ.
Это были дѣтскіе подарки учителю. Черезъ часъ изъ того же магазина принесли довольно большое дерево, которое уже было съ нѣсколькими боковыми побѣгами; огромные блестящіе листья его такъ пышно и красиво держались на упругихъ стебляхъ. Чей былъ этотъ подарокъ, никто не дознался! Прислала ли его бабушка, или шаловливая, но добрая Варя?
ПЕРВЫЙ СБОРНЫЙ РАБОЧІЙ ДЕНЬ
Сегодня сборный день для лотерейной работы.
У бабушки приготовленъ большой, длинный столъ; его покрыли клеенкой, чтобы дѣти безъ опасенія возились на немъ съ клейстеромъ, нѣсколько чистенькихъ дощечекъ лежать тутъ же, — ихъ приготовилъ Михаилъ Павловичъ для тѣхъ, кто будетъ кроить папку. Миша съ Сашей суетятся, бѣгаютъ слѣдомъ за отцомъ, заглядываютъ въ цвѣтныя, пестрыя бумаги, ахаютъ, прыгаютъ, цѣлуютъ отца, обнимаютъ другъ друга, ворчать на сестеръ и братьевъ, что такъ мѣшкаютъ, пробуютъ крѣпость нитокъ, приготовленныхъ для сшивки тетрадей, и при каждомъ стукѣ экипажа подбѣгаютъ къ окну. Наконецъ, осмотрѣвъ все и соскучась ждать, Миша проговорилъ съ сердцемъ:
— Они до вечера не пріѣдутъ, я это зналъ; пойдемъ лучше, Саша, позавтракаемъ!
— А что, Миша, у васъ назначенъ сборный часъ, или нѣтъ? — спросила бабушка, вслушиваясь въ воркотню внука.
— Да, да, — закричали дѣти на-перерывъ другъ передъ другомъ, — всѣ согласились пріѣхать ровно въ 12 часовъ.
— Стало быть ранѣе 12-ти вамъ и ждать ихъ нечего, посмотрите-ка лучше, пробили-ль часы, — спросила старушка.
Дѣти нѣсколько замялись, потомъ оба вдругъ, какъ бы сговорясь, бросились смотрѣть на столовые часы.
— Безъ четверти двѣнадцать! — сказала Саша, потомъ прибавила: — не отстаютъ ли они, какъ ты думаешь, бабушка?
— Ужъ разумѣется отстаютъ, — рѣшительно закричалъ Миша, — а вотъ я побѣгу на папиномъ хронометрѣ посмотрю!
И дѣти выбѣжали.
Вскорѣ въ передней поднялась суматоха; маленькіе хозяева здоровались съ малюткой Мери и братьями ея. Саша прыгая, помогала сестрицѣ раздѣваться.
— Ахъ, Мери, какая моя Люба душка, это просто прелесть, какія она смѣшныя рожицы строитъ!
— А какая она послушная, такъ это чудо! — кричалъ Миша, прыгая пробкой на одной ножкѣ. — Какъ скажу ей: Люба, сожми кулачки, она сейчасъ поворочаетъ головкой во всѣ стороны и покажетъ оба кулачка.
— Пойдемте, важно сказала Саша, — я вамъ покажу мою дочку, она не спитъ.
Но дѣтямъ велѣли прежде обогрѣться, и тогда позвали въ комнату Софьи Васильевны.
— Тетя, мама, теточка, — кричали дѣти въ голосъ, — покажи намъ Любу!
— А вотъ прежде поздороваемся, — привѣтливо говорила тетка, лаская дѣтей по-очереди, — ну теперь смотрите, сказала она сторонясь.
За нею, на широкомъ диванѣ, стояла прекрасно сплетенная корзинка; въ ней на подушечкѣ, до половины покрытая бѣлымъ одѣяльцемъ, копошилась выспавшаяся и покормленая Люба. Она озиралась на все и на всѣхъ своими ясными глазками; подбородочекъ и румяныя щечки ярко пылали; отъ младенца вѣяло тѣмъ весеннимъ тепломъ, которымъ такъ радостно дышится послѣ дождя.
Дѣти сначала молча радовались, окруживъ малютку. Мери долго смотрѣла, потомъ тихонько наклонясь, поцѣловала одѣяльце, гдѣ шевелились ножки ребенка. Софья Васильевна подняла Мери и дала поцѣловать ей Любу въ щечку: Мери всплеснула ручонками, когда малютка, почувствовавъ прикосновеніе, повернулась къ ней, и взглянувъ на нее, остановила на ней свои зеночки.
— Теточка, душечка, она меня узнаетъ! — вскричала дѣвочка, хлопая въ ладоши.
— Да когда же она тебя видѣла? — спросила тетка.
— А на крестинахъ-то вѣдь я очень высоко стояла, все время меня Сережа держалъ на стулѣ.
— Люба, Люба, — кричалъ Миша, — гдѣ кулачки, покажи имъ свои крошечные кулачки, слышишь, Люба, покажи скорѣе, а то подумаютъ, что ты упрямишься, — приставалъ Миша. Устала ли малютка отъ шума или просто соскучилась лежать, только стала сильнѣе копошиться, вытащила ручонку, которая сорвалась у ней, и она со всего размаху хлопнула себя по личику. Дѣти вскрикнули, малютка стала морщиться, чтобы плакать, но мать утѣшила ее тѣмъ, что освободила ей и другую ручку. Люба взмахнула ими, потомъ сжала и уперлась своими крошечными кулачками въ обѣ щечки.
— Видите, видите кулачки! — кричалъ Миша. Сережа дотронулся до ручки пальцемъ; малютка тотчасъ поймала его палецъ и крѣпко сжала его.
— О, да какая она сильная! — сказалъ Сережа, тряся ручонку и цѣлуя ее.
— Видишь, Саша, она и Сережу узнала, — говорила Мери; а Саша тихо стояла надъ крестницей и радовалась на нее почти радостью матери. Святой, чистой любовью развиваетъ Господь чувства человѣка, потому-то и окружаетъ его съ младенчества семьею, и счастливъ тотъ, кто не утратить ни одного изъ этихъ чувствъ на землѣ!
— Ну, что, дѣти, не пора ли вамъ за дѣло приниматься? — спросила бабушка.
— Сейчасъ, сейчасъ, мы только попрощаемся съ Любой, — отвѣчали дѣти, окружая корзинку, и облѣпили ее, какъ липнуть и тѣснятся голубки вокругъ корма. Молодая хозяйка съ наслажденьемъ смотрѣла на простую, но истинную картину чувства. — Срисовать бы, подумала она, — Любочку въ корзинкѣ, и всю эту стайку дѣтей надъ нею; нѣтъ, этого никто не изобразить, — отвѣтила она сама себѣ, — нужно, чтобы художникъ умѣлъ чувствовать, какъ дитя!
— Матушка, ужо, какъ Люба заснетъ, и я также приду къ вамъ работать.
— Приходи, только чуръ у меня прилежно работать, — смѣясь замѣтила старушка.
— И ты, тетя, также для нашей лотереи работаешь? — спрашивали дѣти, окружая тетку.
Софья Васильевна, отряхнувъ свою работу, подняла ее вверхъ, и показала дѣтямъ крошечную полотняную рубашечку, держа ее за рукавъ.
— Это куклѣ? — спросилъ Сережа.
— Нѣтъ, Любѣ…
— Тетя! — быстро перебила Софью Васильевну Мери, и потомъ, немного запинаясь, договорила: — а какъ ее никто не купить?
— О я увѣрена, что купятъ, — съ шутливой важностью отвѣтила Софья Васильевна, — у Любы есть кому о ней позаботиться, есть крестный отецъ и крестная мать! Кто-нибудь изъ нихъ навѣрно купить.
Дѣти взглянули на Сашу, которая, радостно засмѣявшись, припала къ колѣнямъ матери и стала цѣловать и руки и работу, которую онѣ держали.
Въ бабушкиной комнатѣ дѣти встрѣтились съ Зиной и Лизой; первая тарантила и юлила какъ-то болѣе обыкновеннаго, а Лиза пряталась; замѣтно было, что у дѣтей случилось что-то особенное. Поздоровавшись съ ними и посмотрѣвъ на Лизу, бабушка спросила:
— Ты плакала, дружокъ?
— Нѣтъ, ничего, — проворно отвѣтила дѣвочка; но когда почувствовала нѣжный поцѣлуй и крѣпкое объятіе бабушки, то рѣшимость ея — не сказывать того, что случилось, растаяла, и она съ громкими рыданьями, прячась на груди старушки, проговорила: — Теперь ужъ Лилинькинъ стульчикъ не мой сталъ! онъ ужъ Зининъ! она выпросила его у мамы, мама ей отдала его!
— Ахъ, Лиза, да коли тебѣ его такъ хочется, такъ я пожалуй отдамъ, чѣмъ жаловаться, — прибавила Зиночка, вертясь и посматривая на всѣхъ, но она нигдѣ не нашла сочувствія. Сережа намѣренно избѣгалъ ея взгляда, Алеша, красный, какъ ракъ, закричалъ въ утѣшенье меньшой сестры:
— Постой, Лиза, вотъ мы пріѣдемъ, такъ отнимемъ у нея!
— Ужъ теперь все равно, — отвѣчала дѣвочка, тяжко вздыхая, — мама ей отдала; — и Лиза опять горько заплакала. — А я бывало все Лилю на немъ закачивала, мы все съ ней вмѣстѣ играли. Зиночку она никогда не манила къ себѣ и сама не шла къ ней на ручки! Я сегодня и говорю: ужъ пусть Лиличкинъ стуликъ мой будетъ, а Зиночка побѣжала къ мамѣ и выпросила его себѣ! Теперь ужъ онъ совсѣмъ ея сталъ!
Припавъ опять къ бабушкѣ и заливаясь слезами, неутѣшная дѣвочка проговорила:
— Зина ужъ поставила его къ себѣ, къ своей кроваткѣ!
Дѣти, неиспорченнымъ чувствомъ своимъ, оцѣнили права Лизы, и внутренно единодушно осудили Зину.
Старушка все еще держала внучку на рукахъ и что-то тихо ей говорила, но Лиза отчаянно повторяла, тряся головой:
— Нѣтъ, нѣтъ, бабушка, этого не будетъ!
Жалко было бабушкѣ Лизу, ей стоило бы теперь только слово сказать Зинѣ, и она навѣрно отдала бы стульчикъ, но старушкѣ не хотѣлось дѣйствовать понудительно; она знала, что только то дѣло хорошо и полезно человѣку, которое дѣлается имъ отъ себя, по своему побужденію, по доброй волѣ. Передъ старушкой были двѣ дѣвочки: одна въ сердечномъ горѣ, другая съ порокомъ себялюбія въ сердцѣ; жаль и ту и другую, но должно предпочесть Зину, чтобы ей помочь, ее заставить одуматься, пожалѣть Лизу и осудить самое себя. Чтобы долго не тянуть дѣла, и чтобы Зина, ради стыда передъ братьями и сестрами, не сдѣлала бы того, что слѣдовало ей сдѣлать послѣ борьбы съ собой, старушка спустила Лизу съ колѣнъ и сказала ей вслухъ:
— Это хорошо, Лизочка, что ты не хотѣла никому говорить о своемъ горѣ, теперь иди умойся, а послѣ приходи работать.
— Дѣти, — сказала бабушка, обращаясь ко внучкамъ, — я вамъ приготовила вязать крошечные чулочки, сладите ли вы?
Послышалось дѣтское нерѣшительное:
— Не знаемъ!
— Ну, посмотримъ, тетя и я, мы будемъ вамъ помогать.
Дѣти стали усаживаться. Михаилъ Павловичъ, какъ мастеръ переплетнаго дѣла, помѣстился посереди мальчиковъ: онъ присматривалъ за приготовленіемъ клейстера; Сережа положилъ въ кастрюлечку двѣ горсти пшеничной муки, развелъ ее водою, и все мѣшая, поставилъ на спиртовую лампу.
— Сережа, пусти меня варить клейстеръ, — закричалъ разохотившійся Миша.
— Нѣтъ, другъ, нельзя, — отозвался отецъ, — тутъ нужно и умѣнье варить и терпѣнье мѣшать, а у тебя нѣтъ ни того, ни другаго. Ты намъ какъ разъ, вмѣсто клейстеру, наваришь клецокъ!
Вскорѣ вбѣжали Аля съ Линой, и перецѣловавшись со всѣми, проворно усѣлись за работу. Мало по-малу дѣти стали посматривать на Линочку, у которой быстро вертѣлся чулокъ и мельтешили спицы.
— Лина, — спросила Саша, — ты это нарочно трясешь чулками, или въ самомъ дѣлѣ вяжешь?
— Да, вяжу, — отвѣчала Линочка, не совсѣмъ понимая вопроса.
— А ты, Саша, погляди, что она навязала, — говорила Аля, вытягивая съ вершокъ бѣлаго, свѣжаго вязанья.
— Линочка счастливая, — проговорили дѣти, глядя на ея работу, — совсѣмъ и не замѣтно, чтобы ты вязала, кажется, будто только такъ трясешь чулкомъ, а ужъ сколько прибыло!
Между тѣмъ какъ дѣти переговаривались, посматривая на Линину работу, Зина сидѣла задумавшись; у ней было что-то неспокойно на душѣ, она досадовала на Лизу за то, что Лиза при всѣхъ расплакалась; а и того досаднѣе была Зинѣ огласка: она чувствовала, что братья и сестры стоять за Лизу, а ее молча осуждаютъ. Она и рада была бы, сама передъ собою, обвинить сестру, но видъ Лизы, которая передъ отъѣздомъ разъ пять мылась, и все время обмахивалась платкомъ, чтобы скрыть свои слезы, потомъ и то, какъ она пряталась отъ бабушки, — все это смягчало дѣвочку и удерживало ее отъ обычной несправедливости ея.
— Ну что же, — подумала она, наконецъ, — коли ей такъ хочется, такъ ужъ пускай стульчикъ будетъ ея!
Вдругъ слышитъ она голосъ разгорячившейся Лизы: — «Неправда, Миша, неправда! Саша не жалобница», говорила она мальчику, который не переставалъ ворчать и дуться на сестру, за то, что она обратила вниманіе отца на Мишу, который, желая одинъ пользоваться ножницами, пряталъ ихъ отъ братьевъ. «А ужъ коли кто жалобница, продолжала Лиза, почти шепотомъ, такъ это Зина: она всегда, всегда жалуется на меня мамѣ, особенно, когда пріѣдемъ изъ гостей, за все жалуется, говорило переполненное горемъ сердечко: и за то, что я перемялась, и за то, что растрепалась, и что съ гостями говорить не умѣю, и съ Ниночкой не дружусь; а какъ я съ нею дружиться стану? она ходитъ со мной только, пока съ нею не заговорятъ большіе. Зина совсѣмъ не то, что я, она умѣетъ разговаривать, сама про всѣ наряды помнитъ, а я ничего не знаю. Ниночка говоритъ, что я глупая, а мама на меня сердится! Мнѣ такъ невесело въ гости ѣздить», закончила Лиза, тяжело вздохнувъ.
— А, а, такъ я по твоему жалобница! хорошо же, — думаетъ Зина — пускай я буду жалобница, ничего, утѣшаетъ она самое себя, прикачивая головой; и доброе намѣреніе, уступить стульчикъ, какъ испуганная пташка отлетѣло отъ нея. Лизинъ жалобный шепотъ настроилъ Зину на обыкновенный ладъ, считать себя всегда и во всемъ правою, а всѣхъ прочихъ, замѣшанныхъ въ ея дѣло, виноватыми.
— Миша, ты что надулся, какъ мышь на крупу? — спросила бабушка, глядя на отдутыя губы внука. Мальчикъ молчалъ, поглядывая изподлобья то на того, то на другаго; онъ также считалъ себя правымъ, и по его мнѣнію, обиженнымъ. Саша нажаловалась, а отецъ строго посмотрѣвъ, покачалъ на него головой. — И всѣ это видѣли, думаетъ онъ, сердясь, — и сестры и братья также, а Алеша даже обрадовался, думаетъ Миша, все болѣе и болѣе краснѣя и дуясь.
— Что же ты молчишь? — повторила старушка, — дѣти, сказала она обращаясь къ внучатамъ — что онъ, порѣзался что ли?
— Нѣтъ, нѣтъ, закричало нѣсколько голосовъ; — и при этомъ разсказали бабушкѣ, какъ Миша завладѣлъ ножницами, и какъ онъ всякій разъ что отрѣжетъ, прячетъ ихъ подлѣ себя, подъ бумагу и не даетъ братьямъ.
— Саша жалобница! — громко крикнулъ Миша.
— Точно ты, Миша, изъ пушки выпалилъ, — сказалъ Алеша. Отецъ съ матерью переглянулись, и Софья Васильевна наклонилась къ работѣ, чтобы скрыть улыбку, появившуюся при вѣрномъ замѣчаніи Алеши.
— Чьи же эти ножницы? — спросила бабушка, подходя къ столу и разсматривая ихъ.
— Мои, матушка, — коротко отвѣчалъ Михаилъ Павловичъ, не желая мѣшать старушкѣ въ разспросахъ; онъ зналъ ея умѣнье идти въ уровень съ дѣтской мыслію и постепенно развивать ее въ нихъ.
— Да, да, это твои бумажный ножницы, — говорила она, припоминая ихъ, — ты ихъ Мишѣ далъ?
— Нѣтъ, я ихъ ему не отдавалъ, я принесъ папку, ножницы и бумагу для всѣхъ насъ сообща.
— А, а, а… А ты, Миша, — продолжала она, обращаясь къ мальчику, — общее добро прибралъ для себя одного, — и она пристально поглядѣла на внука, который, по мѣрѣ того, какъ начиналъ понимать свою неправду, тихонько опускалъ глаза и смиренно стоялъ, алѣя румянцемъ совѣсти, а не гнѣва.
— Такъ дѣлаютъ, дружокъ, люди недобрые и не совсѣмъ честные, — прибавила старушка, и потомъ ласково взглядывая на Мишу, сказала: — а мой внукъ хочетъ еще въ дѣтствѣ привыкать быть мальчикомъ честнымъ и справедливымъ, и потому онъ строго будетъ присматривать за собою, а потомъ, впослѣдствіи, и за Любой, чтобы чужимъ добромъ не пользоваться одному, а общее дѣлить поровну!
Миша вздохнулъ и тихонько поднялъ глаза на бабушку. Старушка, ласково глядя на него, подала Мишѣ ножницы и велѣла ему самому отвести имъ на столѣ такое мѣсто, которое для всѣхъ было бы одинаково удобно. Эта задача понравилась ребенку, онъ полѣзъ на столъ, и разъ пять перекладывалъ ихъ, отбѣгая и посматривая со стороны, вѣрно ли онѣ лежать; замѣтно было что и Алеша принялъ бабушкину науку къ сердцу.
— Ну, а ты, — сказала бабушка, подходя сзади къ Сашѣ и запрокидывая ея головку: — чѣмъ ты брата разсердила, — за что онъ тебя назвалъ жалобницей? — И не дожидаясь ея отвѣта, продолжала ее спрашивать: — Прежде чѣмъ ты отцу сказала, говорила ли ты брату?
— Я ему двадцать разъ говорила, чтобы онъ не пряталъ ножницъ, — торопливо отвѣчала Саша.
— Потише, потише, — сказала старушка смѣясь, — будетъ съ него и двухъ, трехъ совѣтовъ.
— Саша три раза останавливала Мишу, — вполголоса проговорила аккуратная Лина.
— И довольно съ нее, — шутливо сказала бабушка, трепля Сашу по щечкѣ, — чтобы не слыть ябедницей или какъ бишь Миша сказалъ? — Жалобницей, подсказали дѣти.
— Да, жалобницей; жалобница, по моему, та, которая не предостерегаетъ и не уговариваетъ виноватаго, а какъ бы радуясь его винѣ, спѣшитъ разсказать старшимъ, слушаетъ съ удовольствіемъ какъ бранятъ виноватаго, а сама въ душѣ своей радуется, что вотъ-де я не такая, а я хорошая!
Зина опять задумалась; ей невольно пришло въ голову, какъ, возвращаясь изъ гостей, она весело бѣжитъ къ матери и торопится ей разсказать все хорошее о себѣ, и такъ же торопливо разсказываетъ о Лизѣ, то, за что сестру навѣрно побранятъ. Это раздумье, какъ легкое облачко, нанеслось на себялюбивую Зину и омрачило ее.
— Дядя, — какъ бы надумавъ что, закричалъ Алеша: — скажи намъ, какой самый лучшій островъ въ свѣтѣ?
— Чѣмъ лучшій, Алеша, жителями или климатомъ, или богатствомъ золота и камней?
Алеша на минуту задумался. «На что намъ жителей», сказалъ онъ вполголоса, глядя на дѣтей; — нѣтъ дядя, назови такой, чтобы все, все росло на немъ, и апельсины и виноградъ, и пальмы, и кокосы…
— И печеные каштаны, — подсказала маленькая Мери, страшная охотница до нихъ.
— Мери, Мери, — съ хохотомъ закричали дѣти, — развѣ они печеные ростутъ!
— Нѣтъ, я знаю, что все ростетъ сырое, да я думала о тѣхъ, которые люблю ѣсть, — они такіе вкусные!
— Папа, и чтобы арбузы и вишни росли, — кричалъ Миша, упираясь ладонями о столъ и высоко подпрыгивая.
— И дыни и персики! — прибавили Лиза съ Сашей.
— И сахарный тростникъ также, — торопливо сказалъ Алеша, — онъ долженъ быть такой вкусный! Помните, что писано о немъ въ «Швейцарскомъ Робинзонѣ»? — спросилъ онъ дѣтей, который весело кивнули ему, въ знакъ согласія.
— А вамъ надо большой островъ? — весело спросилъ дядя, догадываясь, что дѣти собираются переселиться. Всѣ переглянулись между собой: имъ величина острова еще не приходила въ голову; помолчавъ немного, кто-то сказалъ:
— Съ вашъ садъ! — Сережа, не совсѣмъ довѣрявшій возможности переселенія, увлекся однако прелестью этой мысли, почти столько же, какъ всѣ прочіе; дядинъ большой московскій садъ показался ему слишкомъ малымъ, и онъ, подумавъ, сказалъ: — Можно бы съ квадратную версту, и поболѣе.
— Да, да, — закричали дѣти, захлопавъ въ ладоши, — съ версту или двѣ.
Величина острова такъ понравилась всѣмъ, что дѣти, по обычаю, бросились обниматься: Саша съ Лизой, а Мери потянулась къ Сережѣ. Одна Лина сидѣла задумавшись; ей очень нравились дѣтскіе планы, но она не знала примутъ ли ее съ собою. Точно угадавъ мысли своей сосѣдки, Аля вдругъ закричала:
— Дѣти, слушайте, вѣдь мы и Лину возьмемъ съ собой?
— Разумѣется, — закричали всѣ въ голосъ, — Лина такая славная! — Линочка вспыхнула отъ радости. Большіе голубые глаза ея такъ благодарно взглянули на всѣхъ.
— Спасибо, — сказала она, глубоко и радостно вздыхая, все болѣе и болѣе краснѣя; тихонько улыбаясь, опустила она голову въ работу, спицы чулка еще быстрѣе замелькали въ проворныхъ пальчикахъ, а дѣтская улыбка то сбѣжитъ, то опять набѣжитъ: видно было, что дитя очень счастливо!
— Замѣчательная вещь, — говорилъ Михаилъ Павловичъ, подошедшей къ нему женѣ, — замѣчательная вещь эти дѣтскія переселенія! кто изъ насъ не игралъ или не тѣшился подобной мыслію!
— Маменька, помнишь ли ты нашъ островъ и наше первое переселеніе туда? — спросилъ Михаилъ Павловичъ мать свою.
— Конечно помню, — отвѣчала старушка, — даже и теперь на немъ замѣтны слѣды вашей пашни; а какъ разрослись батюшкины ветлы по берегу! Изъ вашихъ кленковъ вышла цѣлая роща.
Передъ умственными очами старушки мелькнули пышная кленовая роща и серебристыя ветлы по берегу, знакомое озеро съ островкомъ, и будто послышался ей тихій прибой волнъ.
— Маменька, — сказалъ Михаилъ Павловичъ, помолчавъ немного, — какую прекрасную картину ты мнѣ напомнила — видъ изъ оконъ твоей комнаты: луговой скатъ къ озеру и нашъ островъ!
Старушка задумчиво и нѣжно улыбнулась, ей не разъ уже случалось въ одно и тоже время съ сыномъ, думать одну и туже думу. Мудрено ли такое духовное сродство у матери, которая не только вскормила и выростила сына, но нравственно взлелѣяла и развила его душу!
— Дядя, ты жилъ одинъ на острову? — спросилъ Сережа.
— О нѣтъ, дружокъ, насъ было цѣлое поселеніе; во-первыхъ, твой отецъ…
Заслыша про отца своего, Алеша такъ подпрыгнулъ отъ радости на стулѣ, что тотъ вылетѣлъ изъ-подъ него и перекувырнулся.
— Славная штука, Алеша! — сказала Софья Васильевна, смѣясь надъ недоумѣньемъ мальчика, который, стоя надъ опрокинутымъ стуломъ, какъ-то нерѣшительно посматривалъ кругомъ себя. — Попробуй-ка, дружокъ, выкинуть въ другой разъ такую, — не съумѣешь!
Кажется, слова матери надоумили Мишу въ свою очередь попробовать Алешину нечаянную шалость; замѣтивъ это, Аля, съ степеннымъ видомъ, покачала на него головой; мальчикъ любилъ ее, и всегда охотно слушался.
— А папочка также жилъ съ вами на острову? — спросила Аля у дяди.
— Разумѣется, онъ-то и былъ первый коноводъ, да сестра Машенька.
— Мама! — вскричала Зина, — о какъ я рада! — Зина радовалась тому, что слышала о дѣтствѣ матери своей; замыслы дѣтей ей очень нравились, но она не смѣла ими тѣшиться, безъ разрѣшенія матери, которая, къ сожалѣнію, Ниночкину подражая воспитанію, пригнетала и глушила въ дѣтяхъ своихъ все дѣтское.
— Да, дружокъ, мать твоя была первая зачинщица и изобрѣтательница всевозможныхъ игръ и забавъ, — сказалъ Михаилъ Павловичъ.
— Дядя, папа, душка, — быстро посыпалось со всѣхъ сторонъ, — разскажи, какъ вы жили на острову, и много ли васъ тамъ было? — кричали дѣти, побросавъ работы и окруживъ дядю.
— Хорошо, пожалуй, — сказалъ Михаилъ Павловичъ, — но только вотъ что: Соничка, — сказалъ онъ Софьѣ Васильевнѣ, — покажемъ примѣръ, какъ люди работаютъ и слушаютъ въ одно и то же время, а то бабушка не позволитъ мнѣ разсказывать.
Дѣти взялись за чулки, мальчики за свое дѣло, и хотя много не наработали, но увидали, что можно дѣлать два дѣла разомъ.
— Вы слышали, дѣти, — началъ Михаилъ Павловичъ, — что братья: Алексѣй и Сергѣй, да сестра Машенька, тотчасъ послѣ смерти матери своей, родной сестры бабушкиной, переѣхали къ намъ на житье; братья оставались все время у насъ, и учились со мной, до поступленья нашего въ университетъ; сестру же Машеньку, года чрезъ два, увезла отъ насъ въ Петербургъ ея бабушка, мать отца. Но главная наша распорядительница была моя покойная сестра, она была такая умная, такая мастерица на все, а главное, такъ умѣла ладить съ рѣзвыми мальчиками и заставлять насъ слушаться, что бывало, въ какой игрѣ замѣшана была сестра, ту отецъ нашъ и мать тотчасъ разрѣшали намъ. Ей-то мы и были обязаны, что намъ позволили поселиться на острову.
— Дядя, — спросилъ Сережа, — старѣе или моложе тебя была сестра твоя?
— Я и Машенька, мать Зины, были самые младшіе; намъ тогда, какъ мы выпросили позволеніе переселиться на островъ, было по 10 лѣтъ, а сестрѣ моей Сашѣ, около пятнадцати.
— Дядя, — съ изумленьемъ спросила Зина, — она такая большая и играла съ дѣтьми!
— Играла, да еще какъ! — и Михаилъ Павловичъ, перенесясь мысленно въ былое, продолжалъ: — сестра моя была такое рѣдкое, милое дитя, ее все занимало, все радовало: дѣльные разговоры взрослыхъ, хозяйственный нововведенія отца, химическіе опыты дяди, разсказы историческіе или описательные, все это заставляло ее заслушиваться и засиживаться до полуночи. Старикъ садовникъ нашъ, ученый естествоиспытатель, былъ ея первымъ другомъ, а мы, дѣти, ея первой заботой и забавой; какъ только замѣчала она, что мы ходимъ повѣся головы, что игры у насъ не клеятся, сейчасъ спѣшила она на помощь, и заигрывается съ нами до того, что на ея рѣзвый смѣхъ, выползалъ дѣдъ нашъ, садился насупротивъ насъ, посмѣивался и покачивалъ головою на свою любимицу!
— Матушка! — быстро сказалъ Михаилъ Павловичъ, — мнѣ кажется, что отецъ настоятель не даромъ говаривалъ, что на Сашѣ опочилъ миръ и благодать Божья; мнѣ кажется, что на ней оправдались слова Спасителя: будьте, какъ дѣти, такихъ бо есть царствіе Божіе!
Святой, полный упованія взглядъ матери былъ ему отвѣтомъ.
— Дядя, — опять спросила Зина, — любила тетю моя мама?
— Кто же не любилъ ее? съ дѣда нашего и до послѣдняго деревенскаго ребенка — всѣ ее любили! Мать же твоя привязалась къ ней такъ, что всѣ прозвали ее тѣнью Сашенькиной. Еще были съ нами трое внучатныхъ братьевъ, дѣти матушкиной двоюродной сестры; но нѣтъ, постойте, они пріѣхали позже, на второй годъ. Первое переселенье наше было очень неудачно, потому что мы слишкомъ нетерпѣливо и самонадѣянно начали дѣло: не смотря на убѣжденія сестры, мы на первыхъ же порахъ объявили очень рѣшительно, что желаемъ быть дикими, и вовсе не хотимъ видѣть людей, ни даже на берегу противъ нашего острова. Мы требовали, чтобы насъ никто не навѣщалъ, кромѣ сестеръ, которыхъ мы считали одного съ нами племени; мы увѣряли, что намъ ничего не нужно, что будемъ довольствоваться сухарями, заготовленными нами, и рыбою, которую мы сами умѣли ловить. Отецъ согласился на все, но подъ конецъ сдѣлалъ слѣдующее заключеніе: «Такъ какъ вы народъ дикій, не письменный, то и не нуждаетесь ни въ книгахъ, ни въ бумагѣ, ни въ карандашахъ, и потому ничего такого не должны брать съ собой». Не думая долго, мы и на это ударили по рукамъ, и хотѣли тотчасъ собираться; однако старшая сестра уговорила насъ напередъ осмотрѣться на острову, свести туда все, что нужно для шалаша, взять лубковъ, на подмостки, вмѣсто кроватей, и устроиться такъ, чтобы не спать на полу, иначе матушка не соглашалась отпустить насъ, боясь лихорадки, которая легко пристаетъ, когда спишь на землѣ. Сестры собирали намъ посуду, укладывали яйца, хлѣбъ, соль, медъ, огурцы и проч.; мы нарубили хворосту и выстроили на живую нитку шалашъ.
Наконецъ насталъ желанный день: распростясь второпяхъ съ родителями, няней и учителемъ, мы нагрузили маленькій паромецъ, который былъ устроенъ между берегомъ и островомъ, и насилу притащили сестрину козу: она должна была переселиться съ нами. Много бѣготни было за нашими курами, который летали и не давались въ руки: мы не подумали посадить ихъ съ вечера сонныхъ въ корзины; но наконецъ кое-какъ справились съ ними и стали отваливать отъ берега. Любимыя собаки наши: Богатырь и Буянъ, глядя на отъѣздъ нашъ, взвыли и бросились вплавь за нами; смѣху и радостямъ конца не было! Выйдя на островъ, на которомъ и прежде мы довольно часто бывали (теперь же считали себя хозяевами на немъ), мы, точно послѣ кораблекрушенія, бросились на землю, цѣловали ее, прыгали, кидая шапки вверхъ; съ нами же за одно визжали и прыгали Буянъ съ Богатыремъ, отряхиваясь и обдавая насъ брызгами; коза наша, припавъ къ ветлѣ, трудилась надъ корою дерева; куры, съ большимъ удовольствіемъ, разлетѣлись по волѣ. Сестры оставались съ нами до солнечнаго заката, а вечеромъ мы ихъ переправили, и онѣ обѣщали къ намъ пріѣхать завтра, какъ справятся съ дѣлами. Долго мы еще гуляли, наконецъ, разостлавъ тулупъ на подмосткахъ, улеглись втроемъ; но подмостки паши въ ту же ночь разсыпались подъ нами, потому что мы ихъ мастерили зря. При небольшомъ же ночномъ вѣтрѣ, весь шалашъ повалило, заваливъ насъ вѣтвями; мы, сонные, едва выкарабкались изъ-подъ нихъ, и тѣсно прижавшись другъ къ дружкѣ, снова улеглись на тулупѣ.
Сначала комары не давали намъ уснуть, потомъ собаки пришли обижать насъ, имъ понравился тулупъ и они безцеремонно расположились съ нами. Какъ бы то ни было, конецъ ночи мы проспали мертвымъ сномъ и проснулись, когда уже солнце взошло, — а намъ на зарѣ надо было наловить рыбы, потому что она по зорямъ лучше клюетъ. Собравъ удочки, мы пошли на ловлю, но тутъ оказалось, что мы забыли припасти червей для наживки. Что дѣлать? Рѣшили сдѣлать набѣгъ на сосѣдній материкъ; мы спустились къ парому, и видимъ, что у насъ въ домѣ ставни открываютъ и на матушкиномъ окнѣ зашевелилась подзорная труба; ее наводили прямо на насъ: замѣтя это, мы, какъ прилично дикарямъ, пустились въ бѣгство, спрятались за ветлы и стали совѣтоваться идти ли на промыселъ за червями, или удовольствоваться сегодня тѣмъ, что сестры намъ надавали вчера. Думали, думали, наконецъ рѣшили не ходить на материкъ, а то тамъ, пожалуй, подумаютъ, что островитяне не могутъ обойтись безъ ихъ помощи. Мы отправились за козой, чтобы подоить ее, но она такъ одичала на привольѣ, такихъ концовъ задала на острову, что прогонявшись за нею съ полчаса, мы измученные, вернулись въ шалашъ, прямо къ своимъ запасамъ; но вѣрные друзья наши, Буянъ съ Богатыремъ, позавтракали здѣсь ранѣе нашего, переѣли и передавили всѣ яйца, съѣли весь хлѣбъ, оставя намъ немного ржаныхъ сухарей; меду и огурцовъ они не тронули. Позавтракавъ этими остатками, мы сѣли подъ ветлы дожидаться сестеръ; наконецъ онѣ показались. Въ одну минуту мы подали паромъ; радость была обоюдная, всѣ обнимались, какъ послѣ годовой разлуки! Наговорившись вдоволь, сестры выложили скромные гостинцы, которые, по нашимъ строгимъ наказамъ, онѣ едва рѣшились принести, оговорясь, что это собственный ихъ обѣдъ. Не выждавъ обѣденнаго времени, мы раздѣлили краюшку пирога и жареную курицу, и ѣли, присматривая другъ за другомъ, чтобы чище обгладывали косточки. Впослѣдствіи матушка говаривала, что жизнь на острову принесла намъ большую пользу: мы сдѣлались менѣе самонадѣянными и менѣе причудливыми въ пищѣ. Сестры ушли отъ насъ ранѣе, у нихъ было занятіе дома; Машенька, передъ закатомъ солнца, принесла намъ червей для удочекъ, и хлѣба про нашъ обиходъ. Рыбная ловля шла удачно, на ужинъ мы сварили уху, рано утромъ принялись опять за ловлю, и опять ѣли уху. Однако бездѣлье наше начало намъ надоѣдать, но мы еще крѣпились и не говорили этого другъ другу. Друзья наши, собаки, измѣнили намъ еще наканунѣ: заслыша посвистъ псаря, скликавшаго собакъ къ овсянкѣ, онѣ разомъ бросились и переплыли на другой берегъ; вечеромъ, правда, онѣ вернулись, но мы имъ не очень рады были, потому что онѣ жались и лѣзли мокрыя на тулупъ, сталкивая насъ съ него. На третій день мы очень повѣсили носы; я скучалъ по книгамъ, а болѣе всего по отцу и матери. Когда же пришло время вечеромъ разставаться съ сестрами, то я обнялъ сестру, и не отпуская рукъ плакалъ. Она поняла причину слезъ моихъ, и шутя сказала, что обѣщала дома привести и показать маленькаго дикаго, котораго зовутъ Пятницей; это подражаніе Робинзоновой Пятницѣ всѣмъ понравилось.
— А какъ я не вернусь, — спросилъ я братьевъ.
— Что же, какъ хочешь, — отвѣчали они, и кажется сами были бы рады домой, подъ какимъ угодно именемъ, хоть подъ своимъ подлиннымъ; но еще остались на острову. Я же вбѣгая въ домъ, радовался еще болѣе, чѣмъ дня три тому назадъ, высаживаясь на островъ. Меня назвали дикимъ, и подлинно я былъ такимъ! Загорѣлый, вскосмаченый, я бросался ко всѣмъ и обнимался со всѣмъ домомъ; на предложенный мнѣ матушкою чай, я бросился, какъ бросается Буянъ съ Богатыремъ на свистъ къ овсянкѣ; отецъ посмѣивался, мать молчала, но была весела. Разумѣется, я не вернулся вечеромъ на островъ; на другой же день мы съ сестрами пошли зазывать и братьевъ. Долго уговаривать ихъ было нечего, особенно когда услыхали они, что безъ насъ получены съ почты книги, и между ними какія-то «Мертвыя души», Гоголя, очень смѣшныя, который отецъ разрѣшаетъ намъ читать. — Мигомъ опустѣлъ нашъ островъ.
— Дядя, скажи, кто больше радовался вернуться домой, спросилъ Алеша, — мой отецъ или Алинъ?
— Ну, дружокъ, ужъ это ты ихъ спроси, — отвѣчалъ Михаилъ Павловичъ, — они оба прыгали и визжали отъ радости, какъ прыгаютъ около матерей молодые жеребята. Отецъ мой сначала подсмѣивался надъ нами, но послѣ прибавилъ, что ничуть не дивится тому, что мы соскучились безъ дѣла, и что если затѣвать такую игру, то надо селиться дѣльнѣе, разсчитывая на болѣе толковую жизнь, а не кидаясь на одно только заманчивое раздолье свободы и гулянокъ. Безъ прямой цѣли, безъ дѣла и труда, человѣкъ прожить не можетъ.
Весь день вертѣлась у дѣтей въ головѣ и на языкѣ эта попытка отцовъ ихъ въ дѣтствѣ прожить своимъ промысломъ на острову; много судили, осуждали, измѣняли они, точно будто сами испытали всѣ неудачи эти и готовились исполнить дѣло лучше. Наконецъ смерклось, подали огня, при свѣчахъ еще немного поработали, и стали собираться домой.
Мѣсяцъ свѣтло блеститъ на небѣ, частыя звѣзды такъ и горятъ, снѣгъ искрится, какъ днемъ; трое санокъ отъѣхало отъ подъѣзда.
— Прощай, Лина! прощай, Аля! — раздается Меринъ голосокъ.
— Прощайте! — кричатъ Лиза съ Зиной; — прощай, прощайте! раздается изъ отъѣзжающихъ санокъ. Шибко бѣжитъ лошадка, санки съ визгомъ скользятъ по снѣгу, а подлѣ нихъ синяя тѣнь съ такою же бойкой лошадкой и съ такими же маленькими сѣдоками скользитъ по бѣлой дорогѣ. Весело Лизѣ съ Зиной глядѣть, то на тѣнь, что бѣжитъ подлѣ нихъ, то вскинувъ глаза на голубое звѣздное небо; весело дѣтямъ, они провели мирный день вмѣстѣ, не ссорясь и не хоронясь отъ старшихъ!
Въ передней дѣти узнали, что у матери гости; не раздѣваясь они весело пробѣжали въ дѣтскую; но проходя мимо маленькаго кресла-качалки, Лиза тяжело вздохнула и стала понуря голову раздѣваться.
Зина, услыхавъ вздохъ, поняла его; проворно оправясь и приглядясь, она побѣжала къ матери. Едва ли не впервые вошла дѣвочка къ гостямъ, не думая о томъ, какъ бы показаться, какъ бы милѣе поклониться и какъ бы поумнѣе отвѣтить. Вошла она просто, съ желаніемъ въ сердцѣ, съ просьбою въ глазахъ; раскланявшись со всѣми, бросилась она къ матери на шею, и обнимая ее, полушепотомъ просила позволенья уступить стуликъ Лизѣ. Удивленная мать громко спросила:
— На что? Я тебѣ его подарила, а ты, какъ старшая, должна оставить его себѣ на память.
— Мама, милая мама, позволь, — шептала Зина, цѣлуя и обнимая мать, — позволь мнѣ отдать его Лизѣ, она больше моего любила Лилиньку, она всегда ее укачивала на немъ! При этихъ словахъ поцѣлуй зазвенѣлъ почти въ самомъ ухѣ матери; этотъ нежданный поцѣлуй сначала оглушилъ мать, потомъ порѣшилъ дѣло.
— Позволяю, мой ангелъ, пусть будетъ по твоему! — сказала Марья Романовна дочери, потомъ прибавила, обращаясь къ гостямъ: — Вы не повѣрите, какая она у меня женерозная!
Похвалы гостей посыпались на Зину, но она стрѣлой летѣла по комнатамъ, а за нею, какъ въ погоню, раздавалось на распѣвъ:
— Это рѣдкое, ангельское сердце!
Чистое, нравственное чувство тяготится и оскорбляется похвалой; какъ деревцо «не тронь меня», оно судорожно вздрагиваетъ, листочки и вѣточки его мгновенно сжимаются отъ грубаго невнимательнаго прикосновенія.
Запыхавшаяся дѣвочка вбѣжала въ дѣтскую, и двигая къ Лизѣ креслецо, съ трудомъ проговорила:
— Возьми стуликъ, онъ твой навсегда, и я его не отыму у тебя!
Удивленная и обрадованная Лиза стояла съ минуту молча, потомъ бросилась къ сестрѣ; обнимая она засыпала ее поцѣлуями, цѣловала ей шею и даже руки.
Зина, лежа въ постели, плакала про себя; что-то новое, неясное пробуждалось въ ней. Если бы бабушка видѣла ее, то поняла бы, что въ душѣ ребенка начинаетъ мерцать новый свѣтъ; и старушка благословила бы внучку на этотъ новый нравственный путь.
ВТОРОЙ СБОРНЫЙ РАБОЧІЙ ДЕНЬ. ДАННОЕ СЛОВО
Дѣти опять собрались у бабушки работать. Старушкѣ нездоровится, она лежитъ на диванѣ, слушая дѣтскую болтовню, то улыбнется, то задумается; какъ въ зеркалѣ видитъ и слѣдитъ она за ихъ откровенной бесѣдой, и думаетъ: каждый изъ нихъ родился со своимъ нравомъ, со своими качествами и недостатками, и всѣ они сжаты почти въ одинаковые тиски; выливаются по одному образцу; для добрыхъ зачалъ ребенка нѣтъ простора; прямота и правда пригнетаются свѣтской вѣжливостью, вмѣсто ихъ дается младенцу ложь и лицемѣріе; дѣтскія привязанности направляются туда, гдѣ виднѣе обстановка; нравственные недостатки, неузнанные и неосознанные, гонятся въ темный уголъ; тамъ живутъ они, укореняясь на просторѣ, и являются свѣту подъ чужой личиной; скупость кажется бережливостью, самохвальная расточительность — щедростью, жадность — гастрономіей! Кто же виноватъ? Родители, наставники? И не они собственно, а виноваты цѣлыя поколѣнія!
«Если Мишѣ дать волю, думаетъ старушка, — переходя съ общаго на частности, изъ него выйдетъ забіяка, похвальбишка и объѣдала. Саша — у Саши природа лучше, но ея впечатлительность, ея страшное стремленье къ изящному, могло бы, при дурномъ направленіи, обратиться на внѣшнее; она можетъ увлечься одной наружной красотой, и сдѣлается кокеткой. Зина уже теперь испорчена. Какъ же племяннику удалось сберечь и такъ развить Алю? подумала старушка. — Аля и Сережа лучшіе изъ всѣхъ моихъ внучатъ; правда, Сережа болѣе разумно, чѣмъ нравственно развитъ, но все же онъ лучшій изъ всѣхъ мальчиковъ, которыхъ я теперь видѣла».
— Бабушка, душенька! — закричала Лиза, вдругъ вспомня споръ свой съ няней, — скажи, кто изъ насъ роднѣе, я съ Сашей или я съ Мери? вѣдь мы, бабушка, все равно родня, — говорила Лиза, въ какомъ-то робкомъ ожиданіи, поглядывая на бабушку, — дѣвочка очень любила Сашу, и ей хотѣлось, чтобы родство ихъ было самое близкое. Бабушка тотчасъ поняла это, и ласково кивнувъ ей, спросила:
— Кто родные братья твоей мамы?
— Дяденька Сергѣй Романовичъ и дяденька Алексѣй Романовичъ, — отвѣчала Лиза.
— Да, — сказала старушка, — родные братья отца или матери тебѣ приходятся родными дядями, дѣти же родныхъ братьевъ или сестеръ приходятся другъ другу двоюродными, какъ ты съ Алей, Мери и Сережей. Ну, Лизочка, а нѣтъ ли у твоей мамы двоюроднаго брата? Лиза задумалась.
— Лиза, Лиза, — закричали мальчики, — а дяденька Михаилъ Павловичъ, — вѣдь онъ двоюродный братъ папѣ; стало быть и мамѣ твоей тоже двоюродный братъ.
Дѣвочка молча смотрѣла на бабушку, она уже начинала понимать, что, по родству, Саша ей придется далѣе Мери.
— Ну, Лиза, такъ мама твоя двоюродная сестра Сашиному отцу, а дѣти двоюродныхъ, вы съ Сашей, троюродные, или, что все одно, внучатные.
— Бабушка, такъ я Сашѣ все-таки вѣдь близкая родня? — спросила печально Лиза.
— Дружокъ мой, встарину, у насъ троюродные считались близкими, а теперь внучатное родство даже не многими считается родствомъ; но вы съ Сашей навсегда останетесь очень близкими, потому что ростете вмѣстѣ и любите другъ друга.
Дѣти довѣрчиво поглядѣли другъ на друга, и принялись опять за трудную работу въ чулкѣ, за вязанье пятокъ.
— Какая скука вязать пятку, а колпачекъ къ ней еще хуже! — вполголоса проговорила Зина. Всѣ дѣти поддакнули; одна Линочка, помолчавъ, чинно и мѣрно сказала:
— Мнѣ ничего, пятку вязать я даже люблю, потому что когда кончу ее, то всегда мнѣ сдѣлается весело. — Потомъ, помолчавъ еще немного, прибавила: — мама говорить, что всегда бываетъ такъ, когда хорошо покончишь трудное дѣло.
— Дѣти, дѣти! — быстро сказала Аля, — знаете ли какой клубокъ есть у Лины, волшебный!
— Линочка, у тебя волшебный клубокъ?
— Лина, какой это клубокъ, отчего онъ волшебный? — спрашивали дѣвочки и мальчики, — откуда онъ у тебя?
Порядочная и точная нѣмочка, отвѣчала на всѣ вопросы по очереди:
— Мнѣ подарила его моя тетенька, папина сестра; волшебнымъ его называютъ потому, что вяжешь, и вдругъ изъ него выпадетъ конфетка или наперстокъ, или что-нибудь другое, замотанное въ него; мой клубокъ большой, какъ два апельсина вмѣстѣ. Тетенька не велѣла его теребить булавочкой и подсматривать; я вяжу, вяжу, а какъ вижу, что изъ-подъ нитокъ начинаетъ что-то показываться, то я его покрою платкомъ, чтобы не подглядывать; а то, какъ не покроешь его, такъ все на него поглядываешь. А это не хорошо, тетенька не велитъ.
— Честная, правдивая дѣвочка, подумала бабушка; — кто-то изъ моихъ внучатъ смогъ бы дѣлать по-твоему. — И какъ бы въ отвѣтъ на бабушкину мысль, Саша сказала, обращаясь къ Лизѣ: — Я бы подсмотрѣла! — И я тоже, почти шепотомъ отозвалась Лиза. Зина молчала.
Аличка же, подумавъ немного, сказала:
— Лина, я бы на твоемъ мѣстѣ вотъ что сдѣлала: положила бы клубокъ въ клубочную плетеночку, что надѣваютъ на руку, когда вяжутъ чулокъ!
— Да, у меня есть такая корзинка, — сказала дѣвочка, — только въ нее не лѣзетъ мой клубокъ, онъ очень великъ.
— А тебѣ уже досталось что-нибудь изъ клубка? — спросила Мери.
— Да, наперстокъ и шоколадная конфетка.
— Большая конфетка? — спросилъ Миша.
— Довольно большая, знаешь, какъ будто палочка шоколаду въ свѣтленькой, блестящей бумажкѣ.
— Аля, послушай, — говорила Зина, — я видѣла днемъ Ниночкину парижскую сѣтку, чудо какъ хороша!
— Ахъ да, бабушка, — спросила Саша, — скажи, какія это птички, у которыхъ перышки похожи на ракушки, онѣ такія кругленькія, бѣленькія, съ сѣрыми жилками и красными краешками? такими перышками отдѣлана спереди Ниночкина сѣтка.
— Не знаю, дружокъ, я и не помню такихъ птичекъ; въ южныхъ краяхъ бываютъ очень яркія и пестрыя птицы, но по твоимъ словамъ я подозрѣваю, что перья подкрашены.
— Какъ это ты, бабушка, не замѣтила такой хорошенькой сѣтки? спереди точно раковинками убрана, сама бѣлая, а шнурки и кисти красные, точно изъ коральковъ!
— Нѣтъ, дружокъ, не замѣтила; да я и съ молоду не была мастерицей замѣчать наряды.
Лиза съ удивленьемъ слушала старушку, потомъ съ разстановкой сказала:
— Бабушка, если бы ты была маленькая, то мама часто бы тебя бранила; только ты не сердись за то, что я тебѣ сказала, — промолвила робкая дѣвочка, видя бабушкинъ задумчивый взглядъ.
— Нѣтъ, моя Лизочка, я никогда не сержусь за откровенность; а напротивъ того, люблю дѣтей, когда они прямо, не обинуясь, говорятъ то, что думаютъ, — сказала бабушка, притягивая къ себѣ золотистую головку ребенка и нѣжно цѣлуя ее въ темя.
— Бабушка знаетъ про Ниночку? — вполголоса спросила Аля у Саши. Саша отрицательно покачала головой.
— Что, что такое про Ниночку? — спросилъ Сережа.
— Ничего, это нашъ секретъ, — отвѣтили дѣвочки.
— У васъ секретъ съ Ниночкой? — съ нѣкоторымъ небреженьемъ спросилъ Сережа.
— Не съ Ниночкой, а объ Ниночкѣ, — вспыхнувъ отвѣтила Аля.
— Секретъ отъ насъ и секретъ отъ бабушки? это должно быть хорошо и занимательно!
— Вовсе не хорошо, — подхватила обиженная Саша, — Ниночка смѣялась надъ нашей бабушкой. Душка, сказала Саша, бросаясь къ бабушкѣ и засыпая ее поцѣлуями, — я тебѣ все разскажу, я бы тебѣ давно разсказала, да боялась огорчить тебя! А вы, братья, уйдите, я скоро разскажу, при васъ же мы разсказывать не станемъ, ужъ мы всѣ такъ сговорились!
— Это отчего, — нѣсколько обиженно спросили Сережа съ Алешей; а вспыльчивый Миша, пыхтя и краснѣя, прижался къ своему стулу, съ намѣреньемъ не слушаться сестеръ и силой остаться въ комнатѣ. Аля, какъ самая разумная, взялась пояснить все дѣло братьямъ:
— Видишь ли, Сережа, Ниночка очень глупо держала себя у Мери, то есть у васъ на вечерѣ, и была за это наказана; намъ не хочется, чтобъ ей еще сверхъ того досталось отъ васъ, а вы, какъ услышите, такъ навѣрно передадите другимъ, и ее станутъ дразнить.
— Да, да, — какъ пчелы зашумѣли дѣвочки, — не надо говорить братьямъ, они разскажутъ мальчикамъ.
Обиженный Сережа, видя, что со всѣми сестрами вмѣстѣ не сговоришь, обратился къ неизмѣнному другу своему:
— Послушай, Аля, знать ли, не знать ли Ниночкины глупости, это мнѣ почти все равно, но обидно то, что вы исключаете меня за болтовню! Неужели я не умѣю молчать, если дамъ вамъ слово никому не говорить?
Аля задумалась; потомъ сказала брату:
— Я знаю, что ты держишь свое слово; — потомъ, обратясь къ дѣвочкамъ, спросила: — Сестры, вы какъ думаете?
— Да, это правда, да, — отвѣчали онѣ, — Сережа держитъ слово, примемте и его въ секретъ!
Малютка Мери бросилась къ Сережѣ на шею, въ радости, что теперь у нея уже болѣе не будетъ тайны отъ него. Правду сказать, тайна эта ее очень тяготила; она нѣсколько разъ порывалась сообщить ее милому брату своему Сережѣ, но данное слово удерживало малютку.
— Ну и мы съ Мишей также даемъ слово никому не говорить, — закричалъ Алеша.
— Спасибо, — насмѣшливо отвѣчали сестры, — знаемъ мы ваше слово!
— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, — съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ, проговорилъ Алеша; мальчикъ смутно сознавалъ правоту сестеръ, но не хотѣлъ въ этомъ признаться; а Миша горячился и сердился, думая, что его обижаютъ: — Я вамъ даю честное слово….
— Да что намъ въ твоемъ словѣ, отнимешь и его какъ отнялъ колясочку, — закричала Саша, напоминая брату его неправду.
— То колясочка, — кричалъ расхорохорившійся Миша, — она мнѣ самому понадобилась!
— Ну и слово твое также понадобится тебѣ самому, — отозвалась Аля.
— Нѣтъ, сестры, ужъ Мишу ни за что не принимать!
— Не принимать, не принимать, — зажужжали дѣвочки, — и Алешу не принимать!
Бабушка взглянула на внуковъ; у Алеши глаза налились слезами, Миша рдѣлъ, какъ піонъ, пыжился и надувался, какъ подымается въ бутылкѣ молодое пиво; но бабушка остановила взрывъ этотъ впору, и не дала ему подняться чрезъ край.
— Охъ, друзья мои, да какъ же это вы довели себя до того, что не вѣрятъ слову вашему? а слово человѣка великое дѣло! Коли слову не вѣрятъ, значитъ самъ человѣкъ извѣрился.
— Бабушка, они такіе болтуны, такіе болтуны!
— Болтливы, можетъ быть, но развѣ, Алексѣй, ты не сдержишь слова, которое мнѣ дашь? — спросила бабушка, протягивая Алешѣ руку.
— Сдержу, бабушка! ты увидишь, — сказалъ мальчикъ, радостно хлопнувъ своей рукой въ руку старушкѣ. — Миша, хлопни и ты, сказалъ Алеша. Миша хлопнулъ, но бабушка, удержавъ его руку спросила:
— О чемъ же это мы съ тобою бьемъ по рукамъ, что ты мнѣ обѣщаешь?
— Обѣщаю, — живо отвѣчалъ мальчикъ, — что не разболтаю того, что сестры хотятъ тебѣ разсказать.
— Хорошо, Миша, — сказала бабушка, сжимая и встряхивая тоненькую ручонку внука, — помни же это! Всегда держись нашей коренной пословицы: «не давъ слова крѣпись, а давъ слово, — держись». Крѣпиться, значить удерживаться, не обѣщать чего-нибудь зря. Вотъ, друзья, когда вы будете крѣпки въ словѣ, тогда и вамъ станутъ вѣрить, какъ Сережѣ.
— Бабушка, я такъ стану стараться что чудо! — сказалъ Миша. И залегло что-то внутри его, какъ легкая память долга.
Сашу тревожила ихъ дѣтская ссора съ Ниночкой, и она давно бы все разсказала бабушкѣ, но дѣвочка крѣпилась, она жалѣла старушку, ей казалось, что бабушка оскорбится, узнавъ о томъ, что Ниночка насмѣхалась и передразнивала ее. И теперь, припавъ къ старушкѣ, она грустно глядѣла ей въ глаза. Видя, что Саша собирается съ духомъ, чтобы начать разсказъ, бабушка остановила ее словами:
— Постой, Сашинька, постой, дружокъ, не разсказывай мнѣ; хорошо знать про дѣтскія шалости, когда можно остеречь и вразумить ребенка, — съ Ниночкой этого сдѣлать нельзя, — слѣдовательно мнѣ и знать нечего.
— А вы, дѣтки, — примолвила старушка, обращаясь ко всѣмъ внучатамъ: — возьмите себѣ за правило: никогда не пересказывать слышанной брани или насмѣшки; изъ этихъ пересказовъ выходятъ сплетни, и часто приходится, какъ дѣтямъ, такъ и взрослымъ, жалѣть о своей болтливости.
— Бабушка, бабушка! ты возьми и съ нихъ слово, какъ съ насъ взяла его, — кричалъ Алеша, — такъ вотъ ужъ тогда ни за что не станутъ болтать! — Бабушка молчала, внучки такъ же.
— Да пускай-ка и онѣ дадутъ тебѣ слово, тогда небось, не станутъ болтать, — говорилъ Миша, прыгая и съ нѣкоторой угрозой посматривая на сестеръ.
Помолчавъ немного, Аля сказала бабушкѣ:
— Я тебѣ, бабушка, слова не даю, но обѣщаю остерегаться пересказовъ; папочка мой также не любитъ ихъ, онъ говорить: чѣмъ, дѣти, говорить откровеннѣе о самихъ себѣ и скромнѣе о другихъ, тѣмъ лучше.
— Правда, дитя мое, — это святая правда, но бываютъ иногда случаи, когда дѣти обязаны говорить все, что знаютъ, а именно: когда старшіе ихъ объ этомъ спрашиваютъ, тогда надо говорить все, также для предупрежденія какой-нибудь шалости, должны вмѣшаться въ чужія дѣла и сказать родителямъ или наставникамъ своимъ; что же касается до Ниночки, то это дѣло прошлое, вреда ни мнѣ, ни вамъ не было, а пользы отъ нашихъ разговоровъ ей тоже не будетъ, слѣдовательно и толковать нечего.
— А развѣ намъ про Ниночку ничего не разскажутъ? — спросили любопытные мальчики, — а слово то наше?
— Какъ же, какъ же, его я вамъ не отдамъ, — весело сказала бабушка, — вы сдержите слово всякой разъ, какъ заручитесь имъ. Ну, а о Ниночкѣ, видно, ужъ намъ съ вами не узнать!
— То-то же, — сказалъ Миша, усаживаясь за работу.
Мальчику началъ нравиться заданный ему нравственный трудъ, и онъ, довольный и гордый, носился съ этимъ новымъ чувствомъ нѣсколько дней, и потомъ сказалъ бабушкѣ, что данное слово очень похоже на игру: беру да помню; и что ему хотѣлось поскорѣе кому-нибудь дать слово, чтобы его сдержать.
— Что же, дружокъ, я готова играть съ тобой въ новую игру: даю да помню; давай, хлопнемъ по рукамъ, что ты даже въ шутку не станешь лгать!
— Изволь, ни за что не стану, все буду помнить, что обѣщалъ тебѣ, моя хорошая бабушечка, — сказалъ Миша, обвиваясь руками вокругъ шеи старушки.
— Ну ладно, такъ по рукамъ! Саша, ты иди сюда, — сказала бабушка, — по старинному обычаю долженъ быть свидѣтель, который разнимаетъ руки. — Саша съ трудомъ и смѣхомъ отцѣпила Мишину ручейку, которою онъ впился, какъ клещъ, въ бабушкину худощавую руку.
ТАЙНА
Что же это за тайна такая, которую мальчикамъ не удалось, а бабушкѣ не захотѣлось узнать? Тайна эта была дѣтская ссора, на томъ вечерѣ, на который маленькая Мери приглашала сестеръ пріѣхать въ старыхъ платьяхъ; вечеръ этотъ былъ отложенъ по болѣзни ея, и только на дняхъ отпразднованъ, по условію, въ самыхъ простенькихъ платьяхъ, такъ что и Линочка ничуть не стѣснялась своимъ мытымъ платьицемъ; тамъ были еще и другія дѣвочки, и Полинька, и шалунья Варя, и бойкая, насмѣшливая Элиза, и тихонькая, плаксивая Анюта.
Ниночка пріѣхала позже всѣхъ; она вошла, вслѣдъ за матерью своею, мѣрною походкой взрослой дѣвушки. Взглянувъ на Ниночку, дѣти забыли свой уговоръ, не дивиться на ея наряды; завидя чудную сѣтку, убраную разноцвѣтными перышками, они хлынули волной и окружили Нину. Глаза ихъ поднялись на голову, руки многихъ поднялись туда же; но не каждой рукѣ удалось погладить красивыя, мягкія перышки; не каждой дѣвочкѣ удалось подержать яркія, шелковыя кисти сѣтки; Ниночка была разборчива, она сходилась и дружилась по приказанію матери, которая указывала ей на тѣхъ дѣтей, коихъ родители были знатнѣе и богаче.
— Ахъ, Ниночка, что за прелесть! — говорила Саша, въ восхищеніи хлопая руками: — какія это должны быть хорошенькія птички, у которыхъ такія красивыя перышки! Ты не знаешь, какъ ихъ зовутъ? — спрашивала она, легонько гладя перяной вѣночекъ.
— Не знаю, — коротко отвѣтила Ниночка, и потомъ стала разсказывать о томъ, что сѣточка недавно прислана изъ Парижа, что бабушка видѣла на дочкѣ какой-то герцогини точно такую сѣтку, что платье и башмачки также парижскіе, и при этомъ выставила туго обутую ножку свою.
— Башмакъ, какъ башмакъ, — сказала Аля, поглядывая на полусапожки, подобранные къ цвѣту платья, — такіе и здѣсь найдутся, а вотъ сѣточка такъ очень хороша.
— Желала бы я знать, гдѣ ты здѣсь такіе найдешь, — сказала Ниночка, отворачиваясь отъ Али.
— Конечно, нельзя найти! — сказала одна изъ дѣвочекъ, желая угодить нарядной Ниночкѣ, и при этомъ пощупать кисточки и погладить перышки. И Нина повернулась въ ту сторону и спросила: — а ты разсмотрѣла сѣточку? Осчастливленная Варя протянула обѣ руки вверхъ и провела ими по перышкамъ, потомъ, взявъ кисти въ руки, сказала: — Какъ это смѣшно! глядишь, точно кисть изъ коральковъ, а пощупаешь, такъ мягко!
— Ну, что же мы стоимъ, пойдемъ въ гостиную, — говорила маленькая Мери, прыгая, но не выпуская руки Лины изъ своей: — пусть мама и тетя и всѣ посмотрятъ, какія на сѣточкѣ чудесный перышки и кисточки.
Сказавъ это, малютка понеслась съ Линой впередъ; за ними, медленно переступая въ тѣсныхъ парижскихъ сапожкахъ, шла Нина, окруженная шумною толпой дѣтей.
Въ гостиной Нину осматривали, ласкали, хвалили; бѣдная дѣвочка принимала всѣ эти похвалы на свой счетъ; ей и въ голову не приходило, что она, и богатый нарядъ, двѣ вещи разныя, что можно хвалить и сѣтку и платье, не заботясь о болванчикѣ, на который оно надѣто.
Всѣ дѣти, дѣвочки и мальчики, собрались въ большой столовой пить чай; у нихъ шумно и весело, они дружно таскаютъ стулья, усаживаются, прислуживаютъ другъ другу. Маленькая хозяйка, растянувшись черезъ столъ, щедрою рукой одѣляетъ мелочью изъ корзинки, замѣтивъ, что мальчики не ровно подѣлили добычку, она бѣжитъ туда и равняетъ кучки, добавляя изъ своей корзинки.
— Мери, — кричатъ мальчики, торопясь упрятать трубочки, завиточки и лепешечки, — ты мнѣ прибавь!
— Мери, Мери! ты меня забыла, — зоветъ шалунья Варя, прикрывая свою долю.
Малютка бѣгаетъ съ корзинкой туда и сюда, какъ насѣдка за цыплятами; дѣти весело справляются съ чаемъ, только жеманная Ниночка какъ бы нехотя пьетъ и ѣстъ.
— А знаете что, говорить она, — maman сказала, что въ награду за нашу благотворительность, она непремѣнно устроитъ намъ какое-нибудь удовольствіе, и даже въ тотъ вечеръ, когда будемъ розыгрывать лотерею! — Сказавъ это, Ниночка величаво посмотрѣла на дѣтей.
— Ниночка! — вскричала Аля, болѣе этого у ней на первую минуту не нашлось словъ; душевное негодованье яркой краской бросилось ей въ лицо.
— Мы не хотимъ, — сказали въ голосъ Лиза съ Сашей. — Да, не хотимъ, громко закричала ободрившаяся Лиза, настойчиво глядя въ лицо Ниночки. Въ разговорахъ съ бабушкой, загнанная дѣвочка начала чувствовать опору и стала смѣлѣе говорить, что ей нравилось или не нравилось.
— Чего вы не хотите, какая лотерея? — спрашивали неучаствовавшія въ ней дѣвочки.
— А вотъ пустите, я вамъ сейчасъ разскажу, — кричалъ Володя, продираясь и становясь передъ Ниночкой, — я вамъ разскажу, чего не хотятъ онѣ, — сказалъ мальчикъ, указывая на Алю и сестеръ ея, — и чего желаетъ достопочтенная моя сестрица: она желаетъ славы, и я со временемъ напишу статью въ энциклопедическій словарь, — говорилъ онъ, вскочивъ на стулъ какъ на каѳедру и указывая рукой на Ниночку: — «Нина Марковна Муромская, знаменитая своимъ человѣколюбіемъ, спасла жителей города Симбирска отъ голодной смерти, пожертвовавъ на дѣтскую лотерею работу своей гувернантки». — Раздался общій смѣхъ.
— Володя! — кричала Ниночка; но бойкій Володя давно добирался, какъ онъ говорилъ, до своей ломаной сестрицы, и потому продолжалъ, ничуть не смущаясь: — «Такая жертва ставитъ соотечественницу нашу на ряду съ Ласказасами и Говардами…»
Мальчики громко хохотали, дѣвочки нѣсколько удерживались. Раздосадованная Нина, шумно отбросивъ стулъ, вышла изъ комнаты. Черезъ нѣсколько минутъ вспыльчивая, но добренькая, маленькая хозяйка совѣтовалась въ дѣтской съ сестрами, чѣмъ бы утѣшить и успокоить раздосадованную Ниночку. Всѣ положили извиниться передъ нею, и разсказать или лучше сказать, напомнить ей бабушкины слова о лотереяхъ.
Гнѣвная Ниночка, ходя изъ комнаты въ комнату, зашла въ дѣтскую; дѣти ласково обступили ее, и успокоительный слова послышались со всѣхъ сторонъ.
— Ты, Нина, не сердись, ужъ мальчики всегда такіе, надъ всѣми смѣются, всѣхъ дразнятъ; вѣдь это все твой Володя!
— Ну, ужъ, всѣ вы хороши! — рѣзко замѣтила Ниночка, — вамъ же хотятъ сдѣлать удовольствіе, а вы же отказываетесь! Право, точно идіотки какія, ничего не понимаютъ, а смѣются и радуются на Володины глупости. — Такъ продолжала разсерженная дѣвочка, которая, никого не любя, никого не щадила, а при малѣйшей обидѣ фыркала и щетинилась какъ кошка, не разбирая ни праваго, ни виноватаго, ни друга, ни недруга.
— Нина, ты не сердись, мы смѣялись надъ тѣмъ, что Володя говорилъ, а не надъ тобою.
— Да мнѣ что до того, что вы думаете: стану я объ этомъ заботиться! — ѣдко усмѣхнувшись, отвѣтила Ниночка.
Дѣти замолчали. Ниночка свысока, въ полглаза глядѣла на нихъ; она была нѣсколько старѣе Али и Зины, и потому считала себя умнѣе всего этого гнѣздышка сестеръ.
Зина подошла и хотѣла ее обнять, но сердитая дѣвочка ловко увернулась. Видя, что она все еще сердится, Аля начала ее уговаривать:
— Ниночка, ты не сердись и за то, что мы отказываемся отъ удовольствія, которое твоя мама хочетъ намъ сдѣлать; ты не можешь себѣ представить, какъ противно думать о наградѣ за такіе пустяки, да и бабушка наша тоже говорить…
— Ну ужъ бабушка ваша! подите вы съ нею, точно нянька какая, все съ вами сидитъ; а въ гостиную войдетъ, только и слышно: «тетушка, тетушка, пожалуйте сюда; матушка, вамъ здѣсь покойнѣе, сядьте здѣсь». А она одѣта такъ, что показаться совѣстно!
Озадаченныя дѣти, привыкшія чтить бабушку, стояли въ изумленіи передъ расходившейся Ниной. Мери первая опомнилась и, подбѣжавъ къ Ниночкѣ, закричала:
— Ты не смѣешь такъ говорить про нашу бабушку!
— Видишь, что смѣю, — надменно отвѣчала дѣвочка.
— Нѣтъ, не смѣешь, — чуть не плача кричали Мери, Саша и Лиза.
— Ужъ есть чего не смѣть! — съ небреженіемъ сказала Ниночка: — сшила себѣ репсовое платье съ кофтой, да и выѣзжаетъ въ немъ, какъ въ мундирѣ, совсѣмъ отвыкла отъ порядочнаго общества, еще была бы бѣдная, а то говорятъ, чуть ли не богаче моей бабушки; такъ ужъ, просто, скупая! А ходить то какъ, смѣхъ да и только!
Тутъ Ниночка, оглянувшись по сторонамъ, увидѣла Мерину оправленную на ночь кроватку, схватила съ подушки ночной чепчикъ, и сбросивъ съ себя сѣтку, натянула его на лобъ, потомъ, стащивъ вязаное шерстяное одѣяльце, накинула его шалью на плеча, и пошла старческой походкой вокругъ комнаты, передразнивая старушку. Нѣкоторыя дѣти хотѣли словами остановить ее, а гнѣвная Мери, какъ вѣтромъ вздувшійся парусъ понеслась прямо на нее, но, запутавшись въ кистяхъ валявшейся парижской сѣтки, упала; вскочивъ, она подхватила сѣтку эту, и съ угрозой: — «Хорошо Ниночка, хорошо», побѣжала изъ комнаты.
Воротясь, она увидала, что Нина еще не хватилась своей потери, и пошептавшись съ сестрами, увела ихъ за собой въ залу; тамъ онѣ, обнявшись, ходили вереницею, негодованье и дѣтское мщеніе волновали каждую изъ нихъ.
— Какъ она смѣетъ бранить мою бабушку! — говорила раскраснѣвшаяся, заплаканная Саша, — я никогда не поѣду къ ней.
— И я также, — сказала Аля. И Лиза сказала бы тоже, но она знала, что мать ее пошлетъ.
— Злая Нинка! — сказала она со вздохомъ: — счастливыя вы, что можете не ѣздить къ ней!
— Сестры, сестры, отдайте пожалуйста Ниночкину сѣтку, — говорила прибѣжавшая изъ дѣтской разстроенная Зина: — она такъ сердится, что ужасъ! пожалуйста отдайте!
— У насъ нѣтъ, отвѣчали дѣвочки.
Зиночка ушла, но черезъ минуту опять вернулась, заплаканная и обиженная: вѣроятно милая подруга ея не пощадила и своего вѣрнаго друга.
— Сестры, да отдайте, ради Бога! вы не знаете какъ она сердится!
— Мери, отдай ей, вѣдь она тамъ прибьетъ Зину, — сказала Лиза.
Зиночка опять заплакала, ей было горько на сердцѣ, но она никому не сказала о томъ, что перенесла въ эти полчаса отъ самолюбивой дѣвочки. У Зины было сердце, и хотя она дурно выбирала своихъ друзей, но умѣла привязываться къ нимъ.
— Ну, что же, я пожалуй отдамъ, — сказала Мери, и проворно побѣжала въ дѣтскую; обрадованная Зина за нею; а черезъ пять минутъ въ залѣ показалась и Ниночка; она шла въ гостиную, ни на кого не глядя, шла тихо, шагъ за шагомъ, накрывъ щеку платкомъ. Дѣти изъ любопытства послѣдовали за нею; тамъ Ниночка сдѣлалась еще печальнѣе. Тихо и нѣжно наклонясь къ матери, она что-то ей сказала; сердца дѣтей дрогнули, онѣ думали, что Ниночка жалуется; но вскорѣ успокоились, увидавъ, что хитрая дѣвочка, ссылаясь на зубную боль, просила уѣхать домой. Онѣ съ удивленіемъ слушали, какъ Нина печально разсказывала хозяйкѣ, что зубныя боли ее часто мучаютъ, какъ при этомъ гости принялись хвалить ангельское терпѣнье дочери, о которомъ разсказывала мать; какъ та, опустивъ голову, принимала незаслуженный похвалы. Дѣти дивились и негодовали; большіе, ничего не зная, любовались на разряженную, красивую и добрую дѣвочку. Что если бы узнала мать, отчего выступили красныя пятна на лбу дочери и отчего такъ заплаканы глаза? Испугалась ли бы она всей испорченности ребенка, или порадовалась бы ея находчивости?
Дѣти, какъ пчелы жужжа и гудя въ кучкѣ долго толковали о ссорѣ, и рѣшили никому не говорить объ ней. Обиженная Зина весь вечеръ была очень задумчива, и на утѣшенье дѣтей съ горестью сказала:
— Она меня не любитъ!
— Вотъ, есть о чемъ горевать, — сказала Аля, желая утѣшить сестру. — Ниночка никого не любитъ, кромѣ своихъ нарядовъ, и то пока они новы! — Замѣчаніе это было вѣрно.
ТРЕТІЙ РАБОЧІЙ ДЕНЬ. СКУЧНЫЙ ДЕНЬ
— Сегодня будетъ скучный день, — говорилъ Миша, повѣся голову на руки и упираясь локтями на столъ. — Сегодня будетъ скучно, — повторялъ онъ чуть не плача, и скользя локтями по столу, обходилъ его съ конца въ конецъ. — Я ужъ навѣрно знаю, что всѣмъ будетъ очень скучно!
— Миша, да перестань! — закричала Саша, которую дурное расположеніе брата всегда приводило въ тоску.
— Я ужъ навѣрно знаю, что намъ всѣмъ будетъ скучно, — жалобно и сердито говорилъ мальчикъ, покачивая головою.
— Бабушка, не вели ему скучать! — вспыльчиво сказала дѣвочка.
Бабушка, которая поджидала на сегодняшній сборный день внучатъ, и заготовляла имъ работу, вдругъ подняла на дѣтей глаза и, пристально посмотрѣвъ на того и другаго, спросила, обращаясь къ Сашѣ:
— Ты думаешь, можно запретить скучать?
Сашу смутилъ вопросъ этотъ.
— Нѣтъ, мой другъ, — продолжала старушка, — можно запретить кричать, пищать или ѣздить на локтяхъ по столу и тѣмъ пачкать рукава рубашки, но запретить скучать или радоваться — нельзя.
При этихъ словахъ Миша тихонько поднялъ локти и, поглядѣвъ на нихъ, опустилъ руки со стола и началъ прислушиваться, почему бабушка не можетъ запретить ему скучать.
Помолчавъ немного, старушка спросила:
— Когда ты скучаешь, Саша, то что тогда дѣлаешь?
— Я, бабушка, тогда ничего не дѣлаю.
— Отъ того-то и скучаешь, что ничего не дѣлаешь.
— Да мнѣ тогда, бабушенька, ничего не хочется дѣлать, ни бѣгать, ни играть, ни смотрѣть, мнѣ всей скучно!
— Однако, подумай хорошенько, Саша, чему же болѣе скучно, ногамъ, рукамъ или глазамъ твоимъ?
— Нѣтъ, бабушенька, мнѣ — во мнѣ скучно!
Взглянувъ мимоходомъ на внука, бабушка замѣтила, что онъ однѣхъ мыслей съ сестрой о скукѣ. Старушка повторила послѣднія Сашины слова: «тебѣ въ себѣ, внутри себя скучно»
— Вотъ этому-то нутру человѣка, которое то радуется, то думаетъ, то скучаетъ, другой человѣкъ приказывать не можетъ, этому-то нутру своему, или самому себѣ, только самъ человѣкъ и можетъ приказывать, а не иной кто. Вотъ хоть бы теперь Миша, онъ только одинъ можетъ приказать себѣ не скучать.
— Какъ! — закричали дѣти, — ни ты, ни папа, ни мама, не можете намъ приказать?
— Нѣтъ, не можемъ, да и не станемъ приказывать того, чего нельзя исполнить; мы запрещаемъ вамъ: шалить, ссориться, обижать друга друга, громко плакать, хотѣть сердиться, хотѣть скучать. Мы запрещаемъ дѣлать, а чувствовать и думать внутри себя никто никому приказать или заказать не можетъ.
Дѣти задумались, имъ и въ голову не приходило въ какомъ просторѣ живетъ душа человѣка съ самаго, дѣтства его.
Но Сашѣ было это странно, отчего ни отецъ, ни мать, ни бабушка не могутъ приказать дѣтямъ, что бы то ни было.
— Постой, дружокъ, мы это дѣло вотъ какъ повернемъ: ты любишь прыгать на одной ножкѣ, взявшись съ Мишей за руки, и вы часто забавляетесь этимъ; когда же я васъ остановлю, сказавъ: полно, дѣти, будетъ такъ играть, вы мнѣ всю голову разстучали, то вѣдь вы въ туже минуту перестаете?
— Да, конечно! — закричали дѣти.
— Ну, а если бабушка скажетъ: — Саша, перестань, сердиться на братца, то можешь ли ты въ ту же минуту перестать сердиться?
Саша на минуту призадумалась…
— Нѣтъ, бабушка, она не перестаетъ, она долго молча про себя сердится, — закричалъ Миша.
— Вотъ вамъ и разница между приказаніемъ дѣлать и чувствовать; дѣлу приказываютъ и пишутъ законы, нутру же человѣка, т. е. чувству и уму совѣтуютъ и наставляютъ. Приказывать же чувству человѣкъ можетъ только самому себѣ. Хочешь, Миша, попробовать, прикажи себѣ не скучать?
— Хочу, — бойко отвѣчалъ мальчикъ, который уже забылъ о предстоявшей скукѣ, но бабушкѣ было дѣло не столько въ развлеченіи ребенка, сколько въ томъ, чтобы съ-измалу показать дѣтямъ необъятный просторъ своеволія человѣка и пріучать ихъ управлять волею, т. е. самимъ собою.
— Напередъ всего, скажи мнѣ отчего ты скучаешь?
— Да вотъ, бабушка, папа опять не хочетъ разсказывать намъ о томъ, какъ они жили на острову!
— Почему же не хочетъ, вѣрно ему некогда?
— Онъ говоритъ, что некогда, что на весь день уѣдетъ, — отвѣчалъ Миша, впадая снова въ свое разположеніе.
— Ну, стало быть этой бѣдѣ помочь ты не можешь, и сколько ни думай, все останется по старому; но своему горю ты одинъ господинъ, захоти не скучать и не будешь; отгони отъ себя докучную мысль, задумай о чемъ-нибудъ другомъ, и какъ рукой сымешь скуку! Вотъ видишь, совѣтовать это я могу, а приказать тебѣ не скучать не могу!
— Бабушка, да вѣдь другое-то не думается, — плаксиво отвѣчалъ мальчикъ.
— Знаю, очень знаю, дружокъ, что мысли бываютъ неотвязчивы, но потому-то и надо съ дѣтства привыкать справляться съ ними. Ты, кажется говорилъ, что всѣмъ будетъ скучно? Вотъ и подумай о томъ съ Сашей, какъ вамъ занять гостей своихъ послѣ работы, чтобы они не скучали.
Старушка любила развивать въ дѣтяхъ заботу о другихъ, и тѣмъ глушить молодое себялюбіе. Помолчавъ немного, Миша вопросительно поглядѣлъ на сестру, которая уже перебирала въ памяти свои любимыя игры. «Въ рыбки станемъ играть!» сказала она, вспомнивъ одинъ изъ святочныхъ вечеровъ, когда они съ няней играли въ бѣлой комнатѣ, при мѣсячномъ освѣщеніи.
— Да, да, — закричалъ Миша, прыгая передъ сестрой, — и няничку возьмемъ играть съ нами, — говорилъ онъ, припоминая, какъ няня, сидя на полу, ловила ихъ на удочку.
— Ну, а что же ты не скучаешь? — спросила старушка.
— Не хочу! — весело отвѣчалъ мальчикъ, взявшись за руки съ сестрой и прыгая на одной ножкѣ; эта игра у нихъ звалась: толочь сахаръ въ два песта.
— Не хочешь, — повторила бабушка, — видно я правду сказала, что ты воленъ въ себѣ, хотѣть скучать и хотѣть радоваться!
— Пра-а-авду, — закричалъ Миша, прыгая въ мѣру и мѣняя подъ собою ноги, — пра-а-вду!
За этимъ прыганіемъ и припѣвомъ, ни дѣти, ни бабушка не слышали другихъ дѣтскихъ голосовъ, которые шумно и радостно приближались по коридору; впереди всѣхъ вбѣжала раскраснѣвшаяся Лиза, держа высоко надъ головой сверточекъ, за нею, спотыкаясь и расталкивая всѣхъ, вбѣжала маленькая Мери, крича:
— Это Сережа, это Сережа, Лизѣ подарилъ! онъ самъ вчера купилъ, Лили, на свои деньги!
Лиза совала бабушкѣ сверточекъ, Аля крѣпко прижималась къ старушкѣ, цѣлуя и обнимая ее. Лина въ третій разъ уже низко присѣдала, скромно выжидая, не взглянетъ ли на нее старушка, Сережа съ Алешей также тѣснились къ бабушкѣ, одна Зина поотстала въ горячности; она вмѣстѣ съ другими заглядывала въ картинку, улыбалась, принимала видъ довольный и веселый, но внутри ей было скучно; она досадовала на Сережу, зачѣмъ онъ не ей подарилъ картинку, и сердилась отчасти и на Лизу, потому что завидовала ей. Всѣ были радостны и веселы, и Зина старалась казаться веселой.
Отчего, одна и таже причина, такъ разно подѣйствовала на дѣтей? Оттого, что нравы разны; сердца простыя, добрыя, радуются другъ за друга; лукавыя же и себялюбивыя стараются захватить все для самихъ себя.
Къ несчастію въ Зиночкѣ и себялюбіе сильно развивалось.
— Бабушка, душечка, ты погляди, это ангелъ несетъ Лилиньку къ Богу, — говорила Лиза, задыхаясь отъ радости.
Старушка сѣла, расправила на колѣняхъ картинку, свернутую трубочкой, и стала всматриваться въ изображеніе летящаго ангела, съ ребенкомъ на рукахъ.
— И цвѣточки-то наши Лиличка понесла къ Богу! — закричалъ Миша, всплеснувъ руками.
— Гдѣ, гдѣ? Ахъ да! и въ самомъ дѣлѣ! посмотри, бабушка! — кричали дѣти, указывая на большой снопикъ цвѣтовъ въ картинѣ.
Старушка, всматриваясь, что-то думала: она узнала картинку, старалась припомнить тотъ разсказъ, для котораго она была нарисована.
— И въ самомъ дѣлѣ, — сказала бабушка, — картинка эта очень походитъ на нашу малютку, но сдѣлана она для одного дѣтскаго разсказа, дѣтскаго писателя Андерсена.
— Пускай ужъ это будетъ лучше наша Лили, — умильно просила Лиза, Саша и Миша желали того же. — Пусть это наши цвѣточки у ней будутъ, бабушка, да?
— Да, да, — отвѣчала старушка, — пусть это будетъ наша Лили.
— А ты, бабушка, знаешь про другую дѣвочку, за которой тоже прилеталъ ангелъ, — спросила Саша, большая охотница до разсказовъ.
— Знала ли дѣтей, за которыми прилеталъ ангелъ? — задумчиво проговорила бабушка, которая столькихъ дѣтей перехоронила, и помолчавъ немного, сказала: — я вамъ разскажу то, что говоритъ Андерсенъ объ умершихъ дѣтяхъ; но напередъ садитесь за работу.
Дѣти съ шумной радостью задвигали стульями, клубки покатились изъ торопливыхъ рученокъ, попадали спицы изъ чулокъ, но подъ степеннымъ надзоромъ старушки скоро все пришло въ порядокъ. Посидѣвъ и подумавъ немного, бабушка начала такъ:
«Переходъ младенца въ другой міръ.
«Когда дитя помираетъ, говорить Андерсенъ, то Господь посылаетъ ангела съ неба за душою ребенка. Ангелъ стоить надъ кроваткой и ждетъ когда бабочка спустить личинку, когда душа сбросить тѣло, потомъ онъ беретъ ее на руки, крѣпко прижимаетъ къ себѣ и вылетаетъ съ нею изъ дома. Ангелъ носить душу надъ землею, показываетъ ей все что она любила; потомъ набираетъ съ нею любимыхъ цвѣтовъ малютки, и уносить съ собою на небо.
«Какихъ же мы съ тобой нарвемъ цвѣтовъ, спросилъ одинъ ангелъ у малютки, котораго только что взялъ съ земли. Дитя, какъ въ просонкахъ повернулось къ землѣ, летя надъ садомъ, гдѣ часто играло, увидало знакомый кустъ бѣлыхъ розъ съ надломанною вѣткой, она небыла красива, потому что листья на ней уже завяли, полураспустившіеся цвѣты поблекли, но ребенку стало жаль вѣточки и онъ потянулся къ кусту; ангелъ опустился, сорвалъ надломанную вѣтку, и съ поцѣлуемъ передалъ ребенку.
«Малюткѣ захотѣлось нарвать и другихъ любимыхъ цвѣтовъ своихъ и взять ихъ съ собою.
— И ландышей, бабушенька? — спросила Мери, охотница до цвѣтовъ, особенно до душистыхъ.
— И жасминовъ, и розъ, и маленькихъ желтыхъ жасминовъ, — перебивая другъ друга, кричали дѣти.
— Я бы взяла бѣлыхъ розъ, — сказала Саша, но, вспомня красоту и яркость другихъ, прибавила: — и желтыхъ и алыхъ, и красныхъ, но побольше взяла бы бѣлыхъ — ихъ я очень люблю!
Лина потихоньку сообщила Алѣ, что она взяла бы бѣлую лилію; но передъ Алею, жившей на просторѣ, въ деревнѣ, разстилался лужекъ, а въ частой, высокой травѣ его синѣли колокольчики, алѣлъ переплетаясь душистый горошекъ, блестѣла золотая медвянка, всѣ цвѣты перемѣшаны были въ пестротѣ, а надъ ними вились бабочки… Вдругъ сердце у Али дрогнуло:
— Я знаю, какой ангелъ прилетитъ за мною, когда я помру, — шепнула она сосѣдкѣ своей Линѣ. Лина молча вопросительно поглядѣла на нее.
— Моя мама, — проговорила дѣвочка.
— Ну, бабушка, душенька, вотъ они набрали много всякихъ цвѣтовъ и полетѣли, а тамъ что? — нетерпѣливо спрашивала Саша.
Бабушка молча показала внучкѣ на брошенную ею работу; намекъ былъ понять, а бабушка продолжала:
«Набравъ всѣхъ любимыхъ своихъ цвѣтовъ, малютка отвернулся отъ земли, сказавъ: довольно будетъ; но ангелъ не подымался, онъ полетѣлъ въ самую бѣдную часть города, гдѣ, на тѣсномъ грязномъ дворѣ, между мусоромъ и всякимъ соромъ, лежали черепки горшка, съ комкомъ обсохлой земли, въ которой торчало нѣсколько сухихъ прутиковъ. Ангелъ спустился и бережно отдѣлилъ растенье отъ земли; на вопросъ ребенка за чѣмъ онъ беретъ сухую траву, ангелъ сказалъ, что засохшій цвѣтокъ этотъ былъ въ свое время единственной забавой и радостью одного бѣднаго ребенка, и за то теперь долженъ цвѣсти въ раю.
«Какого ребенка, участливо спросило дитя?
«Подымаясь съ земли, ангелъ указалъ малюткѣ на крошечное окно въ подвальномъ жильѣ, и унося малютку все выше и выше, разсказывалъ ему слѣдующее: въ этомъ грязномъ и сыромъ подвалѣ жилъ мальчикъ, больной почти со дня рожденія, только въ самые здоровые дни свои могъ онъ пройтись на костыляхъ по комнатѣ, или посидѣть на солнышкѣ, на полу, и то не на долго потому что солнышко заглядывало въ низенькое окошечко на очень короткое время. Не смотря на бѣдность, болѣзнь и одиночество, ребенокъ быль очень терпѣливъ. Иногда забѣгалъ къ нему сосѣдскій мальчикъ, поиграть, разсказывалъ бѣдняжкѣ, какъ хорошо на улицѣ, а еще лучше того въ полѣ, гдѣ солнышко свѣтитъ прямо, не изъ-за крышъ, и свѣтитъ съ утра до вечера, разсказывалъ, какъ поютъ тамъ птички, какъ летаютъ онѣ съ вѣтки на вѣтку, съ дерева на дерево. Ребенокъ слушалъ, но мало понималъ, — онъ отроду не видывалъ деревьевъ. Однажды забѣжалъ къ нему мальчикъ прямо съ гулянья и принесъ большую березовою вѣтку: бѣдняжка очень обрадовался душистой березкѣ, онъ все смотрѣлъ на липкіе, смолистые листочки, на длинныя сережки; трясъ вѣтку, подымая ее надъ головою и прислушиваясь къ шелесту листьевъ, воображалъ себя въ лѣсу. Радость товарища очень понравилась мальчику; со слѣдующаго же гулянья онъ принесъ цѣлую охабку цвѣтовъ и зелени, между которыми нашелся кустикъ, вырванный съ корнемъ; кустикъ этотъ посадили въ горшокъ, стали поливать, онъ принялся и разросся; каждую весну гналъ онъ новые побѣги и потомъ зацвѣталъ и цвѣлъ долго; больной мальчикъ самъ заботился о немъ, поливалъ переносилъ съ мѣста на мѣсто, гоняясь за солнышкомъ, потомъ на ночь опять переносилъ, и ставилъ у себя къ изголовью; и во снѣ не покидала его мысль о цвѣткѣ: ему снилось, что въ головахъ его изъ куста разростается большой садъ, что онъ тамъ гуляетъ, дышитъ чуднымъ воздухомъ, радуется на Божій міръ. Но мальчикъ умеръ; годъ прошелъ съ того времени, горшокъ забыли поливать, цвѣтокъ засохъ, и вотъ его выкинули въ соръ; а между тѣмъ, полевой цвѣтокъ этотъ принесъ болѣе утѣхи ребенку, чѣмъ всѣ тепличные цвѣты барскихъ палатъ. Пусть же онъ за это, прибавилъ ангелъ, растетъ у насъ въ раю.
Бабушка продолжала:
«Долго и внимательно вслушивался малютка въ ангельскія рѣчи, потомъ спросилъ: почемъ же ты знаешь, что это тотъ самый цвѣтокъ?
«Какъ же мнѣ не знать своего цвѣтка, сказалъ ангелъ, прижимая къ себѣ малютку, я вотъ самый больной ребенокъ, о которомъ я тебѣ разсказывалъ. Сказавъ это, онъ понесся еще быстрѣе и скоро въ радостномъ трепетѣ опустилъ младенца у колѣнъ Господнихъ».
Кончивъ разсказъ, бабушка откинулась на спинку креселъ и молча глядѣла на дѣтей, который тотчасъ принялись за опущенную работу: напряженное вниманіе нескоро улеглось; мысли ихъ, стремившіяся за улетающимъ ангеломъ, какъ будто остановились въ высотѣ и не могли вдругъ опуститься на землю…
— Барышня, пожалуйте къ тетенькѣ, тетенька васъ зовутъ, — проговорила старая нянечка.
— Къ Любѣ? — живо спросила Саша.
— Нѣту, тамъ гостья съ барышней пріѣхали, такъ велѣли васъ всѣхъ позвать, — говорила старуха, оправляя и охорашивая Сашу.
Дѣти, будучи еще подъ вліяніемъ разсказа, неохотно встали; но такова дѣтская природа: какъ только они стали на ноги, такъ и пустились въ перегонку, другъ за дружкой; мальчики летѣли, какъ на конькахъ, скользя по гладкому паркету, и едва удержались на ногахъ около дверей гостиной; переведя духъ, они чинно вошли туда и раскланялись съ гостями. Всѣ окружили маленькую гостью, одѣтую, какъ рисуютъ дѣтей на модныхъ картинкахъ; картинка эта была ни кто другая, какъ Ниночка; въ ней и слѣда не было недавней ссоры, она улыбалась, участливо разспрашивала о работахъ, однимъ словомъ, была мила, на диво всѣмъ; а между тѣмъ мать ея о чемъ—то горячо и убѣдительно говорила Софьѣ Васильевнѣ. Слова: поощреніе, соревнованіе, нравственное развитіе, дѣтская лотерея — заставили Алю попристальнѣе вслушиваться въ рѣчи Ниночкиной матери. Минутъ чрезъ пять она побѣжала къ бабушкѣ и торопливо стала просить ее не соглашаться на предложеніе Муромской.
— Мы, бабушка, не хотимъ, пожалуй лучше, если вовсе не будетъ у насъ лотереи; мы не хотимъ такъ, мы всѣ тебя очень, очень просимъ, — и не договоря чего именно дѣти не хотятъ, и чего просятъ, Аля чмокнула раза три бабушку и спѣшно выбѣжала изъ комнаты, потому что заслышала голосъ тетки; рѣзвымъ вѣтромъ пронеслась она по коридору мимо Софьи Васильевны.
Войдя въ гостиную, она быстро переглянулась съ Сережей, и дѣти поняли другъ друга. Какое-то ожиданіе сильно занимало всѣхъ, но какъ гости, такъ и маленькіе хозяева говорили о постороннихъ вещахъ, поглядывая на дверь, въ которую вышла Софья Васильевна.
— Ты, Миша, отчего не навѣстишь моего Луи, — спросила Муромская, — карантинъ его кончился, не бойся, корь не пристанетъ.
— Я ничего не боюсь, — живо отвѣчалъ мальчикъ, — я такъ просто не ѣду.
— Отчего же просто не ѣдешь, — допытывалась Муромская.
— Оттого что съ нимъ скучно, онъ нѣженка, игрушекъ не даетъ смотрѣть, самъ играть и бѣгать не хочетъ, боится упасть и запачкать платье, я его…
Тутъ Миша нечаянно взглянулъ на Сережу и не договорилъ своего суда надъ маленькимъ Муромскимъ, который дѣйствительно былъ какимъ-то страннымъ явленіемъ среди русскихъ дѣтей; его одѣвали какъ рисуютъ на картинкахъ шестилѣтняго французскаго короля Людовика ХѴ; вялый, болѣзненный ребенокъ еле-еле шевелился въ кругу рѣзвыхъ дѣтей, говорилъ охотнѣе французскія заученныя фразы, но на такъ называемые комплименты былъ мастеръ и охотникъ, и подавалъ матери своей большія надежды.
— Такъ что же ты его? — допытывалась гостья; но Миша молчалъ, онъ понялъ предостереженіе брата.
— Тебѣ который годъ? — спросила опять Муромская у Миши.
— Мнѣ скоро восемь, — бойко отвѣтилъ мальчикъ, вскидывая голову, и гордо посматривая кругомъ.
— Видишь! а Луи всего только шесть, т. е. ему кажется минуло семь, — вопросительно отнеслась она къ Ниночкѣ, вспомня, что всѣ эти дѣти праздновали у нихъ, мѣсяца два тому назадъ, день рожденія ея сына.
— Да это не оттого, что онъ маленькій, а ужъ онъ всегда такой будетъ, — сказалъ Миша, покачивая головою.
Дѣти боялись, чтобы Миша не сослался на ихъ мнѣніе, которое онѣ недавно такъ довѣрчиво высказывали другъ другу, но на счастье ихъ вошла Софья Васильевна; всѣ молча, съ напряженнымъ вниманіемъ обратились къ ней; она же, тихая и добрая, шла и думала, какъ бы ей мягче передать положительный отказъ свекрови.
— У старушки свои понятія о нравственномъ развитіи, — сказала она, — и я должна согласоваться съ ея волею: она положительно отказала мнѣ соединять маскарадъ съ лотереею для бѣдныхъ.
Муромская вспылила, обыкновенно сдержанный голосъ ея рѣзко зазвенѣлъ.
— Не понимаю, не понимаю, какъ это матушка ваша такъ мало заботится о поощреніи, нравственномъ развитіи, — говорила она, прощаясь.
Софья Васильевна молчала, но слова старушки какъ будто еще раздавались въ ушахъ ея: «Ужъ хоть бы не прикладывали онѣ грѣшныхъ рукъ своихъ къ нерукотворному дѣлу! Подстрекая и развивая въ дѣтяхъ самолюбіе, онѣ не знаютъ, что этимъ гнетутъ и уничтожаютъ нѣжные зачатки добра».
Ниночка, по примѣру матери, также перемѣнила обращеніе и едва подала дѣтямъ на прощанье кончики пальцевъ, а мальчикамъ вовсе не поклонилась. Проводивъ гостей до передней и дождавшись, чтобы затворили сѣнную дверь, дѣти запрыгали, захлопали въ ладоши, и бросились обнимать тетку, которая вовсе не ждала такого взрыва радости; затѣмъ дружной толпой побѣжали къ бабушкѣ, доработывать свой рабочій день, который, вопреки Мишинаго ожиданья, оказался не скучнымъ, а веселымъ днемъ.
ЧЕТВЕРТЫЙ РАБОЧІЙ ДЕНЬ. ДЕНЬ АНГЕЛА
Дѣти опять собрались съ лотерейными работами своими около бабушки; малютка Мери усѣлась на скамеечкѣ у ногъ ея, обѣщанная салфеточка спѣетъ, крючекъ проворно клюетъ петельки, бумага не путается; весело и пріютно дѣвочкѣ около старушки — ей думается одно пріятное и веселое.
— Бабушка, — вскричала Мери, закидывая головку, — я тебя непремѣнно позову къ себѣ на именины: это такой большой праздникъ, такой большой, что чудо; тогда такъ весело бываетъ!
— Мери, Мери, — закричали дѣти смѣясь, — это тебѣ такъ кажется, что въ твои именины такой большой праздникъ — и наши именины такія же веселыя!
— А я знаю, что мой всѣхъ веселѣе, — проговорилъ самонадѣянно Миша.
— Ничуть не лучше твои именины, чѣмъ мои или Сережины, — вмѣшался Алеша.
— Ну, быть можетъ вамъ они веселѣе, — недовѣрчиво отвѣчалъ Миша, — а на мои-то, сколько игрушекъ мнѣ надарятъ! Кушанья самъ заказываю какія хочу.
— Неужели, — спросили нѣкоторые изъ дѣтей, — неужто ты самъ заказываешь обѣдъ?
— Да, пирожное и пудингъ, а все другое мама приказываетъ.
Дѣтямъ очень понравился этотъ обычай, и они намѣревались спросить своихъ родителей, чтобы имъ было дозволено тоже.
— А кто твой ангелъ? — лаская Мери, спросила бабушка.
— Какой ангелъ? — спросила Мери; дѣти тоже поглядѣли на старушку въ недоумѣніи.
— Во имя какой святой тебя зовутъ?
Мери смотрѣла на бабушку во всѣ глаза, дѣти также.
Старушка измѣнила вопросъ:
— Когда празднуется день твоего ангела? — спросила она медленно, съ разстановкой.
— Двадцать втораго іюля, — закричали дѣти въ голосъ.
— День Св. Маріи Магдалины; значить, тебя назвали во имя Св. Маріи Магдалины, — сказала бабушка, и помолчавъ немного прибавила: — прекрасная жизнь ея, она видѣла и слышала Господа на землѣ!
— Какъ? съ нею самъ Господь говорилъ? И она ему отвѣчала? — перебивали другъ друга Лиза съ Сашей.
— Да, Господь говорилъ съ нею, — задумчиво отвѣтила старушка, и принялась за вязанье крошечнаго чулочка.
Дѣти также замолчали; посидѣвъ немного въ раздумьѣ, Саша подошла къ бабушкѣ, обняла ее и сказала ей въ полголоса: «Ты вѣрно знаешь, о чемъ Господь говорилъ Маріи Магдалинѣ? скажи намъ, бабушка».
— Знаю, потому что это сказано въ Евангеліи.
— Такъ разскажи намъ, — закричали дѣти, и обступили старушку.
— А на что вы побросали работу? — замѣтила бабушка, — пріучайтесь дѣлать два дѣла разомъ: слушать и работать.
Какъ дѣвочки, такъ и мальчики, собравъ занятія свои, придвинулись поближе къ бабушкѣ.
Припоминая, что ей было извѣстно изъ четырехъ Евангелистовъ и изъ житія святыхъ, старушка начала разсказъ, соображаясь съ возрастомъ и понятіемъ внучатъ:
— Во времена Спасителя, на прекрасномъ Теверіадскомъ озерѣ, въ землѣ Галилейской, стоялъ въ горахъ городъ Магдала; въ немъ-то жила женщина, по имени Марія, жила дурно, грѣша противъ Бога и людей; не знала-ли она закона Божія, или небрегла имъ, это неизвѣстно; не знаемъ и того, была-ли она племени еврейскаго, или язычница; въ тѣхъ мѣстахъ евреи и язычники давно уже между собою перемѣшались. Маріи Магдальской или, какъ звали ее также, Магдалинѣ, случилось занемочь; болѣзнь была сильная, никто не могъ ей помочь; и вотъ слышитъ она, что въ Галилеѣ явился какой-то дивный человѣкъ, который обходить Галилею, Самарію и Іудею, что онъ ходить изъ деревни въ деревню, изъ города въ городъ, и учить народъ израильскій праотцовскому закону, что онъ кротокъ и милостивъ, какъ самъ Богъ, что въ немъ сила не человѣческая, что онъ исцѣляетъ больныхъ не только прикосновеніемъ, но однимъ словомъ своимъ, что изъ всѣхъ сосѣднихъ земель сносятъ къ нему недужныхъ, кладутъ на дорогу и ждутъ, чтобы онъ мимоходомъ коснулся ихъ хоть краемъ одежды, потому что и этого было довольно, для исцѣленія человѣка. Слухи эти повторялись все чаще и разносились больше. Марія отправилась искать Чудотворца; въ Галилеѣ-ли она нашла Господа, или во Іудеѣ, когда и какъ была исцѣлена Имъ, неизвѣстно, но ужъ она болѣе не возвращалась на родину, а ходила съ толпой народа за нимъ и не могла наслушаться кроткихъ, премудрыхъ бесѣдъ Іисуса изъ Назарета. Она узнала Божью Матерь и сродницъ ея, и съ ними вмѣстѣ ходила слѣдомъ за Учителемъ.
— Ну, бабушка, милая, что же дальше? — понукали дѣти, пріостановившуюся старушку.
— А далѣе, что же далѣе — нашлись люди, завистливые, себялюбивые, умники, которые бросили отцовскую вѣру или по своему перевернули ее, сами перестали вѣрить въ простотѣ сердца и другимъ мѣшали, завели свои толки или расколы, и учили имъ.
Видя, что народъ, забывая о насущныхъ нуждахъ своихъ, тысячными толпами слѣдуетъ за Господомъ, и въ храмѣ и въ синагогахъ, и въ пустыняхъ, — эти люди рѣшили межъ собой убить Его, они стали выжидать времени, чтобы сдѣлать это безъ народа, напали на Него ночью, когда Онъ былъ одинъ, со спящими учениками, захватили Его и принудили своего правителя осудить Іисуса на смерть.
— Бабушка, я никакъ не могу понять, какъ это Пилатъ, зная, что фарисеи изъ зависти хотятъ убить Господа, и такъ много заступаясь за него, все-таки осудилъ Его, — сказалъ Сережа.
— А что, дружокъ, не помнитъ ли, чѣмъ фарисеи постращали Пилата?
Сережа не помнилъ, и бабушка повторила ему слова Евангелія: «Если не осудишь, то отнынѣ не будешь другъ кесарю». Вотъ видишь, дружокъ, какая острастка взяла верхъ надъ правдой!
Помолчавъ немного, старушка прибавила: — Пилатъ не зналъ нашей первой Господней заповѣди: «Возлюби Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, всею душою и всею мыслію твое», то есть, люби истину и правду болѣе всего, болѣе себя самого. И по нынѣ, между нами, христіанами, много ли найдется людей, которые любили бы Бога, или, что одно и тоже, любили бы правду Божію выше своей выгоды!
— Бабушка, — закричалъ Алеша, — да вѣдь теперь, если люди дурно, несправедливо поступаютъ, такъ вѣдь то съ простыми людьми, а то былъ Господь!
— Осудившіе Христа не знали и не вѣрили, что осуждаютъ Господа; но, — продолжала старушка внушительнымъ голосомъ, ласково коснувшись головки внука, — слушай и помни: правда передъ Богомъ одна, а всегда кривда, въ малѣ и въ великѣ, грѣхъ; Господь сказалъ, что по смерти нашей спросятъ съ насъ отвѣтъ за вѣчное слово и дѣла, даже за самые помыслы наши, а всякое добро, какое сдѣлаемъ послѣднему изъ людей, приметъ Милосердый какъ бы самому Ему оказанное. Пилатъ, какъ язычникъ, не зналъ, что осуждаетъ Господа и не виноватъ въ своей ошибкѣ; но виноватъ, и очень, въ томъ, что зазнамо осудилъ невиннаго!
Замѣтивъ, что Сережа задумался, она еще повторила о томъ, что Господь принимаетъ нашу милость и любовь къ людямъ, какъ бы лично Ему оказанный.
— Это сказано въ притчѣ Матвея о козлахъ и овцахъ, — прибавила бабушка, обращаясь къ Сережѣ, какъ старшему и болѣе другихъ развитому ребенку.
— Что же далѣе? — тихо спросила Саша, приклонясь головой къ плечу бабушки, — что послѣ того, какъ осудили Господа на смерть, что же Мать Его и Марія Магдалина и всѣ? — Слезы слышались въ голосѣ дѣвочки, да и всѣ дѣти сидѣли, какъ нахохлившіяся въ непогоду голубки. Старушка не хотѣла говорить подробно крестной смерти Господа и ограничилась разсказомъ объ одной Маріи Магдалинѣ.
— По кончинѣ Господа, — продолжала она, — Марія отошла отъ креста и сѣла неподалеку горестная и утомленная, она видѣла какъ сняли тѣло, внесли его въ пещеру — положили въ каменный гробъ и завалили выходъ огромнымъ камнемъ. Всю ночь и весь слѣдующій день женщины, ученицы Господни, пробыли вмѣстѣ у Божьей Матери, не выходя изъ дому и не принимаясь ни за какое дѣло, потому что это былъ, по закону еврейскому, день покоя, сабатъ, по нашему Воскресенье, день посвященный Господу.
«За то, чуть сталъ свѣтать другой день, какъ Марія Магдалина встала, взяла ароматное мѵро, то есть душистое масло, которымъ евреи по обычаю мажутъ покойниковъ, и пошла съ подругами своими ко гробу; она хорошо знала мѣсто, но не знала того, что ни ей, никому иному нельзя было войти въ пещеру. Фарисеи, съ дозволенія Пилата, поставили стражу у входа пещеры, запечатали гробъ, чтобы ученики не унесли тѣла, и думали: «теперь крѣпко».
«Воины римскіе стерегутъ гробницу Того, Кто родился въ вертепѣ и положенъ былъ въ ясли, и Кому не было на землѣ мѣста, гдѣ преклонить главу. Воины стерегли всю ночь, вдругъ на разсвѣтѣ земля подъ ихъ ногами дрогнула и заколебалась, молніей явился ангелъ въ бѣлой одеждѣ, сталъ не земною, но небесною стражею у входа ко гробу, и тяжелая плита сдвинулась; воины же, устрашенные блескомъ видѣнія, въ смятеніи и ужасѣ бѣжали въ городъ».
«Господь, по слову своему, воскресъ въ третій день по погребеніи. Свѣтаетъ; Марія Магдалина спѣшитъ съ прочими мѵроносицами ко гробу, вдругъ ей приходить мысль: «А кто намъ отвалить камень отъ входа, намъ это не по силамъ».
«Подойдя ближе, онѣ увидали, что камень отнять и входъ открыть; имъ пришло въ голову, что враги Христовы украли тѣло: въ ужасѣ и горѣ мѵроносицы бросились бѣжать. Ни онѣ, ни ученики не понимали всего, что говорилъ имъ небесный Учитель ихъ; слова столь часто повторяемый имъ: «Мнѣ должно пострадать и умереть за васъ, и воскреснуть въ третій день», — слова эти они принимали за иносказаніе, а потому, когда Марія Магдалина, прибѣжавъ, сказала Петру и Іоанну: «Унесли тѣло Господа, и не знаю куда положили его», то они не обрадовались, не подумали, что Господь уже воскресъ, а спѣшно пошли съ нею, осмотрѣли гробь, и найдя однѣ покинутыя пелены, грустные вернулись домой. Въ пещерѣ осталась одна неутѣшная Марія Магдалина; рыдая припала она ко гробу, а утѣшенье было такъ близко къ ней, такъ благодатно! «О чемъ плачешь», слышится ей изъ гроба; то говорили два ангела, сидящіе одинъ въ головахъ, гдѣ лежало тѣло, другой въ ногахъ. Марія видитъ ихъ, но у нея одно въ душѣ: «Взяли Господа моего, и не знаю куда положили Его», отвѣчаетъ она въ отчаяніи. «О чемъ плачешь», спрашиваетъ ее Іисусъ. Не узнавая Его, едва глядя слезящимися глазами, она повторяетъ то же, прибавляя: «если ты взялъ Его, то покажи мнѣ мѣсто, куда положилъ, и я возьму его». — «Марія», говоритъ ей знакомый, кроткій, проникающій душу голосъ. Прояснившимися глазами взглядываетъ она на говорящаго съ нею, и съ восторженнымъ крикомъ: «Учитель», бросается Ему въ ноги».
Бабушка на минуту остановилась; дѣти радостно перевели духъ и ждали продолженія. Старушка продолжала:
«Господь велѣлъ Маріи идти скорѣе къ ученикамъ и сказать о Его воскресеніи. Но восторженной, счастливой Маріи ученики не повѣрили; тогда Господь явился имъ всѣмъ вмѣстѣ, выговаривалъ за невѣріе и непониманіе ихъ, училъ и пояснялъ то, чего они не понимали. Радостны и счастливы были ученики и ученицы, когда божественный Учитель, являясь имъ, бесѣдовалъ по-прежнему; теперь было уже не во власти фарисеевъ отнять Его у нихъ. Бесѣдуя однажды такимъ образомъ на горѣ Елеонской, Господь сказалъ имъ, чтобы они помнили Его ученіе и наставляли бы въ немъ людей, потомъ, благословивъ ихъ, сталъ отдѣляться отъ земли и возноситься на небо. Изумленная Марія Магдалина, въ числѣ прочихъ, поднявъ очи, долго смотрѣла, пока свѣтлое облако не скрыло Господа отъ глазъ; всѣ ждали Его вторичнаго явленія, но слетѣвшіе съ неба ангелы сказали имъ, что вторичное пришествіе Господне будетъ не теперь. Благоговѣйно помолясь на мѣстѣ послѣдней бесѣды, всѣ разошлись по домамъ.
«Слова Спасителя были въ сердцѣ и умѣ Маріи Магдалины; помня Его приказаніе проповѣдывать Евангеліе язычникамъ, она, подобно апостоламъ, пошла изъ города въ городъ, изъ страны въ страну. Преданіе св. отцевъ говорить, что римскій императоръ Тиверій, узнавъ о краснорѣчивой проповѣдницѣ, пожелалъ ее услышать. Смиренно и спокойно предстала вдохновенная проповѣдница передъ грознаго государя, который слушалъ душевныя, мудрыя рѣчи ея, но, какъ человѣкъ внѣшній, понялъ одно лишь внѣшнее, убѣждаясь, что Пилатъ и первосвященники поступили съ учителемъ Маріи Магдалины противъ правды, онъ быль ими недоволенъ, и даже отставилъ Пилата отъ управленія.
«Изъ Рима Марія пошла въ Эфесъ, тамъ до смерти своей она была ревностной помощницею въ проповѣди апостола Іоанна, а впослѣдствіи мощи ея перенесены въ Константинополь.
— Матушка, — вмѣшалась Софья Васильевна, — вы ничего не упомянули о томъ, какъ Марія Магдалина за трапезою, помазала мѵромъ главу Господню, и какъ присутствующіе жалѣли трату денегъ на мѵро.
— Нѣтъ, мой другъ, я не упомянула объ этомъ происшествіи потому, что эта женщина едва ли была Марія Магдалина, хотя, по незнанію, часто смѣшиваютъ ее то съ этой женщиной, то съ Маріей сестрою Лазаря, жившей въ Іудеѣ, въ городѣ Виѳаніи, около самаго Іерусалима, а наша Марія была изъ Магдалы, города галилейскаго, о чемъ упоминаютъ и св. отцы.
«Живописцы, которые не обращаютъ много вниманія ни на вѣка, ни на происшествія жизни святыхъ, путаютъ даже Марію Магдалину съ Маріей Египетской, жившею нѣсколькими вѣками позже. Марія Египетская провела сорокъ лѣтъ пустынной жизни, въ раскаяніи, слезахъ и молитвѣ, и если вы когда увидите картину, подъ именемъ Магдалины кающейся, едва прикрытой кускомъ чернаго рубища, съ длинными волосами, плачущей надъ черепомъ, или надъ небольшимъ крестомъ, то знайте, что это должно изображать Марію Египетскую. Марія же Магдалина, послѣ мгновеннаго своего исцѣленія, какъ были мгновенны всѣ цѣленія Іисуса Христа, не покидала Его болѣе, а ходила за Нимъ, съ Божьей Матерью, св. женами и учениками; въ жизни ея не было такой поры отчаяннаго покаянія, чтобы ее можно было писать въ рубищѣ и въ слезахъ надъ черепомъ; пора тоски ея была коротка, это наша Страстная недѣля, время страданія, смерти и погребенія Спасителя».
— Бабушка, я люблю тебя слушать, — сказала маленькая Мери, цѣлуя колѣна бабушки своей, который какъ разъ приходились ей подъ бороду, потому что она все еще сидѣла въ ногахъ старушки.
— Будто ты поняла мой разсказъ?
— Ну, не такъ, чтобы уже все поняла, а все жъ мнѣ весело тебя слушать; я тебѣ скажу, что я поняла: Марія Магдалина съ Матерью Божьей все ходила за Господомъ и слушала, какъ Онъ велитъ людямъ быть умными и добрыми, а прежде она была нехорошая, послѣ же стала хорошею; ну, а потомъ я поняла, что она все плакала, когда убили Господа, и все подсматривала куда они его дѣнутъ, а послѣ, она все ждала скоро ли ей идти можно, и все не спала, чтобы не проспать времени, а когда пришла на могилку, то гробъ былъ уже открыть; она подумала, что кто-то укралъ Господа, а ангелы ей и говорить, что никто не укралъ, а она не вѣритъ. Тутъ Господь ей самъ говорить; она такъ обрадовалась, что поклонилась Ему въ ножки. Это, бабушенька, очень хорошо и весело, и жалко! — Мери остановилась, а подумавъ немного прибавила: — Это еще не все, ты говорила, что Господь былъ съ ними на горѣ, потомъ попрощался съ ними со всѣми, и полетѣлъ на свѣтломъ облачкѣ на небо, они всѣ, и Матерь Божья, долго ждали, не слетитъ ли Онъ опять, а вмѣсто Его прилетѣли ангелы и сказали: Идите домой, Господь не скоро придетъ къ вамъ! Видишь, бабушка, что я поняла, сказала раскраснѣвшаяся и торжествующая малютка. Сережа, вѣдь поняла я? — спросила Мери, обращаясь къ брату.
— Да, отвѣчалъ онъ, ты поняла и хорошо помнишь. — Радостно, полной грудью вздохнула малютка, и принялась за работу. Салфеточка подвигается, да и чулочки не отстаютъ отъ нее, пятки уже связаны, скоро носки спускать будемъ; весело переговариваютъ дѣти между собой, и сговариваются когда бы имъ еще съѣхаться. Дѣти начинаютъ любить трудъ, ихъ тѣшитъ спѣющая работа, они понимаютъ ея пользу и цѣль и помнятъ, что Тотъ, Кто училъ Марію, Тотъ велѣлъ трудиться и помогать другъ другу.
ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ
— Бабушка, что же это такое, ты обѣщала что все будешь дома, а теперь хочешь куда-то ѣхать? — спрашивала встревоженная Саша, вбѣгая съ Лизой и маленькой Мери къ старушкѣ въ комнату. Бабушка сидѣла, окруженная цѣлыми ворохами дѣтскихъ одеждъ и Мишиныхъ косоворотокъ. Аля съ Зиной помогали ей перебирать, раскладывали съ нею все это на кучки и завязывали каждую въ отдѣльные узелки.
— Бабушенька, лучше не ѣзди, — просила Мери, пробираясь между кучкой старыхъ чулокъ и корзинкой съ поношенной дѣтской обувью.
Старушка молча, въ удивленіи поглядѣла на дѣтей.
— Нѣтъ, ты куда-то ѣдешь, — сердито сказалъ Миша, — ужъ лучше скажи, куда ты ѣдешь, — говорилъ онъ, укоризненно покачивая головою.
— Что вы, дѣти, я никуда не ѣду, съ чего вы взяли что я ѣду? — спросила бабушка.
— Значить бабушка отдумала, — пояснила дѣтямъ обрадованная Саша.
— Дружокъ мой, я не отдумывала и не придумывала и вовсе никуда не собиралась ѣхать, — сказала старушка, принимаясь за свое дѣло, — не знаю съ чего вамъ это пригрезилось!
Дѣти переглянулись; подумавъ немного, Лиза закричала:
— Такъ это значить нянечка уѣзжаетъ!
— И Порфирій также! И наша няня сказала, что когда нянечка съ Порфиріемъ пойдутъ послѣ ужина прощаться со старой барыней, то и она попрощается съ бабушкой!
— Дѣти, да сегодня прощеный день! — вскричала Аля, недоумѣвающимъ сестрамъ, — у насъ дворня и деревенскіе старики и старухи всегда приходятъ прощаться вечеромъ, наканунѣ великаго поста.
— Зачѣмъ? — спросило нѣсколько голосовъ.
— Это нашъ старинный обычай, — сказала бабушка, — онъ еще и понынѣ ведется между народомъ, купцами и отчасти сохранился въ нашемъ помѣщичьемъ быту. Слушайте, дѣти, со вниманіемъ то, что я вамъ теперь разскажу.
— Сегодня въ двѣнадцать часовъ ночи начинаются первыя сутки великаго поста. Великій постъ есть время общаго говѣнья, поста и молитвы. Дѣды наши были очень набожны; приступая къ говѣнью, они буквально исполняли заповѣдь Спасителя: «когда идешь молиться и вспомнишь что кто нибудь сердится на тебя, то вернись изъ церкви, помирись и тогда приходи помолиться».
По этой-то заповѣди, и установился прощеный день, то есть день, когда другъ у друга просятъ прощенья.
Обыкновенно начинаютъ младшіе: дѣти, племянники, крестники, прислуга приходятъ къ родственникамъ, кумовьямъ и господамъ своимъ и кланяясь просятъ простить ихъ въ вольной и невольной винѣ, старшіе же отвѣчаютъ: Богъ васъ проститъ, потомъ сами въ свою очередь просятъ ради имени Христа простить и имъ излишнюю строгость или вредную поблажку. Богъ простить, говорить имъ въ отвѣтъ; за тѣмъ родители и дѣти, господа и слуги обнимаются и желаютъ другъ другу въ чистотѣ и молитвѣ встрѣтить постъ и дождаться радостнаго праздника Воскресенія Христа. Вотъ объ этомъ-то прощаньѣ говорили люди между собой, а вы подумали, что они собираютъ меня въ путь!
— А намъ можно будетъ посмотрѣть, какъ они придутъ прощаться? — спросили дѣти.
— Можно, — отвѣтила старушка, и глядя пристально на разгорѣвшуюся Сашу, она спросила: — что тебѣ, дитя мое?
— Бабушка, — тихо отвѣтила Саша, припадая къ старушкѣ, — когда я выросту, я всегда стану прощаться!
— То есть прощать обиды и самой просить въ нихъ прощенья, — пояснила старушка. — И это не одинъ сухой обычай, дѣти мои, вотъ я живу седьмой десятокъ, а не запомню прощенаго дня, въ который бы не была растрогана до слезъ. И для этого, дѣти, вамъ не нужно дожидаться полныхъ годовъ своихъ, а кто изъ васъ допущенъ будетъ къ говѣнью и къ исповѣди, тотъ хорошо сдѣлаетъ, если соблюдетъ и обычай этотъ; прощаясь взаимно со всѣми, припоминаешь свои ошибки и охотно забываешь обиды другихъ.
Дѣти молча слушали старушку; мудрое спокойствіе и младенческая ясность души бабушки, невыразимой силой притягивали къ ней неиспорченный сердца внучатъ.
— Бабушка милая, помнишь, ты обѣщала научить меня заповѣдямъ, — сказала Лиза, — растолкуй ихъ намъ теперь.
Бабушка посмотрѣла на дѣтей и замѣтила въ нихъ во всѣхъ сердечное участіе; мысленно взглянула она туда, откуда приходить помощь всякому доброму дѣлу, и начала толковать заповѣди, приноравливая ихъ къ дѣтскому разумѣнію.
— Въ первыхъ четырехъ заповѣдяхъ, — сказала она, — говорится о томъ, какъ надо любить и чтить Господа, въ остальныхъ шести, Господь учить людей, какъ имъ должно жить между собою.
Зина подумала про себя, что такихъ заповѣдей она не учила, ей даже хотѣлось сообщить объ этомъ бабушкѣ, но она не рѣшилась и стала внимательно прислушиваться.
— Скажи мнѣ, Алечка, отъ кого перешли къ намъ заповѣди, какому древнему народу далъ ихъ Господь?
Аля не только сама хорошо знала священную исторію, но благодаря покойной матери своей, умѣла толково и ясно передавать свое знаніе другимъ. Не торопясь и не сбиваясь, она отвѣтила слѣдующее:
— Заповѣди далъ Господь израильтянамъ и потомкамъ Іакова и Израиля, Господь далъ ихъ тогда, когда они ушли отъ египтянъ, которые ихъ очень обижали.
— Это тотъ Іаковъ, старикъ, у котораго былъ сынъ Іосифъ и его продали братья въ слуги въ Египетъ? — спросила Лиза.
— Да, тотъ самый, — сказала бабушка; — когда Іосифъ сдѣлался любимцемъ Фараона, то онъ призвалъ отца своего со всей семьей со внуками и правнуками къ себѣ, отвелъ имъ лучшую хлѣбородную землю, проживъ тамъ болѣе четырехъ сотъ лѣтъ. Израильтяне привыкли къ жизни и обрядамъ египтянъ, которые были идолопоклонниками; живя межъ ними, они забыли не только вѣру отцовъ, но даже имя Бога, потому-то въ первой заповѣди и говорится: Азъ есмь Господь Богъ твой и да не будетъ у тебя боговъ кромѣ меня, а во второй: Не сотвори себѣ кумира…
— Бабушка, вѣдь мы не идолопоклонники и знаемъ Бога! — перебила Лиза, — зачѣмъ же намъ…
— Ахъ, Лизочка, — сказала Аля, — ты спрашиваешь точно нашъ Дормидошка! Когда онъ училъ заповѣди, то говорилъ: намъ это не надо! И все моталъ головой и говорилъ: нѣтъ, ненадо! пока папочка не растолковалъ ему, что и онъ, Дормидошка, Бога не знаетъ почти также, какъ не знали Его израильтяне, что заповѣдь эта ему нужна точно также какъ и имъ; что напередъ всего надо знать Бога, а для того онъ долженъ часто читать Евангеліе и когда онъ узнаетъ, что Господь для насъ дѣлалъ, то тогда только полюбитъ Его и захочетъ слушаться заповѣдей Божьихъ, если же этого не будетъ, то онъ полюбить свою волю, пристрастится къ вину, деньгамъ, и будутъ они его кумиромъ, о которомъ говорится во второй заповѣди.
Сказавъ это, Аля взглянула на бабушку, которая, кивнувъ ей одобрительно головой, спросила:
— Ну, а что же, Дормидошка понялъ?
— Не знаю, бабушка, думаю, что понялъ: онъ вѣдь никогда не говорить, все молчитъ, а ужъ если что не понравится, то замотаетъ головой и скажетъ: нѣту! Ужъ онъ такой! — сказала Аля, смѣясь, и вспоминая добродушную рожицу своего поваренка.
— Итакъ, дѣти, — сказала старушка, обращаясь ко внучатамъ, — теперь вы знаете, что въ первой и второй заповѣди говорится о томъ, что надо узнавать Бога и любить и слушаться Его болѣе всего на свѣтѣ.
— Даже болѣе папы и мамы? — спросили изумленный дѣти.
— Я бы сказала, болѣе папы и мамы, если бы думала, что родители ваши будутъ васъ учить чему-нибудь дурному, запрещеному Богомъ. Каждый человѣкъ прежде всего долженъ слушаться Господа, потомъ законовъ царскихъ, которые всѣ основаны на тѣхъ же десяти заповѣдяхъ, только онѣ подробнѣе разтолкованы.
Третьей заповѣдью запрещается вамъ божиться и поминать Имя Божье всуе, въ пустякахъ. Въ четвертой Господь велитъ трудиться въ пользу шесть дней, а седьмой день недѣли посвящать Господу, т. е. дать просторъ духу: сходить, если можно, помолиться въ церковь, послушать проповѣдь, почитать слова Божьяго, провѣдать больнаго, утѣшить скучающаго, помочь бѣдному; конечно, все это мы можемъ дѣлать и въ другіе дни; онѣ заповѣданы всѣмъ наравнѣ, ихъ долженъ исполнять и тотъ труженикъ, который изо дня въ день трудится для своего пропитанья, потомъ долженъ отдохнуть душой и тѣломъ. У израильтянъ день отдыха и праздника назывался днемъ покоя, по еврейски сабатъ, у насъ же онъ зовется воскресеньемъ въ память воскресенія Христа Спасителя нашего.
Саша посматривала изподлобья на брата и что-то раздумывала.
— Миша, — сказала она вдругъ, — а вѣдь божиться не только папа не велитъ и Богъ также не велитъ!
Мальчикъ въ знакъ согласія кивнулъ сестрѣ головой, потомъ прибавилъ:
— Да, я и Алешѣ также скажу!
— Чти отца твоего и мать твою, говорилъ Господь въ пятой заповѣди. Это, вы дѣти, понимаете безъ толкованья, но поймите и то, что вы должны слушаться тѣхъ старшихъ, кому родители васъ поручили; когда же подростете, то поймете сами, что царя и родину должно любить, чтить и оберегать, какъ общаго отца и мать.
— Миша, скажи: какая шестая заповѣдь? — спросила бабушка.
Мальчикъ задумался, коротенькія заповѣди шестая и осьмая путались въ головѣ его.
— Не убей, не убей, — торопливо шептали ему сестры.
— Не убей, — повторилъ за ними Миша и потомъ громко воскликнулъ: — А на войнѣ-то, бабушка, на войнѣ-то какъ же?
— Ну, дружокъ мой, — сказала старушка засмѣявшись, — видно пословица наша правду говорить: что у кого болитъ, тотъ про то и говорить!
Миша стоялъ передъ бабушкой и во всѣ глаза глядѣлъ на нее: «Убивать грѣхъ, думалъ онъ, а на войнѣ тотъ и молодецъ кто больше убьетъ непріятелей, какъ же это?» Какъ же, бабушка? проговорилъ онъ вслухъ.
— Ага, Миша, вотъ вы съ Алешей и не пойдете на войну, — сказали дѣвочки.
— Ты ужъ лучше не ходи на войну, и Алеша, быть можетъ не пойдетъ, — убѣждала малютка Мери, цѣпляясь за Мишу, чтобы обнять его, но пораженный мальчикъ нетерпѣливо стряхнулъ ее и настоятельно спросилъ бабушку, грѣхъ ли убивать на войнѣ?
— Иному грѣхъ, а иному нѣтъ, — отвѣчала старушка, — грѣхъ тому, кто безпощадно бьетъ непріятеля, чтобы отличиться, нахватать наградъ, однимъ словомъ, грѣхъ тому, кто радуется войнѣ ради своей выгоды.
— Ты, Миша, радуешься войнѣ? — спросила Аля. Но Миша молчалъ и ничего не отвѣтилъ; онъ доселѣ думалъ о войнѣ какъ о разгулѣ своему молодечеству и похвальбѣ.
— Да что дѣлать, — сказала старушка, — война часто бываетъ зло неизбѣжное: придетъ непріятель на твою родину, въ землю русскую, нападетъ на соотчичей, на сродниковъ твоихъ, на Сашу съ Любой, на отца съ матерью; какъ же тебѣ не защитить ихъ отъ враговъ или разбойниковъ! Разумѣется, ты долженъ вступиться и драться сколько силъ твоихъ станетъ.
— О! у меня силъ много! я силачъ, я всѣхъ перебью, — говорилъ Миша, горячась и сжимая кулачонки.
— Да, дружокъ, не давай въ обиду ни семьи отца твоего, ни семьи царя твоего, то есть всей великой семьи народа русскаго… Война есть грѣхъ, если ты станешь драться не ради долга, а ради похвалы и наградъ, то-есть ради самого себя, для своей пользы. Не дерись же ради выгоды, какъ это дѣлаютъ честолюбцы, не убивай изъ-за денегъ какъ разбойники, не дерись изъ-за обиды: тебя затронуть на волосъ, а ты не сдержишься, распѣтушишься, да, позабывъ заповѣдь Божью и законъ царя, полѣзешь въ драку, на увѣчье или на смерть, какъ то дѣлается въ поединкахъ. Учитесь, дѣти, въ дѣтствѣ сдерживать сердце свое: «господинъ гнѣву своему — господинъ всему», говорить умная пословица наша. — А знаете ли вы, дѣти, какое убійство хуже всѣхъ тѣхъ, что я назвала вамъ? — сказала старушка, и во взглядѣ и въ голосѣ ея показалось что-то строгое и печальное. Дѣти внимательно смотрѣли на бабушку. Она продолжала:
— Убійство души хуже убійства тѣла, убиваетъ же душу тотъ, кто «За шестою слѣдуетъ седьмая; эта заповѣдь касается только взрослыхъ, но я все-таки скажу объ ней нѣсколько словъ: Господь благословляетъ семью, гдѣ мужъ и жена дружны, любятъ другъ друга, заботятся о дѣтяхъ и о домашнихъ своихъ; осуждаетъ же Онъ тѣхъ супруговъ, которые не заботятся о семьѣ, не любятъ другъ друга, ссорятся и желаютъ разойтись. О такой безнравственной жизни Господь говоритъ какъ о грѣхѣ противъ седьмой заповѣди. — «Сказавъ это, бабушка замѣтила внучатамъ, чтобы они никогда не называли по его имени грѣха противъ седьмой заповѣди, потому что слово это не принято въ общежитіи». — Ну, спросила бабушка, теперь о какой заповѣди станемъ говорить?
— Объ осьмой, — закричали дѣти.
— Не укради, — сказала Лиза.
— Хорошо, но… Саша, скажи мнѣ какъ понимаешь ты приказаніе Божіе не красть?
— Значитъ — не брать тихонько, — отвѣтила дѣвочка. А Аля прибавила:
— Не брать тихонько себѣ чужаго.
— Да, отчасти и такъ, — сказала бабушка. — Не бери чужаго, ни для себя, ни для другаго кого; не бери его ни тихонько, какъ воры берутъ, ни явно, какъ грабители-забіяки отнимаютъ, не бери чужаго имѣнія, чужихъ денегъ или чужихъ вещей — вотъ приказаніе осьмой заповѣди, противъ которой мы часто необдуманно грѣшимъ: напримѣръ, дѣти, кто изъ васъ по забывчивости хозяина не оставлялъ у себя навсегда чужой книги? кто изъ мальчиковъ не переманивалъ чужой собачки? Вѣдь кажется что пустяки, бездѣлица! а между тѣмъ, что немножко, что много украсть, все равно, крадутъ то, что можно или чего хочется. Вотъ я знаю одного ребенка, — продолжала старушка, — ему дали почитать книжку, книжка эта понравилась ему, а картинки еще болѣе; хозяева о книжкѣ забыли, а ребенокъ мой и радъ тому…
— Бабушка! бабушка! — перебивали другъ друга Миша съ Лизой.
— Нѣтъ, постойте, пустите! — кричалъ Миша, расталкивая сестеръ и пробираясь къ старушкѣ, — пустите! Я, бабушка, знаю, что ты обо мнѣ говоришь! Я не кралъ книжку у Луи, а такъ просто она лежала у меня; я пожалуй отдамъ, я не хочу ее больше! мнѣ ее не надо! — говорилъ мальчикъ, совѣстясь того имени, какимъ назвала бабушка его дѣло.
— Хорошо, дружокъ, отдай, да поскорѣе, и впередъ не оставляй у себя чужаго.
Потомъ старушка повернулась къ дѣвочкамъ и сказала:
— Ну что, Лизочка, и у тебя есть «зачитанная книжка», какъ обыкновенно говорятъ о такихъ книгахъ, — прибавила бабушка.
— Да-съ, — отвѣчала раскраснѣвшаяся Лиза, вопросительно посматривая на Зину. Обѣ дѣвочки охотно зачитывали тѣ книги, который имъ нравились; дѣтямъ и въ голову не приходило, какъ зовется такое дѣло.
— Осмотрите все, друзья мои, — одобрительно сказала имъ бабушка, — соберите все чужое и отдайте по принадлежности.
— А если подумаютъ, — заикнулась Зина, — что мы…
— Ничего не подумаютъ, дружокъ; хорошенько извинитесь въ томъ, что долго задержали книги, и на этотъ разъ конецъ дѣлу; а впередъ вы ничего подобнаго не сдѣлаете, — сказала старушка, приголубливая обѣихъ внучекъ.
Лиза крѣпко прижалась къ бабушкѣ, Зину же удивила эта ласка: дѣвочка не привыкла къ ободренію, а между тѣмъ оно такъ необходимо! Старушка чувствовала это и ласкою охотно вызывала дѣтей на подвиги, на борьбу самихъ съ собою; дѣтское раздумье, неохота и рѣшимость, въ ея глазахъ, были молодые всходы будущаго хлѣба.
— Ну, дѣтки, у насъ еще остались двѣ заповѣди: не лги и не завидуй.
— Нѣтъ, бабушка, не такъ, — поправила ее Саша, — девятая заповѣдь вотъ какая: не свидѣтельствуй на Друга твоего свидѣтельства ложна.
— Саша, вѣдь это и значитъ не лги, сказала Аля.
Мудрено показалось Сашѣ, что та заповѣдь, которую ей даже трудно выговорить, была такъ проста; дѣвочка ждала, что скажетъ бабушка, а бабушка, кивнувъ ей утвердительно головой, сказала:
— Господь желаетъ, чтобы мы любили другъ друга, и чтобы всѣ были дружны межъ собою; потому-то въ словѣ Божіемъ говорится о каждомъ человѣкѣ, какъ о ближнемъ, о братѣ и другѣ нашемъ; заказывая свидѣтельствовать ложь, Господь заповѣдуетъ не говорить лжи на друга; стало быть, ложь, на кого бы то ни было, есть грѣхъ противъ девятой заповѣди, да желать себѣ чужаго добра, то есть завидовать чему нибудь, запрещаетъ десятая заповѣдь. Ну вотъ, дѣти, и конецъ. На первый разъ вы и не запомните всего; повторимъ же вкратцѣ все, начиная съ конца: въ десятой Господь не велитъ завидовать, въ девятой лгать, въ осьмой не красть, седьмая васъ не касается, шестая не велитъ убивать и сильно гнѣваться, въ пятой приказано чтить отца и мать, а въ четырехъ первыхъ сказано, какъ знать и чтить самого Бога. Вотъ, дѣти, вамъ все, чего Господь отъ насъ хочетъ; помните это и старайтесь дѣлать такъ, какъ Онъ велитъ; и вамъ будетъ хорошо и другимъ легко!
Дѣти задумчиво стояли передъ старушкой, а она опять принялась разбирать и вязать узелки: бабушка любила заниматься дѣломъ, а еще болѣе того любила задавать мысленную работу дѣтскимъ головкамъ. Дѣти еще постояли, подумали про себя и разошлись понемногу; бабушка задала имъ задачу не на часъ и не на день, а на всю жизнь.
На другой день Луи получилъ посылку съ запечатанной запиской; на облаткѣ бѣжала сѣрая лягавая собака съ длинными ушами и несла письмо съ красной печатью. Луи посмотрѣлъ на облаточку, разорвалъ обертку, но записки прочитать не смогъ, потому что не зналъ прописныхъ буквъ, а въ запискѣ было четко и старательно написано:
«Луи! спасибо за книгу: мнѣ ее больше не надо!
«Миша».
Потомъ слѣдовала приписка, вѣроятно по бабушкину совѣту:
«Ты извини пожалуйста, что я ее задержалъ. Я тебѣ, если хочешь, дамъ читать свою новую, съ картинками. Напиши, хочешь ли».
Лиза съ Зиночкой, пріѣхавъ отъ бабушки, еще съ вечера приготовили вязку книгъ, но записки должны были писать по-французски, потомъ отложить ее для поправки учителю, потомъ переписать, потомъ показать матери. Все это для дѣтей долго, какъ бы не остыло ихъ доброе желаніе!
ШЕСТИНЕДѢЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНІЕ
Нынѣшнюю зиму корь сильно перебираетъ дѣтей, болѣзнь неопасная сама по себѣ, но иногда тяжелая по послѣдствіямъ; оттого-то доктора, боясь простуды послѣ кори, держать дѣтей въ положеномъ шестинедѣльномъ заключеніи; многія дѣти оправляются въ три-четыре недѣли и бываютъ здоровы на видъ, но имъ еще не позволяютъ гулять и даже не выпускаютъ ихъ изъ внутреннихъ комнатъ; дѣти скучаютъ своимъ заключеніемъ и не знаютъ какъ дождаться конца срока. Такъ скучаютъ изо дня въ день внучатныя сестрицы Саши съ Мишей; ихъ не пускаютъ съ верху; тамъ, въ низенькихъ дѣтскихъ, сидятъ Лиза съ Зиной и не знаютъ, какъ и чѣмъ укоротить срокъ; мать ихъ приходить къ нимъ раза два въ день съ работой, или читаетъ имъ что-нибудь; навѣщаетъ ихъ также дядя ихъ Алексѣй Романовичъ, который не боится кори, потому что у дочери его Али уже была корь. Какъ ждутъ дѣвочки прихода матери или дяди!
На верху живутъ онѣ не однѣ съ няней да меньшими сестрицами, съ ними помѣщается ихъ гувернантка, но отъ этой имъ мало пользы. Во время болѣзни она не считаетъ своимъ дѣломъ ухаживать за больными, а еще менѣе забавлять и занимать выздоравливающихъ — она не знаетъ, куда ей самой дѣваться со своею скукой. Эта бѣдная труженица не изъ тѣхъ, что съ любовью, или хотя бы только съ покорностью, обреклись на великій подвигъ воспитанія; Ѳедосья Ивановна проводитъ большую часть дня въ спаньѣ или въ чтеніи романовъ, она и теперь лежитъ на кушеткѣ, повернувшись лицомъ къ стѣнѣ. Подросточекъ Зина сидитъ ни на что не глядя, ничего не думая, сидитъ, опершись бородою на руки; десятилѣтняя Лиза ходитъ, слоняясь изъ угла въ уголъ, изъ одной дѣтской въ другую; посмотрѣла она на няню, которая, сидя у качалки, штопала маленькій чулочекъ, надѣвъ его на деревянную ложку; взглянула на маленькую Софочку, которая почти съ головой ушла въ лоскутный ящикъ, гдѣ она рылась. Скучно, подумала Лиза — и повернула въ свою дѣтскую; тамъ все по-старому: тѣ же орѣховыя кроватки съ чистымъ бѣльемъ и съ шерстяными одѣяльцами, но онѣ уже такъ надоѣли дѣтямъ! тѣ же полочки съ игрушками, но и на нихъ не хочется смотрѣть. Лиза вошла въ комнату гувернантки: та лежала молча, — быть можетъ спала; поодаль отъ нея сидѣла Зина и стригла бумагу, и ножницы ходили у нея вкось и вкривь, зря. Скучно! прошептала Лиза, и прошла тихонько къ окну; въ большомъ запыленномъ зеркалѣ промелькнула ея худенькая фигурка; дѣвочка подошла къ окну, на немъ въ углу примерзла куча папиросныхъ окурковъ, шелухи и оческовъ волосъ; Лиза потянула оттуда высунувшуюся шпильку, но шпилька крѣпко примерзла.
— Барышня, Лизавета Петровна! отойди, сударыня, отъ окна, простудишься, — проговорила досужая няня, заглядывая въ дверь.
Лиза повернулась и побрела къ орѣховымъ ширмамъ, приподняла оборванную тафту и заглянула за нихъ; тамъ все было въ обычномъ порядкѣ: одна туфля лежала подъ кроватью, другая валялась среди пола, умывальный столикъ былъ залитъ водой, угольный порошокъ разсыпанъ, полотенце брошено на полъ — однимъ словомъ, и здѣсь все было по старому.
— Ахъ, какъ скучно! душечка Фанни Ивановна, что бы мнѣ подѣлать? — спросила она свою гувернантку.
Но Ѳедосья Ивановна не откликалась.
Постоявъ немного надъ кушеткой, дѣвочка заговорила громче прежняго:
— Что бы мнѣ подѣлать? Фанни Ивановна!… А, Фанни Ивановна! что бы мнѣ подѣлать?
Гувернантка молчала. Лизино причитаніе становилось все болѣе и болѣе настойчивымъ.
— Ахъ, да отстань! — гнѣвно закричала Ѳедосья Ивановна, — ну займись чѣмъ-нибудь, прибавила она нѣсколько тише.
— Да чѣмъ же мнѣ заняться? — чуть не плача проговорила Лиза.
— Займись тѣмъ же, чѣмъ Зина.
— Да Зина ничѣмъ не занимается, — сказала дѣвочка, и побрела во вторую дѣтскую, откуда слышалось веселое щебетаніе Софочки. Ужъ хоть бы Лиля проснулась, думала Лиза, я бы покачалась съ нею на креслицѣ! «Лизя, Лизя, сядь, я тебя налязю», картавила Софочка, прыгая передъ сестрой съ лоскуткомъ въ рукахъ: няня ея уже сидѣла наряженная, то есть вся обвѣшенная лоскутьями и вырѣзками. Недовольная и кислая Лиза отмахнулась отъ сестры.
— Няня, скучно тебѣ? — спросила она.
Няня выглянула изъ-подъ своего наряда, изъ-подъ вырѣзокъ и лоскутьевъ на дѣвочку, посмотрѣла на дверь, и сердито сказала:
— Нешто я мамзель, чтобы мнѣ скучать? помайся-ка денно и ночно съ больной, да поштопай-ка съ мое, да пригляди за горничной, чтобы порядокъ былъ въ комнатѣ, такъ небось скуку забудешь!
Слова эти Лиза приняла на свой счетъ и поспѣшила отвѣтить, что не умѣетъ штопать.
— И поучиться бы не грѣхъ, вѣдь вамъ, Лизавета Петровна, одиннадцатый годокъ пошелъ!
Сказавъ это, няня порылась въ какомъ-то узелкѣ, достала маленькій чулочекъ и дала его вязать Лизѣ, говоря: «Вяжи, Лизанька, нужды нѣтъ что пятка». Дѣти обыкновенно не любятъ биться надъ пяткой чулка, но Лизѣ такъ было скучно, что она даже и этому дѣлу обрадовалась. Вотъ и принялись няня съ барышней взапуски работать, а Софочка бѣгаетъ, роется въ лоскутьяхъ, выбираетъ самые лучшіе и наряжаетъ ими сестрицу, которая теперь уже не сердится и не отгоняетъ малютку, потому что сама занята и довольна; большая часть дѣтскихъ шалостей и капризовъ бываютъ отъ праздности. Въ комнатѣ же Ѳедосьи Ивановны все еще раздается мѣрное звяканье ножницами: этой забавой Зина коротаетъ свой скучный шестинедѣльный срокъ.
Зиночка была очень запущена, какъ въ нравственномъ, такъ и умственномъ развитіи; все, что ни дѣлала она, все было ради похвалы и напоказъ; услуживала ли она старшимъ, уступала ли что меньшимъ — все это дѣлала она, чтобы сказали ей: «Ахъ, какая милая дѣвочка, какое у нея рѣдкое сердце». Потѣшить ребенка для его радости или помочь кому изъ одного только желанія услужить, — этого бѣдная дѣвочка не понимала. Всѣ помыслы ея сосредоточивались на ней самой: Это я себѣ выпрошу, а это отдамъ, за это меня навѣрно похвалятъ, думала она про себя. Училась Зина также изъ-за похвалы; память у нея была отличная, затверживала она уроки скоро и легко, но понять, сообразить и вывести заключеніе — на это у нея не доставало умѣнія. Всѣ знакомые дивились успѣхамъ ея въ языкахъ и звали Зину умницей; отъ этого дѣтское себялюбіе росло, а истинно умственное и нравственное развитіе глохло.
Около часу сидитъ Лиза подлѣ няни и вяжетъ чулочекъ; гладкіе ряды скоро провязываются, но изнанка плохо дается: петельки упрямятся, ихъ трудно вывертывать, иглы скрыпятъ и ниточка отволгла, даже потъ выступилъ на лбу у дѣвочки. Няня заглядываетъ въ чулокъ: «Эхъ, Лизанька, что грязи-то ты мнѣ навязала», думаетъ она, но не говорить, потому что ей жаль прилежную дѣвочку. «Ну вотъ, умница», говорить няня вслухъ, «смотри сколько навязала». Лиза весело усмѣхнулась и подернула вязаніе на спицахъ; вдругъ чулокъ полетѣлъ на полъ, а сама вязея пустилась бѣгомъ на встрѣчу дядѣ — она еще внизу, въ коридорѣ, заслышала его мѣрную, ровную походку!
— Здравствуйте, дѣтки, что подѣлываете? — весело спросилъ Алексѣй Романовичъ, здороваясь съ дѣтьми.
— Ничего! ничего не дѣлаемъ! такъ скучно, такъ скучно, что просто ужасъ! — закричали дѣти, перебивая другъ друга, — и елки-то у насъ не было! и Сашу какъ давно не видали, и Алю тоже!
— Что дѣлать, надо было выдержать срокъ! зато какъ вамъ теперь будетъ весело! Мери, Сережа и Алеша уже гуляютъ, у нихъ оказалась не корь, а другая какая-то пустая сыпь. Моя Аля вчера выкупалась, и завтра собирается къ Сашѣ съ Мишей…
— А мы то! — со слезами закричали дѣвочки, — мы то! Насъ ужъ не выпустятъ!
— Будто! — сказалъ дядя, посмѣиваясь надъ вспылившими племянницами; — что же это я слышалъ, будто столовую велѣно потеплѣе протопить, да накрыть три лишнихъ прибора?
Дѣти, покраснѣвъ отъ радости и переглянувшись другъ съ другомъ, робко спросили:
— Дядя, это можетъ быть для гостей?
— Не знаю, друзья, для какихъ именно гостей, но слышалъ я, что велѣно поставить дѣтскіе приборы, да еще слышалъ, что дворникъ таскаетъ и грѣетъ воду къ вечеру, видно кого-то сбираются купать.
— Дядичка, душечка! это мы, это навѣрно насъ хотятъ купать! — закричали дѣти, прыгая и мечась въ необузданной радости своей. Смѣхъ, прыганіе, топотъ, поцѣлуи раздавались даже въ сосѣднихъ комнатахъ; няня, оберегая сонъ малютки Лили, притворила тихоничко дверь. Гувернантка охотно бы сдѣлала тоже самое, но не рѣшилась; она очень не жаловала старшаго брата своей хозяйки, за его странный для нея обычай, никогда не восхищаться дѣтскими успѣхами, не хвалить при томъ и наставницы; ей надоѣдалъ также его пытливый, долгій взглядъ, его пустая бесѣда съ дѣтьми, объ ихъ играхъ и работахъ. Но всего непріятнѣе сдѣлался ей Алексѣй Романовичъ съ тѣхъ поръ, какъ услыхала она тайный, задушевный и настойчивый разговоръ старшаго брата съ сестрою; съ тѣхъ поръ Ѳедосья Ивановна стала безпокойно оглядываться кругомъ, нѣтъ-ли гдѣ незанятаго мѣста воспитательницы, чувствуя, что здѣсь ей не сдобровать.
— А, а, насля дологу! — закричала Софочка, возившаяся около кармановъ дяди; — насля! — кричала она, вытаскивая оттуда прекрасный апельсинъ.
— Ну, молодецъ, Софа, что догадалась, а я чуть было не забылъ про нихъ, что же ты теперь станешь дѣлать со своей находкой?
— Скусаю.
— Одна? — спросилъ дядя.
Софочка прижала апельсинъ къ горлышку, пригнулась къ нему щекой, подумала съ минутку и весело запрыгавъ сказала:
— Всѣмъ дамъ, всѣмъ, и тебѣ, и Зинѣ и нянѣ!
— Ну, Лиза, поищи, не найдешь-ли ты чего и на свою долю, — сказалъ Алексѣй Романовичъ.
Заслыша дядино предложеніе, Лиза пустилась на поиски и вытащила два апельсина, одинъ за другимъ; дѣвочки весело поблагодарили дядю и раздѣлили ихъ между собой.
— Я свой отнесу мамѣ, — сказала Зина.
— И я тоже, но я немножечко возьму себѣ и Лиличкѣ, — сказала Лиза. — Дядя, спросила она, вѣдь Лили можно кушать апельсинъ?
— Не знаю, дружокъ, объ Лили спрашивай доктора, она бѣдняжка что-то плохо поправляется, — сказалъ вздохнувъ Алексѣй Романовичъ: и, распростясь съ дѣтьми, пошелъ внизъ, а оттуда отправился домой, гдѣ ждала его Аля, единственное дорогое дитя его.
Въ первый разъ пріѣхалъ Алексѣй Романовичъ въ Москву на всю зиму; доселѣ онъ бывалъ здѣсь только наѣздами, но тоска по милой, незабвенной женѣ выжила его изъ деревни и привела сюда; ему нужно было освѣжиться отъ трудовъ и отдохнуть въ родной семьѣ; здѣсь жили почти всѣ его родные: братъ его Сергѣй Романовичъ женился въ одно время съ нимъ, и жилъ съ семьею постоянно въ Москвѣ. Здѣсь же жила единственная ихъ сестра Марья Романовна, мать Зины и Лизы, и наконецъ здѣсь безвыѣздно жилъ задушевный другъ двоюродный братъ его, Михаилъ Павловичъ, отецъ Саши и Миши. Къ великому утѣшенію Алексѣя Романовича, недавно пріѣхала въ Москву и старушка тетка, — общая ихъ воспитательница; ее любили племянники какъ мать, и какъ съ любимой матерью дѣлились радостью и горемъ.
— Какая то у меня бабушка? — спрашивала Аля у отца.
— А вотъ, какъ выздоровѣешь, такъ къ ней къ первой повезу тебя.
— Какая то она, — повторила про себя дѣвочка; — быть можетъ она похожа на маму? — Дѣтскій шопотъ отдавался въ сердцѣ отца: постоянная, нѣжная мысль объ утраченной женѣ, и такая же постоянная забота о дочери, были его любимымъ отдыхомъ отъ многостороннихъ трудовъ.
Онъ самъ училъ Алю, самъ вы вози ль ее и самъ ухаживалъ за нею во все время кори; мудрено было найти мать старательнѣе этого отца. Срокъ Алинаго заключенія оканчивался; завтра она увидится съ братьями и сестрами, завтра увидитъ бабушку, и дядей, и тетю Софью Васильевну, которую она такъ любитъ!
ЕСТЬ КАРТИНКИ! КУКОЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ
Сидятъ за обѣдомъ бабушка съ отцомъ, съ Сашей и Мишей; мамы нѣтъ, она нездорова, дѣти привередничаютъ, тотъ того не ѣстъ, другой другаго. «А знаешь ли, сынъ мой, что Миша негодится въ военную службу», сказала бабушка. На эту рѣчь Миша ротъ разинулъ.
— Отчего вы такъ полагаете, матушка? — спросилъ Михаилъ Павловичъ, говорившій матери то—ты, то—вы; въ дѣтствѣ, во времена дѣда, любившаго чинопочитаніе и старинную вѣжливость, дѣти говорили родителямъ вы, послѣ же, въ задушевный минуты, вы замѣнялось сердечнымъ — ты, поэтому Михаилъ Павловичъ, по дѣтской своей привычкѣ, мѣшалъ ты и вы, какъ случалось. — Да не захочешь же ты, чтобы его считали трусомъ. Миша хочетъ быть всегда въ дѣйствующей арміи, да еще впереди, а развѣ такой неженка годится въ походахъ? Какъ война, такъ Миша будетъ выходить въ отставку!
— Никогда, бабушка, неправда! — кричалъ обиженный мальчикъ: щеки и глаза у него горѣли: — никогда не выйду въ отставку.
— А если невыйдешь, то все-таки тебя товарищи уважать не станутъ, коли не съумѣешь довольствоваться тою пищею, какая попадется, и которую будутъ ѣсть всѣ, — они тотчасъ замѣтятъ причуды твои, и прозовутъ дѣвочкой.
Миша надулся и украдкой вопросительно поглядывалъ на отца.
— Матушка, вы помните Петра Ракушкина?
— Да, а что?
— Онъ долженъ былъ выйти въ отставку, потому что офицеры засмѣяли его.
— Я, дружокъ мой, Мишенька, говорю не въ шутку и не въ острастку тебѣ, что надо въ дѣтствѣ отвыкать отъ дурныхъ привычекъ, если въ комъ онѣ есть, послѣ самъ не радъ имъ будешь; военному человѣку надо умѣть все ѣсть, всѣмъ довольствоваться, умѣть самому себѣ служить, да еще и другимъ помогать; можетъ случиться за раненымъ товарищемъ придется походить, или рѣдкій въ походахъ лакомый кусокъ уступить больному; какъ привыкнешь въ дѣтствѣ не привередничать да не барствовать, такъ послѣ не въ тягость тебѣ будутъ лишенія.
Слова бабушки замѣтно подѣйствовали на мальчика, онъ пересталъ швырять куски изъ стороны въ сторону и не выкраивалъ кусочковъ изъ серединки; сестрица его также видимо поумнѣла. За пирожнымъ принесли отцу огромный пакетъ, съ надписью: весьма нужное, онъ спѣшно распечаталъ его: изъ конверта, выпали два крошечныхъ конвертика, разрисованныхъ, тисненыхъ золотомъ, съ надписью обоимъ дѣтямъ.
— Ну, кажется, тутъ не государственныя дѣла, служба не страдаетъ, — сказалъ отецъ, смѣясь и откладывая записочки въ сторону, — прочтемъ, когда выйдемъ изъ-за стола.
Дѣти нетерпѣливо дожидались, они понимали, что крошечный записочки были къ нимъ. «Отъ кого-то онѣ? что-то въ нихъ написано», въ одно слово говорили дѣти. Наконецъ вышли изъ-за стола; помолились, поблагодарили отца и бабушку и каждый запрыгалъ со своимъ пакетомъ. Саша читала побойчѣе и первая взвизгнула отъ радости: «Мама, папа, позвольте намъ, бабушка, меня приглашаютъ съ новой куклой на вечеръ! Папа, можно намъ, папочка?» — приставалъ Миша; «скажи: можно, говори скорѣе, что можно!»
— Можно, можно, поѣзжайте, и будьте умны.
— Ужъ я, папа, буду уменъ, — говорилъ Миша, прыгая и опускаясь со всего размаху на четвереньки, кружась и пришлепывая то той, то другой ладонью.
— Миша, Миша, не шали, — уговаривала Саша брата.
— Да, — сказалъ онъ, вскочивъ вдругъ передъ сестрой какъ листъ передъ травой, — а я какъ? у меня куклы нѣтъ! Я съ гусаромъ поѣду?
— Ты погляди, что сказано въ запискѣ, — замѣтила бабушка.
— Да тамъ очень мелко написано, я не разобралъ.
— Нѣтъ, Миша, говорила дѣвочка, которая гораздо бойчѣе брата читала; о твоемъ гусарѣ ничего не написано! Мы лучшее поѣдемъ вмѣстѣ съ моей дочкой.
— Ну хорошо, я скажу что пріѣхалъ съ племянницей.
Замѣтимъ, что Ниночка сама уже въ куклы не играла, она хотѣла только сдѣлать смотръ всѣмъ кукламъ подругъ своихъ. Много каретъ и саней наѣхало на кукольный вечеръ, а еще болѣе явилось дѣтей и куколъ; многія дѣти привезли ихъ по двѣ и по три. Хозяйка, 12-лѣтняя дѣвочка, нарядная и жеманная, стараясь подражать взрослымъ, въ дверяхъ принимаетъ гостей, осматриваетъ всѣхъ съ головы до ногъ; смотритъ на куклу и по наряду дѣвочки, и по красотѣ куклы ласкаетъ и забавляетъ гостью. «Лина, говоритъ она, на тебѣ мытое платье, это то самое, въ которомъ ты была у насъ, въ мои именины». Лина, бѣлокурая, кроткая и застѣнчивая дѣвочка, краснѣетъ, опуская глаза на свое хорошенькое, бѣлое кисейное платьице, которое мама ея заново вычистила и передѣлала. Въ толпѣ разряженныхъ дѣвочекъ раздался шопотъ: «У Лины старое платье! Неужели? Право Ниночка сказала. Возможно ли». Нѣкоторыя дѣвочки даже отодвинулись отъ нея, безсовѣстно оглядывая Лину сзади и спереди.
— А гдѣ твоя кукла? — спросила хозяйка.
— У меня старая, — чуть слышно выговорила дѣвочка, и слезы стыда и горечи готовы были брызнуть изъ глазъ ребенка.
— Старая! — съ пренебреженіемъ выговорила хозяйка, и отвернулась отъ нея.
— У Лины старая кукла, — послышалось въ толпѣ, — старая, а платье-то на ней какое! вы видѣли, прошлогоднее.
— Бѣдненькая, — сказалъ кто-то, мягкимъ голосомъ. Лина услышала этотъ отзывъ, доброе слово вызвало цѣлые потоки слезъ, которые она старалась скрыть подъ руками.
Послышался чей-то радостный крикъ, и толпа дѣтей повернулась къ дверямъ, въ которыя рѣзво вбѣжалъ Миша, крича: «Я пріѣхалъ съ племянницей, вотъ Саша сейчасъ войдетъ».
Всѣ знали, что Сашины родители богаты, что ее очень рядятъ, что куклы у нея дорогія, а потому не одна хозяйка, а почти вся толпа ждала ее и въ нетерпѣніи подвигалась къ ней на встрѣчу. Въ другомъ углу залы маленькая дѣвочка всѣми силами старалась утѣшить Лину, она то обнимала ее, то тянула ее за локти, стараясь отнять руки отъ лица плачущей. Двѣ другія стояли въ недоумѣніи, помочь ли утѣшать или примкнуть къ толпѣ.
— Охъ, ахъ! — раздалось въ залѣ, — ахъ Саша, что за прелесть! Чудо, что такое! Счастливица Саша, какая у тебя кукла!
Радостная и гордая успѣхомъ своей куклы, дѣвочка прибавила, что она и спитъ и бѣгаетъ, и вотъ няня сейчасъ заведетъ ее. Удивленныя дѣти нетерпѣливо стѣснились около нянюшки, которая, оправивъ куклу, спустила ее на полъ. Кукла проворно какъ мышка побѣжала вокругъ комнаты, а Миша и нѣсколько другихъ мальчиковъ полетѣли слѣдомъ за нею, даже Лина забыла свое горе и съ изумленьемъ смотрѣла на прекрасную куклу, которую нянюшкѣ пришлось заводить разъ до десяти. Налюбовавшись бѣганьемъ вдоволь, дѣти взяли куклу и съ торжествомъ понесли показывать большимъ. Саша отъ радости подъ собой земли не слышала: всѣ хвалили и ласкали ее, и радовались на чудесную дочку, какъ будто съ обладаніемъ куклы было связано личное достоинство ребенка! Чья-то мама назвала даже и Сашу, и куклу ея — царицами бала. Счастливая Саша носилась и въ вальсѣ и въ мазуркѣ, то съ куклой, то съ чьимъ нибудь братцемъ, то съ одной изъ разряженныхъ подругъ; наконецъ запыхавшись, бросилась она на диванъ; около нея сидѣли двѣ дѣвочки, которыя не танцовали.
— Мери, ты что не танцуешь? — спросила она меньшую свою двоюродную сестрицу…
— Не хочу, я съ Линочкой сижу.
— А развѣ Лина нездорова?
— Очень здорова, да ее не принимаютъ.
Саша живо повернулась къ Линочкѣ, которая печально опустила глаза:
— Отчего тебя не принимаютъ?
— Оттого, — отвѣчала за нее Мери, — что всѣ онѣ гадкія, говорятъ: что у нея старое платье, и смѣются надъ ней, что у нея нѣтъ новой куклы!
Природное чувство добра возмутилось въ Сашѣ, жалость зашевелилась въ груди.
— Ты видѣла мою куклу? — спросила она у Лины.
— Видѣла.
— Хочешь поиграть ею? — И не дождавшись отвѣта, она полетѣла и не совсѣмъ привѣтливо выхватила у кого-то куклу; она сердилась на подругъ за ихъ дурное обращеніе съ Линочкой.
— Вотъ, возьми, играй ею цѣлый вечеръ, — говорила она, цѣлуя повеселѣвшаго ребенка, — и ты, Мери также, играйте вмѣстѣ!
Между танцами, одни мальчики важно прохаживались, другіе корчили взрослыхъ, вяло разваливались на диванахъ, отвѣчали другъ другу полусловами; однако замѣтно было, что всѣ выглядывали мѣста себѣ около тѣхъ, что были познатнѣе или побогаче. Другіе же, подобные Мишѣ, рѣзвились, прыгали, кричали, и иногда поддразнивали дѣвочекъ. У этихъ дѣтей были дѣтскіе недостатки, они мало стѣснялись присутствіемъ старшихъ, при нихъ бросались на лакомства, шумѣли и ссорились другъ съ другомъ, словомъ, у нихъ пока все было наружу. Они смотрѣли прямо, говорили безъ запинки; тогда какъ другіе шаркали, кланялись; благодарили, говорили прилично и вѣжливо, до лакомства чуть дотрогивались; родители любовались ими и съ гордостью выслушивали похвалы своему умѣнью держать дѣтей. О, если бы они заглянули на нихъ тамъ, гдѣ дѣти не боятся чужого глаза, да послушали что тамъ говорится! Дѣвочки вообще походили на своихъ братцевъ, и потому доброе природное чувство иногда принимало искаженный видъ.
— Вы жертвуете на Симбирскъ? — спросила одна, вытягиваясь и охорашиваясь передъ зеркаломъ?
— Разумѣется, — отвѣчало нѣсколько голосовъ. — Ты сколько дала?
— Не знаю право, — небрежно отвѣчала маленькая хозяйка, — мама сказала, что она за меня пошлетъ. А ты, Аля?
— Я, — сказала дѣвочка съ умными, сѣрыми глазками и выразительнымъ личикомъ, — я, — и она закинула головку, считая про себя, что-то, — я отдала все, что было у меня въ кружечкѣ, — рубль восемьдесятъ пять копѣекъ.
— Экое богатство! вотъ и напечатаютъ: отъ Али, рубль восемьдесятъ пять копъекъ!
— Нѣтъ, — отвѣчала та, — папочка говорить, совсѣмъ не надо печатать имени.
— Разумѣется, не надо! стыдно давать такъ мало, — послышалось нѣсколько голосовъ. Замѣтно было, что эти дѣти давали изъ тщеславія, а не изъ состраданія.
— Я отдала все, что у меня было, — сказала Аля.
— У папы твоего много денегъ, онъ можетъ свои послать!
— Это значить, mesdames, чужими руками жарь загребать, — сказалъ старшій брать Мери. Нѣкоторыя покраснѣли, другія надулись.
— Сережа, вы всегда насмѣхаетесь или дразните! Вы… — Бойкая дѣвочка хотѣла назвать его тѣмъ именемъ, которымъ не разъ старшіе при ней называли людей, несогласныхъ съ ихъ личнымъ мнѣніемъ. — Вы… — но она забыла слово.
— Что же я? — весело глядя ей въ глаза, допытывался мальчикъ.
Дѣвочка отвернулась, сказавъ: — невѣжа!
— Какъ у тебя сегодня весело! — наперерывъ говорили подруги своей маленькой хозяйкѣ.
— Какъ всегда, — расшаркиваясь сказалъ двѣнадцатилѣтній мальчикъ, изъ взрослыхъ. Ниночка пріятно улыбнулась тому и другому.
— Жаль, — сказала она, — что Лина испортила слезами своими начало вечера!
— Ахъ, душка, я терпѣть не могу видѣть слезы, — говорила одна изъ подругъ, — у меня на это такое чувствительное сердце, — говоритъ m-me Cricri — противная эта Лина! Саша, зачѣмъ ты ей отдала куклу?
Сашу сначала смутилъ упрекъ, но взглянувъ на Линочку, которая весь вечеръ возилась и радовалась на ея куклу, она бойко отвѣчала: — «У нея нѣтъ своей новой, и вы за это обижали ее, такъ я ей и дала свою».
Однако вечеръ пришелъ къ концу; дѣти съ объятіями и поцѣлуями разставались; каждый увезъ запасъ чувствъ въ душѣ своей, запасъ, который ежедневно питаетъ, лелѣетъ и роститъ обезьянокъ, попугаевъ и будущихъ трудолюбивыхъ и честныхъ людей.
Поздно; обычное время прощанья и укладыванья давно прошло; дѣти, только что вернувшіяся изъ гостей, полусонныя идутъ въ свои дѣтскія. Въ домѣ все тихо… Вдругъ изъ Сашиной комнаты послышался отчаянный крикъ, и вслѣдъ за тѣмъ, громкій плачь, бабушка показалась въ дверяхъ дѣтской, но спѣшно отозванная къ больной невѣсткѣ, только успѣла взглянуть на няню, которая стояла передъ ребенкомъ, — и торопливо ушла. Плачь и крикъ не унимался, чрезъ нѣсколько минутъ бабушка воротилась и подошла къ дѣвочкѣ, которая, полураздѣтая, не снявъ еще теплой шапочки и сапожковъ, лежала уткнувшись въ подушки, и плакала неутѣшно.
— Что у васъ такое? — спросила бабушка у няни.
— Да вотъ бѣда случилась, должно быть, какъ лошади зашалили, такъ мы куклу выронили; я ужъ послала Петра поискать у подъѣзда, да гдѣ теперь найти, чай всю искрошили лошади! — Услышавъ нянино предположенье, Саша еще громче заплакала.
— Ахъ ты Господи и что это такое, сестрица померла, такъ эдакъ не убивалась! да что про сестрицу говорить, ее только и норовила какъ бы раздразнить, нечего грѣха таить: оба неласковы до нея были, — говорила нянюшка, замѣчая, съ какимъ вниманіемъ слушаетъ ее старая барыня. Грустная забота легла на лицо бабушки отъ этихъ разсказовъ. Тихо, но рѣшительно наклонясь надъ внучкой, она сказала:
— Давай, развяжемъ шапочку, вотъ такъ; теперь снимай сапожки, — няня присѣла на полъ; — ты только помогай ей, няня, а она сама разуется, — сказала бабушка. Покончивъ съ сапожками дѣвочка опять заплакала и хотѣла броситься въ подушки, но бабушка, сидя около нея, на кроваткѣ, привлекла ее тихонько къ себѣ, и что-то ей изрѣдка говорила; а замѣтивъ, что Саша между всхлипываньемъ зѣваетъ и потягивается, она ее тихонечко раздѣла, уложила и сѣла подлѣ нея. Присутствіе доброй бабушки успокоительно подѣйствовало на ребенка; Саша слышала на себѣ ея руку, ей слышались неясныя слова: спи, дѣвочка, утро вечера мудренѣе, спи, Господь съ тобою! Кукольный вечеръ, шумъ, танцы, потеря куклы, уговоры бабушки, непонятная поговорка: утро вечера мудренѣе, — все это стало путаться въ головѣ ребенка, мысли приходили рѣже и отрывочнѣе… а бабушка все еще сидитъ тутъ, наклонясь надъ ней; Сашѣ чувствуется на плечѣ теплая, ласковая рука старушки, но словъ ея она уже не понимаетъ, дитя угомонилось… Бабушка наклоняется, слушаетъ ровное, тихое дыханье внучки, крестить, цѣлуетъ ее и тихо уходить къ себѣ.
ВЧЕРАШНЯЯ ОБИДА
На другое утро кукольнаго вечера заспанная Лина вышла къ чаю; отецъ, уже совсѣмъ готовый идти на урокъ, допивалъ свой послѣдній стаканъ кофе. «Ну ты, соня, весело ли вчера было».
— Ахъ, папа, очень, очень весело! какая тамъ была кукла! Никогда такой и на свѣтѣ не бывало!
— Будто? — сказалъ отецъ, сомнительно покачивая головой.
— Право, папа, никто такой куклы не видалъ! У нея глазки черненькіе, поворачиваются, какъ настоящіе, и даже совсѣмъ закрываются, точно у насъ; волоски длинные: можно расчесывать, только они не пришиты и не приклеены, а точно сами ростутъ! — Лучше этого Лина не умѣла описать искусно сдѣланный паричекъ. — Ахъ, папа, какъ она бѣгаетъ! Вотъ такъ: — дѣвочка вытянулась, опустила руки и не сгибая колѣнъ на цыпочкахъ побѣжала статуйкой вокругъ комнаты.
Съ любовью глядя на дочь, отецъ едва могъ удержаться отъ смѣху, а Лина, какъ по затверженному уроку, обѣжала два раза комнату и стала передъ отцомъ.
— Что, папа, хорошо?
— Должно быть кукла хорошо бѣгаетъ, — отвѣчалъ тотъ.
— Ахъ, чудо что такое, я весь вечеръ ею играла!
— Чья же это кукла? — спросила мать, держа на одной рукѣ меньшую свою дочку, а въ другой кастрюлечку съ кашкой.
— Мальхенъ, Мальхенъ! — кричала Лина, хватая и цѣлуя въ припрыжку крошечныя ножки сестрицы; — Мальхенъ, скажи: Лина. — Крошка напыжилась, Лина ждетъ, вотъ, вотъ въ первый разъ сестрица назоветъ ее по имени! — Ну, Мальхенъ, ну скажи, умильно просила дѣвочка.
— Папа! — закричала малютка и какъ бы сдѣлавъ дѣло, заболтала ножками и запрыгала на колѣняхъ у матери.
— Ну, Линхенъ, чья же была эта кукла? — спросила опять мать.
— Сашина, — отвѣчала дѣвочка, — знаешь, что живутъ въ томъ домѣ съ балкономъ, на нихъ шьетъ Аннушка? Ты еще туда посылала Анну Карловну?
— А, знаю, — сказала мать.
— Постой, папочка, не уходи, я тебѣ гостинца привезла.
Въ одну минуту дѣвочка вернулась, и стала развертывать конфеты, которыя слѣпились въ одинъ комокъ.
— Это мнѣ все Мери надавала!
— Ты хочешь сказать Ниночка?
— Нѣтъ, мама, не она, она такая недобрая. Ахъ какая она! — и вспомня начало вчерашняго вечера, Лина опять прослезилась. — Она, мама, меня при всѣхъ пристыдила, что на мнѣ старое платье!
— Развѣ это тебѣ стыдно? — спокойно спросила мать.
— Она смѣялась, что у меня нѣтъ новой куклы, и всѣ смѣялись надо мной, что я, бѣдная, — говорила Лина, всхлипывая.
— Дочка моя, какъ глупо смѣяться надъ бѣдностью, почти также глупо и обижаться тѣмъ, коли назовутъ бѣдною.
Отецъ, остановившійся было въ дверяхъ, но вполнѣ довѣряя женѣ своей, взялъ шапку и пошелъ тяжелымъ трудомъ добывать деньги, для семьи своей.
Вспомня что-то, дѣвочка вдругъ, заплакавъ, бросилась къ матери и, спрятавъ голову въ колѣняхъ ея, горько зарыдала.
— Ну, ну, моя дурочка, что еще припомнила, — спрашивала мать, гладя шелковистые волоски Лины; — ну какая еще тамъ обида?
— Мама, она тебя назвала нѣмкой.
— Ну такъ что же, развѣ мы съ тобой англичане?
— Нѣтъ, не то; но она, когда ее спрашивали другія дѣвочки, кто я, сказала: ея мать нѣмка, что приходить меня учить, но она такъ сказала, мама, какъ будто говорила про горничную, которая приходить ее одѣвать! А, а, а, сказали дѣвочки. — И Лина опять горько заплакала.
— Ну полно, Линхенъ, перестань — на всѣ дѣтскія глупости ненаобижаешься; и что мудренаго, что лѣнивая дѣвочка такъ отзывается о своей учительницѣ, или что глупенькая и довольно избалованная, смотритъ на богатство, какъ на свое хорошее качество; — и чтобы развлечь дѣвочку, она спросила: — кто же тебѣ далъ играть куклой?
— Сама Сашенька, — отвѣчала дочь, — ей все разсказала Мери, а она отняла у нихъ куклу, и дала ее мнѣ; мы весь вечеръ ею проиграли!
— Добрыя дѣвочки, — сказала мать.
— И Аля также добрая, — прибавила Лина, — она мнѣ разсказала пресмѣшную сказку. Ахъ еще что, мама! Мери сказала, что она за меня непремѣнно побила бы Ниночку, да боится Сережи, старшаго брата своего, онъ ее станетъ дразнить гусыней, что дерется за гусятокъ. — Мать засмѣялась. — «И по дѣломъ ей, сказала она: гусынѣ можно драться, защищая гусятокъ, а дѣвочкѣ надо быть поумнѣе гуся, и всякую обиду либо простить, либо позабыть. Такъ сдѣлаетъ теперь и моя добрая дочка. Не правда ли, Линочка». И ясные, голубые глаза матери съ любовью глядѣлись въ такіе же добрые, но грустные глазки ребенка.
Мать положила руку на плечо дочери и тихо, но положительно сказала: «Всякій разсудительный человѣкъ уважаетъ болѣе людей, которые честно трудятся, чѣмъ тѣхъ, которые ничего не дѣлаютъ, а богаты ли они, бѣдны ли, это все равно; если же кто съ небреженіемъ смотритъ на трудъ, тотъ либо не доросъ, либо не додумался. Моей же дѣвочкѣ слѣдуетъ дорости до того, чтобы чужою глупостью не обижаться». Рѣчь эта окончилась обоюдными поцѣлуями.
УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНѢЕ
На другое утро, проснувшись, Саша вспомнила о потерѣ своей.
— Няня, а кукла? — спросила она садясь.
— Ну нѣту, матушка, не нашли, ничего не нашли; знать кто поднялъ, — говорила няня, разводя руками.
Бабушка заглянула изъ своей комнаты и увидѣла внучку грустную, съ опущенными глазами и руками; неподвижная Саша, въ ночномъ чепчикѣ и кофточкѣ, сидя на постели, походила на бѣлый столбикъ.
— Сашенька, вставай скорѣе, мнѣ надо что-то тебѣ сказать.
Саша задумчиво стала обуваться, но какъ ни вертитъ она чулокъ, а пятка все приходится на передъ; потомъ стала потихоньку умываться, а вода кажется ей такой холодной. Няня торопить: «ступай, Сашенька, чай бабушка дожидается».
Медленно, вяло идетъ дѣвочка къ бабушкѣ; на постели у старушки, сверхъ бѣлаго одѣяла, лежитъ алая атласная подушка въ батистовой вышитой наволочкѣ.
— Это у васъ, бабушка, мамина подушка? — спросила Саша. — Позвольте посмотрѣть. — Но бабушка взяла ее за обѣ руки, и притянула къ себѣ.
— Ты вчера потеряла куклу, свою дочку? — сказала старушка. — Саша вздохнула. — Мама даритъ тебѣ живую куклу въ дочки, ты станешь на нее шить и одѣвать и кормить ее, она будетъ открывать ротикъ и глотать, ты станешь ее за ручку водить и учить говорить.
— Бабушка, гдѣ, покажите, — кричала Саша, прыгая и освобождая свои руки изъ рукъ старушки.
— Она будетъ живая дочка, а когда станетъ говорить, то станетъ звать тебя мамой крестной, — говорила старушка, придвигая для внучки стулъ къ кровати.
Саша, едва переводя духъ, взлѣзла; бабушка приподняла маленькое фланелевое одѣяльце, а подъ нимъ лежала нарядная, какъ кукла, крошечка, повитая сверхъ свивальника широкой алой лентой, завязанной на ножкахъ большимъ бантомъ съ длинными концами; а на головкѣ былъ надѣтъ нарядный чепчикъ съ алыми петельками. Новорожденную нарядили, какъ куклу, чтобы она понравилась Сашѣ, которая почему-то не любила маленькихъ дѣтей, и не любила даже умершую сестрицу свою. Понимая старческою мудростію своею, что мы любимъ во всемъ свое дѣло, свой трудъ и свою работу, иначе дѣло остается для насъ какъ бы чужимъ, бабушка на этотъ разъ хотѣла заставить Сашу полюбить маленькую сестричку свою съ самаго начала, и для того вздумала замѣнить ей потерянную куклу живою сестрицей, подаривъ ей сестрицу эту для ухода за нею.
— Мама велѣла тебѣ сказать, — продолжала бабушка, — чтобы ты сама выбрала имя твоей крестной дочкѣ, назови ее какъ хочешь.
— Бабушка, какъ я тебя люблю, — воскликнула Саша, обнимая и цѣлуя бабушку; въ радости, она забыла вѣжливое вы, и съ этой минуты стала говорить старушкѣ ты. — Какъ я люблю, — продолжала она, — и тебя и мою дочку, и папу съ мамой, и Мишу! Позволь позвать сюда Мишу! Позволь мнѣ поцѣловать дочку!
Дѣвочка была такъ счастлива, что не знала бѣжать ли за братомъ или оставаться при ребенкѣ. Присѣвъ къ постели, она поцѣловала конецъ ленты и бантикъ, потомъ, осторожно ощупавъ ножки, припала къ нимъ. Въ ней впервые зашевелилось сладкое чувство заботливой любви къ меньшему. Въ это время изъ Мишиной дѣтской раздался призывъ: няня, няня! крикъ все усиливался: няня, глухая нянька! потомъ послышалось шлепанье босыхъ ножекъ; и вотъ, босикомъ, въ одной сорочкѣ, Миша побѣжалъ было въ нянину комнатку, но няня перехватила его на перепутьѣ.
— Это ты что, сударь, босикомъ, да въ одной сорочкѣ бѣгаешь? вотъ дай срокъ, все бабушкѣ разскажу! Иди сейчасъ въ постельку! — Миша уцѣпился за няню, спрашивая: «нянюшка, а что, куклу нашли».
— Гдѣ найти, ее чай лошади да кареты въ порохъ испорошили!
— Вотъ тебѣ и разъ, — сказалъ мальчикъ, повѣся голову, — вотъ тебѣ и дочка, говорилъ онъ, усаживаясь на постели. Ужъ эти дѣвчонки ничего не умѣютъ беречь!
— Да ты что, Мишенька, развоевался на сестрицу, вѣдь куколка-то ея была, ей больше твоего чай жалко!
— Няня, вѣдь она была моя племянница, — сквозь слезы отвѣчалъ мальчикъ.
— А ты вставай скорехонько, да ступай къ бабушкѣ, сестрица у нея что-то тамъ смѣется, должно быть весело.
— Бабушка, можно къ вамъ? — закричалъ Миша, широко распахнувъ двери.
— Миша, Миша, поди сюда, посмотри на мою дочку, она живая, она станетъ кушать! Мы съ тобою будемъ ее кормить, будемъ ей шить платьеца! а ты вотъ взлѣзь сюда, вотъ такъ!
Миша помѣстился на стулѣ и съ изумленьемъ смотрѣлъ на крошку. Бабушка поддерживала его сзади.
— Миша, мы съ тобою станемъ водить ее гулять: я за одну ручку, а ты за другую; я тебѣ позволю это, она будетъ твоя племянница. — Мальчикъ сталъ улыбаться.
— Мишенька, какъ мальчикъ, будетъ оберегать и защищать малютку, — сказала бабушка.
— Я, бабушка, надѣну новую саблю, — воинственно говорилъ Миша, — и кто подойдетъ — того изрублю!
— Того изрубишь, дружокъ, кто будетъ обижать, а то можетъ быть другой подойдетъ, чтобы поласкать ее, за что же ты его изрубишь?
— Я буду позволять ласкать, — сказала Саша. — И я также, — подтвердилъ Миша. — Бабушка, положи мнѣ дочку на колѣни, — умильно просила дѣвочка.
— Хорошо, я вамъ обоимъ положу на колѣни; садись, Миша, на постель, рядышкомъ, ближе къ сестрицѣ, вотъ такъ. Ну, теперь я положу вамъ ее съ подушкой, со всѣмъ какъ есть. А ты не трогай, дружокъ, — говорила старушка мальчику, который въ нетерпѣніи и радости, весь какъ живчикъ дергался и бился, — а то разбудишь Сашину крестницу.
— Миша, осторожнѣй, — строго сказала Саша. Но вотъ бабушка опустила пышную подушку дѣтямъ на колѣни, оба глубоко вздохнули отъ радости. У Миши лежали ножки, перевязанный широкимъ бантомъ, у Саши крошечная нарядная головка. «Бабушка, она дышетъ, погляди», говорила дѣвочка шопотомъ, наклонясь надъ личикомъ крошки.
— Да вѣдь за то она живая, — замѣтилъ Миша. — Бабушка, бабушка, закричалъ мальчикъ, смотри, она шевелить ножками!
— Бабушка, она ротикъ открываетъ, — говорила Саша, — вотъ поворачиваетъ головку.
— Она хочетъ кушать, понесемъ ее къ мамѣ, пора, — сказала бабушка, — а вы поддерживайте одѣяльце, чтобы оно не упало. — Бабушка шла съ подушкой, дѣти на цыпочкахъ прыгали около нея.
— Папа, папочка, ты видѣлъ мою племянницу? — кричалъ мальчикъ, подбѣгая къ отцу.
— Папа, погляди на мою дочку, только не разбуди ее, — говорила Саша.
— Папа, я стану носить всегда мою новую саблю и никому не позволю обижать моей племянницы!
На удивленный взглядъ сына, старушка весело отвѣчала: «Мы идемъ благодарить маму за крестную дочку, которую она подарила Сашѣ».
— Папа, это моя племянница, ты, папа, видѣлъ ее? Мы будемъ сами кормить ее, я стану приносить ей все мое сладенькое, — сказалъ Миша. Благодарная Саша бросилась обнимать и цѣловать Мишу за то, что онъ хочетъ все лучшее отдавать ея крестницѣ. Отецъ поглядѣлъ привѣтливо на дѣтей, поцѣловалъ каждаго въ головку, и съ любовью и благодарностью поглядѣлъ вслѣдъ уходившей старушки.
Почти на порогѣ темной спальной встрѣтила ихъ пріѣзжая старая няня Михаила Павловича, говоря шопотомъ, что Софья Васильевна почиваетъ. Нянюшка самовластно завладѣла новорожденною, поспѣвая прислуживать и своей матушкѣ старой барынѣ и крошкѣ внучкѣ ея. Дѣтямъ не хотѣлось разставаться съ малюткой, но дѣлать было нечего, бабушка услала ихъ пить чай. До чаю ли имъ было! Дѣти прыгали, какъ козлята, разсказывали нянѣ про свою радость, потомъ побѣжали по всему дому съ вѣстью, что у Саши, вмѣсто куклы теперь есть живая крестная дочка. Миша всѣмъ кричалъ, что живая племянница для него лучше куклы, и что онъ никому не позволить ее обижать, а ласкать, быть можетъ, позволить! Обѣжавъ весь домъ и разсказавъ всѣмъ встрѣчнымъ, что у нея дочка, Саша встрѣтила дворецкаго, бывшаго дятьку отца; бросясь къ старику и задыхаясь отъ радости, она проговорила: «Порфирій, душечка, мнѣ мама подарила крестную дочку, я сама выберу ей имя». Старикъ Порфирій, безъ памяти любившій господскихъ дѣтей, наклонился къ Сашѣ, и чинно спросилъ ее: «Это значить, вы, Александра Михайловна, воспріемницею младенца будете? Позвольте васъ поздравить». И низко кланяясь и цѣлуя у ребенка ручку, прибавилъ: «великое дѣло, матушка барышня, принимать младенца отъ купели! Крестные заручаются своею душою за младенца».
— Какъ это? — вскричала изумленная Саша.
— Да такъ, золотая моя барышня! — и чтобы не запугать ребенка, онъ прибавилъ: — ну, коли возростите младенца въ страхѣ Божьимъ да въ умѣ-разумѣ, значить, ангельскую душеньку сберегли; — дай же Господи вамъ меньшую сестрицу окрестить, да Господу Богу во славу, а людямъ на радость возрастить, — говорилъ раскланиваясь старикъ. Непонятныя, но особенно чинно сказанный Порфиріемъ слова поуспокоили на время дѣтскую шумную радость; они изъ всего, что говорилъ старикъ, поняли, что крестины не шутка, а вещь важная. Обѣжавъ весь домъ, дѣти вспомнили о своихъ двоюродныхъ братьяхъ и сестрахъ.
— Миша, Миша! какъ Лиза и Аля обрадуются, — это просто чудо, какъ они обрадуются! — говорила Саша, прыгая передъ братомъ.
— Еще бы! разумѣется, а Мери-то, а Алеша-то! — и потомъ прибавилъ: — давай, напишемъ имъ!
— Вотъ это славно! — вскричала Саша, обрадованная мыслью брата, — давай писать, я къ Лизѣ и Зиночкѣ напишу, да еще къ Алѣ, а ты къ Сережѣ съ Алешей и маленькой Мери; да? — спросила дѣвочка, выжидая согласія брата.
— Да! — отвѣчалъ Миша, кивая головою.
Взявшись за руки, побѣжали они къ бабушкѣ; старушка, выслушавъ ихъ, дала имъ все нужное для письма, и усадила за своимъ столомъ.
— Бабушка, — сказала Саша, перебирая бумагу, — ты не дала намъ простой бумаги, чтобы написать начерно!
— Для чего же начерно, пиши прямо набѣло.
— Да мы не умѣемъ такъ писать, намъ надо напередъ поправить, а потомъ мы перепишемъ, — сказали дѣти въ голосъ.
— Напрасно; и много вамъ поправляютъ? — спросила старушка.
— Охъ, конечно! — отвѣчали дѣти опять вголосъ, — иногда все письмо перечеркаютъ!
— Что же вамъ поправляютъ, ошибки ли словъ, или самый складъ письма? — допытывалась бабушка.
— Видишь, бабушка, — отвѣчала Саша, — прежде обыкновенно начнутъ поправлять ошибки, а потомъ какъ увидятъ, что мы написали нескладицу, то и перечеркнуть все и напишутъ тамъ сами, а мы переписываемъ набѣло.
— Это значить, что вы сами никогда не пишете писемъ, а только переписываете чужія, — замѣтила бабушка.
Дѣти молча, раскрывъ глаза, смотрѣли на бабушку, а Саша тихо и нерѣшительно проговорила: «мы… мы ихъ сами отсылаемъ».
— Ну да, переписавъ чужія письма, вы подписываете подъ ними свои имена, какъ будто вы письма эти сами сочинили, и потомъ разсылаете ихъ; желала бы я знать, вѣрятъ вамъ или не вѣрятъ тѣ, кто ихъ получаетъ, — прибавила старушка, вопросительно глядя на дѣтей.
Слѣдя за мыслію и словами старушки, Саша отвѣчала: «Не знаю»; потомъ вдругъ надумавшись, закричала «бабушка, а можетъ быть они сами такъ же дѣлаютъ».
— Можетъ быть, дружокъ мой, и даже очень вѣроятно, что есть много дѣтей, который и себя и другихъ обманываютъ. Скажи мнѣ, Саша, развѣ тебѣ не веселѣе самой на письмѣ поболтать съ сестрами, нежели чужой разговоръ переписывать? не пріятнѣе ли тебѣ прочитать то, что Лиза сама думаетъ, да нескладно напишетъ, или то, что ея гувернантка сочинить, и заставить ее переписать?
— Конечно бабушка, разумѣется!
— Ну, вотъ видишь ли! ну и сама такъ дѣлай, чтобы Лизѣ было веселѣе читать твое письмо.
— Бабушка, а если онѣ станутъ смѣяться?
— Кто станетъ смѣяться? — какъ бы въ недоумѣніи спросила старушка.
— Да всѣ, и гувернантка, и тетя, и дѣти!
— Дѣтямъ смѣяться нечего, они и сами вѣроятно не безъ ошибокъ пишутъ, — сказала бабушка, — а если взрослые посмѣются надъ вашими записками, такъ тутъ ничего нѣтъ обиднаго, потому что имъ забавно дѣтское неумѣнье, точно такъ, какъ васъ забавляетъ Софочкина болтовня, а вѣдь Софа не стыдится своего неумѣнья, и не заставляетъ няню говорить за себя, какъ то дѣлаете вы, переписывая чужія мысли. А коли отъ неумѣнья и въ самомъ дѣлѣ выйдетъ смѣшно, да вы поймете въ чемъ дѣло, то и сами себѣ насмѣетесь, и поумнѣете. Пора вамъ, дѣти, — тебѣ, Сашенька, девять лѣтъ, а Мишѣ восемь, пора вамъ самимъ за себя говорить; вы шутя, пріучитесь скоро собираться съ мыслями, и бѣгло и вѣрно ихъ передавать. Ну, такъ садитесь же, благословясь, за дѣло, и пишите то, что сказали бы вы имъ, если бы они были здѣсь.
— И совсѣмъ переписывать не станемъ? — спросилъ Миша, какъ бы не довѣряя себѣ хорошо ли онъ понялъ.
— Не станете.
— Это хорошо, бабушка, — сказалъ мальчикъ, одобрительно кивнулъ головой, и наклоняясь сѣлъ писать крупными буквами слѣдующее:
«Алеша! Мери! Сережа!
«Вотъ что! у меня есть живая племянница, чудо какая, и ножками шевелить; Саша будетъ ее крестить, я ужъ теперь стану играть своей новой саблей, и никому не позволю обижать племянницу. Все самое, самое сладенькое, мы съ Сашей будемъ ей отдавать, и вы также.
«Братъ вашъ
Миша».
«Еще вотъ что: я самъ сочинилъ это письмо, — бабушка велѣла».
Саша писала скорѣе брата и потому подала свое письмо бабушкѣ напередъ Миши; читая его, бабушка поправляла только ошибки правописанья карандашомъ. Саша писала Лизѣ:
«Лизочка, знаешь ли какую радость я тебѣ скажу, Лизочка душка, послушай: я вчера ѣхавши съ балу потеряла свою куклу, мама подарила мнѣ свою дочку, маленькую, маленькую, она будетъ моей крестной дочкой, и Мишиной племянницей; какая она маленькая и тепленькая, просто прелесть! скажи про нее Зиночкѣ, а Софочкѣ и Лили не говори, онѣ еще дурочки. Бабушка сказала: мы станемъ учить ее, и я сама выберу ей имя; и еще мы съ Мишей станемъ отвыкать отъ дурныхъ привычекъ, это сказала бабушка, чтобы дочка моя ихъ не переняла. А вотъ еще что, мы съ Мишей сами будемъ выдумывать письма, — такъ гораздо веселѣе! Бабушка сказала, что никто надъ нами смѣяться не будетъ, бабушку всѣ слушаются, и она не велитъ смѣяться. Пріѣзжай скорѣе, я тебѣ покажу нашу дочку. Такъ весело, что чудо!
«Твоя Саша».
Переправивъ записочки, бабушка дала дѣтямъ по конверту, и велѣла самимъ имъ надписать; но видя, что они не справятся съ этимъ, сама легонько надписала карандашемъ, и дѣти писали между ея строчками, чернилами; затѣмъ имъ позволили выбрать облаточки и самимъ запечатать. Долго разбирались въ нихъ дѣти и толковали промежъ себя, что хорошо кабы можно было печатать тремя облатками или болѣе, — ихъ такъ много хорошенькихъ! Наконецъ однако рѣшились, Саша выбрала плывущаго лебедя съ запечатаннымъ письмомъ, а Миша взялъ собачку, несущую письмо же.
Такъ начала бабушка пріучать дѣтей писать письма; во-первыхъ, чтобы было у нихъ сознаніе собственнаго дѣла, чтобы жара чужими руками не загребали; во-вторыхъ, чтобы вдумывались прямо, просто и вѣрно излагать мысли; а наконецъ, ей хотѣлось съ дѣтства пріучать ихъ къ перепискѣ, зная какимъ утѣшеньемъ и какою связью служитъ она близкимъ въ неизбѣжныхъ разлукахъ.
СВЯТКИ
— Охъ, Аннушка, задержала насъ булочница, поскорѣе бы намъ до Николаевны добраться, — говорила старушка дочери своей, швеѣ. — Да какъ бы намъ съ тобой на переряженыхъ не наткнуться! — Обѣ ускорили шаги, снѣгъ громко хрустѣлъ подъ ногами, морозъ пощипывалъ носъ и щеки, старушка прикрывалась головнымъ платкомъ, а дочь весело и вольно дышала, часто вскидывая голову на ясное, звѣздное небо. «Гляди, гляди, матушка, въ какихъ кругахъ мѣсяцъ стоить».
Старушка пріостановилась, посмотрѣла: «Ну, это къ морозамъ. Аннушка, надо дровъ припасать», — заботливо сказала она; потомъ, набожно перекрестясь, промолвила: «пошли намъ Господи зиму сиротскую», т. е. теплую. «Ну вотъ и садъ, — сказала старушка, едва переводя духъ,— теперь скорехонько дойдемъ, не боязно».
Аннушка остановилась передъ каменной стѣною сада, посмотрѣла на бѣлыя пышныя деревья, на голубое небо. «Какъ хорошо это, какъ мнѣ мило смотрѣть», говорила она, стараясь допрыгнуть до вѣтки плакучей березы. Вотъ захватила Аннушка жидкій кончикъ вѣтки, и пухомъ полетѣлъ на нее блестящій иней; дѣвушка засмѣялась, какъ ребенокъ.
— Чего глупая по улицамъ хохочешь, да опоку съ деревьевъ трясешь! Вотъ услышатъ переряженные, — какъ разъ привяжутся, ворчала старушка.
— Что запоздали, аль заспѣсивились! — раздался голосъ женщины, перебѣгавшей чрезъ улицу.
— Николаевна, это ты? здравствуй, Васюта!
— Мы вотъ, поджидаючи васъ, въ лавочку бѣгали.
— А Лиза что? — спросила Аннушка.
— Она, тётя, — со смѣхомъ говорилъ мальчикъ, — обронила съ башмака гдѣ-то алый бантикъ, такъ ждетъ теперь, что коли кто найдетъ, такъ безпремѣнно ей принесетъ!
Гости и хозяева, дошедши до жилья башмачника, отворили дверь — и теплый воздухъ охватилъ ихъ бѣлымъ клубомъ. Свѣтло, тепло, радушно, хозяинъ съ Петровичемъ да кумой играютъ въ карты, въ свои козыри, Ванюша съ товарищами возятся около самовара. Лиза, завидя Аннушку, съ визгомъ бросилась ей на шею: «Тётя, тётя! Какія у меня платья! красное, да зеленое съ голубыми клѣточками, да еще какое-то, незнаю, — такія хорошія, что ты никогда не видывала». Лиза бросилась, притащила узелокъ и, не давъ Аннушкѣ ни съ кѣмъ поздороваться, разложила все свое богатство, прыгая и крича: «Это мнѣ барышня дала, и еще апельсинъ дала, а я тебѣ его отдамъ», говорила она, опять бросаясь цѣловаться. «Какъ тамъ хорошо, свѣтло, дерево высокое, — вотъ такое», говорила она, карабкаясь со стула на столь.
— Лизенокъ, куда ты полѣзла, — закричалъ отецъ — убьешься!
Дѣвочка присмирѣла, сползла на стулъ, подняла рученки выше головы, а чтобы показать еще выше, хотѣла подпрыгнуть.
— Эй, упадешь! — закричалъ башмачникъ.
Лиза немного опѣшила и стала искать глазами мѣрку по стѣнамъ, какой вышины было дерево.
— Гдѣ же это ты была, развѣ въ Марьиной рощѣ, что такое высокое дерево видѣла? — спросила Аннушка.
— Что ты, что ты! тётя, какая Марьина роща, вѣдь теперь зима! Это у господъ, гдѣ мнѣ платье подарили; охъ, какъ тамъ хорошо! На деревѣ много свѣчекъ зажжено, лампадочки всякія, и синія, и красныя, и желтыя, и всякія, всякія, и конфетки, и прянички, и яблочки; еще, тётя, тамъ были золотые орѣхи, у меня есть два орѣха, я тебѣ одинъ дамъ. Я ихъ не стану больше носить вмѣсто подвѣсокъ, отъ нихъ ушко болитъ, — говорила Лиза, мотая головой и держась за распухлое ухо.
Аннушка развязала клѣтчатый платочекъ, вынула нарядную куколку, собранную изъ обрѣзочковъ, распыженную на сахарной бумагѣ, и поставила ее на столъ, передъ дѣвочкой. Лиза пристально смотрѣла на куклу, подымала плечи и глубоко вздыхала, — это былъ признакъ ея величайшей радости.
— Это мнѣ?.. — проговорила она, немного дичась и взглядывая исподлобья на швею.
Аннушка весело кивнула ей. Лиза съ визгомъ бросилась ей на шею, потомъ схватила куклу, побѣжала къ матери, и во весь вечеръ только ей, да отцу позволяла брать ее въ руки; кромѣ ихъ, ни братьямъ, ни Марѳушѣ, своей гостьѣ, ни двоюроднымъ сестрамъ, племянницамъ отца, — никому не позволяла она тронуть своей куклы.
Зовутъ чай пить, ей и чаю не хочется. «Да иди, глупенькая, посади куклу, хоть около Аннушки», говорила мать, кроша ей хлѣбныя корочки въ чашку. Лиза побѣжала, пошептавъ швеѣ на ушко, чтобы никому не давала куклы.
— А мы слышали, что ты шептала, говорилъ одинъ изъ гостей. — Дѣвочка нерѣшительно остановилась среди комнаты.
Мать кликнула ее: «Да полно тебѣ, пей поди, они ничего не слыхали».
— Тётя, они ничего не слыхали? — сказала Лиза, вопросительно глядя на швею.
— Ничего не слыхали, — смѣясь сказала Аннушка, — твое словечко спрятано у меня въ ушкѣ.
Лиза взмахнула ручонками и побѣжала къ столу пить чай.
У ребятишекъ, въ темномъ углу, поднялся говоръ шопотомъ; они, сбившись въ одну кучу, надъ чѣмъ-то возились.
— Эка харя-то, харя-то! сущая образина! за мѣсто усовъ, братцы, ей бы мѣху какъ пристегнуть.
— Ванюрка, а Ванюрка! ты ей клюквой щеки-то протрешь, пра, протрешь! — говорилъ другой гость, почти лежавшій на плечахъ товарищей, которые мастерили личину.
— Куда языкъ-то задѣвали? — суетясь спрашивалъ одинъ изъ мастеровъ. — Митроша, никакъ ты на него разсѣлся? — И нѣсколько рукъ проворно и не обинуясь стащили мальчика съ лавки, который, впрочемъ, при первомъ словѣ и самъ хотѣлъ вскочить, да не поспѣлъ.
— Вотъ, вотъ онъ! — кричали всѣ разомъ, подымая съ полу кусокъ красной байки. Ребятишки всунули лоскутъ въ разрѣзъ губъ, и всѣ удивились страшному виду маски.
— Вотъ страсти, такъ страсти! нука-сь, Васюта, приложь-ка на себя, — сказалъ главный мастеръ.
— Нѣту, нѣту, не надо, — говорилъ старшій хозяйскій сынъ, пятясь отъ размалеваннаго листа бумаги, — мама забранитъ, она съ тятей ни за что не велятъ харь надѣвать! — «Ну вотъ, не увидитъ», шепотомъ приставалъ гость, наступая съ маской на маленькаго хозяина.
— Не тронь его, — перебилъ другой, — вишь трусъ, самъ боится, а на мать сваливаетъ!
Вася было пріостановился, обидно ему было, что товарищи трусомъ обзываютъ, взялъ было рожу, но подумавъ, опять опустилъ, говоря: «Нѣту, нельзя, послѣ хари надо въ Іордани омыться».
— Эхъ ты, — продолжали тѣ, — да нешто она узнаетъ, — вишь, съ самоваромъ возится!
— Что-о! чего мать не узнаетъ? — отозвался сапожникъ, — все узнаетъ, на то она мать!
Ванюша покатился со смѣху, видя, какъ у гостей вытянулись лица.
— Ай да тятя, все-то онъ услышитъ!
Ребятъ кликнули, дали закусокъ, тѣхъ что подешевле: орѣшковъ, жемковъ, пастилы, да по винной ягодкѣ, — съ полными горстями пошли они выбирать себѣ мѣсто, гдѣ бы всѣмъ усѣсться. Передъ большими гостями стояли на тарелкахъ: мятные прянички, клюквенная и яблочная пастила, винныя ягоды, жемки, ковришки и любимое наше русское лакомство, — каленые орѣхи. Все это лакомства не дорогія, а у насъ всякій семьянинъ считаетъ долгомъ отпраздновать святки по своимъ средствамъ, собравъ родныхъ и друзей позабавиться прадѣдовскими играми и пѣснями.
— А что же это мы не по святочному святки празднуемъ? — говорилъ хозяинъ, посматривая на гостей, — спѣть бы дѣвицамъ подблюдную пѣсенку. Можетъ статься Аннѣ Степановнѣ выдетъ: «Катилася жемчужинка по атласу, по бархату, прикатилася къ яхонту» — продолжалъ хозяинъ, ласково взглядывая на молодую дѣвушку и на мать ея.
— Гдѣ ужъ, Василій Ивановичъ, моей жемчуженкѣ катиться по атласамъ, да бархатамъ, — вздыхая говорила старушка, — впору ей хоть бы не спотыкаючись вѣкъ прожить!
— И, полно, матка, — перебила ее бойкая кума, — нешто ты ея судьбу спознала? судьба-то людская у Бога за пазушкой живетъ, не намъ съ тобой ее разгадывать! Давайте въ курилку играть, аль золото хоронить, — сказала Анфиса Яковлевна, досужая хозяйская кумушка, вѣковѣчная указчица и заводница игръ и старыхъ обрядовъ. Ребята, заслыша, что хотятъ въ курилку играть, ихъ любимую игру, попрятали по карманамъ орѣхи и окружили крестную мать свою.
— Ну вотъ умники, — говорила кума, гладя по головкѣ то того, то другаго крестника: — напередъ всего надо отдать славу, начинай-ка ты запѣвало, куманёкъ!
Кумъ откашлялся и, вскинувъ голову, вольно и звучно запѣлъ; съ голосомъ его слилися всѣ голоса, старые, малые и молодые; никто не отнѣкивался и не отказывался пѣть родныя наши пѣсни, знакомый каждому съ-издѣтства. Запѣли славу, эту передовую святочную пѣсню:
— Ну вотъ, починъ сдѣланъ, возвеличили батюшку Царя бѣлаго, теперь давайте… — и не договорила кума, какъ со всѣхъ сторонъ явились передъ нею зажженыя лучинки, и мальчики совали ей наперерывъ каждый свою. «Видишь, сказала кума, — какіе охотники до курилки» — «Крестная, возьми мою! крестенька, мою возьми, моя подлиннѣе будетъ», кричали маленькіе хозяева, вертясь передъ крестною матерью и суя ей въ руки лучинки свои. «Нѣтъ, мою», кричалъ бойкій гость, бросая чуть не въ колѣни Анфисѣ Яковлевнѣ зажженую курилку.
— Что балуешь, озорникъ эдакой! — закричала она на мальчика, затаптывая лучинку.
— Напередъ всего, умники мои, — давайте золото хоронить, — это что ни на есть притоманная святочная игра, — продолжала она, стаскивая съ середняго пальца своего перстень съ тремя вставочками, какъ встарь называли дорогіе камешки. Всѣ, старый и малый, усѣлись въ кружокъ.
— Ну-ка, Аннушка, выходи-ка ты на середку отгадывать!
Услыхавъ приглашенье, швея крѣпче прижалась къ спинкѣ стула.
— Ступай, Аннушка, идите, Анна Степановна! — раздались голоса со всѣхъ сторонъ.
— Нѣту, Анфиса Яковлевна, я не пойду, вы станете плясать, а я не умѣю, — говорила дѣвушка.
— Да что ты, мать моя, ученый танецъ какой, аль польку прыгалку неволю я тебя плясать, — говорила Анфиса Яковлевна, таща Аннушку за рукавъ: — эдакая красавица, да не съумѣетъ бѣлой лебедью пройтись, руками надъ головушкой развести, да честнымъ гостямъ поклониться! Полно, золотая, не спѣсивься, — говорила кума, ставя подлѣ себя робкую дѣвушку, не давая ей опомниться и придерживая ее все еще за рукавъ.
Она запѣла, а за нею и всѣ, отъ мала до велика, подтягивали:
Пока пѣли, кума обходила играющихъ и примѣрялась, у кого схоронить перстень; она по-очередно опускала свою руку въ закрытый пригоршни играющихъ. Когда она подошла къ Лизѣ, то ребенокъ радостно взвизгнулъ, но потомъ съ изумленіемъ закричалъ вслѣдъ кумѣ: «Крестная, крестная, у меня нѣту», — и протянулъ къ ней ручонки.
— А ты молчи знай, — кабы не визжала, такъ бы крестная у тебя перстенекъ схоронила, — сказалъ отецъ. Лиза задумалась. Вдругъ ладъ пѣсни перемѣнился, и кума, приплясывая и похлопывая въ ладоши, запѣла, подступая къ Аннушкѣ:
Съ дѣтства любимая, родная пѣсня по дѣтски, довѣрчиво и весело настроила швею; она было начала: «Ужъ я рада б»… «Нѣту, нѣту, постой, эдакъ въ сѣткѣ не ладно плясать, говорила самовластная Анфиса, — дай-ка, сложимъ платокъ, да вотъ такъ, вмѣсто ленты повяжемъ»; потомъ сняла съ себя крупные граненые янтари, по голубиному яйцу каждый, и надѣла ихъ на Аннушку. «Чѣмъ не купеческая дочка», говорила кума, выводя ее передъ собой и, приплясывая, повторила послѣднія слова пѣсни: «Гадай, гадай дѣвица» и пр.
«Ужъ я рада бы гадала, кабы знала»… запѣла Аннушка, тихо подплясывая, обходя комнату мѣрно и плавно, разводя руками. Всѣ подхватили слѣдующіе стихи:
При послѣднихъ словахъ, Аннушка, приплясывая, стала разводить надъ головой руками и низко кланяться гостямъ, какъ бы прося не утаить ея золото. Кума же, приплясывая и приграживая, подступала къ ней, и всѣ запѣли:
Дѣвушка тихо и мѣрно шла, разводя руками и погибаясь изъ стороны въ сторону; потомъ дѣлая видъ, что плачетъ, закрыла лицо руками.
Въ это самое время, съ улицы смотрѣли въ низенькое окно двое прохожихъ: «Гляди-ка, малый, — говорилъ плотный, здоровый старикъ, подталкивая сына своего, — гляди-ка, что за краля! такой и на нашей сторонѣ поискать стать». Сынъ всѣмъ лицомъ припалъ къ стеклу. «Те, те, те, да это Анфиса передъ нею разстилается», — продолжалъ старикъ, налегая на стекло. Мерзлая оконница не выдержала двоихъ дюжаковъ, треснула и со звономъ полетѣла за зимнюю раму; въ горницѣ всѣ вскочили. — «Это что, морозъ! — проговорило нѣсколько голосовъ, знать морозъ». «А какъ знать, можетъ статься и суженый высматриваетъ свою ряжену», — бойко и находчиво сказала кума. Всѣ захохотали, мальчики бросились на улицу, но слышали только издали замолкавшій хрустъ снѣга подъ сапогами. «Суженый-ряженый, право суженый», кричали они, вбѣгая въ комнату. Аннушка переполошилась, убѣжала, сѣла въ дальній уголъ и на всѣ увѣренья кумы молчала и не шла отгадывать. «Эхъ, проговорила Анфиса, — не ладно дѣло, игру не доиграли; барышни-то — при этомъ она съ затаеннымъ неудовольствіемъ кивнула на двухъ разряженныхъ горничныхъ, племянницъ хозяина, — по нашему не умѣютъ плясать». — «Нѣ-ѣтъ-съ, — ломаясь проговорили карикатуры своихъ госпожъ, — мы бы лянсье, или польку трамблемъ, съ удовольствіемъ». — «Нѣту, сударушки, ласье, да полька тромбовка подъ дѣдовскую пѣсню не пляшутся, подъ нашъ старый ладъ нейдутъ».
Запѣла съ напряженьемъ Анфиса Яковлевна, потопывая и похлопывая въ ладони; за нею опять всѣ, настроясь, запѣли:
— Да и заиндевѣло, — покончила кума, разводя руками; «давай-ка сюда колечко-то, Васинька! Ну что, опять курилка подоспѣла», обратилась она къ ребятишкамъ, которые уже толпились около нея съ лучинами! И вотъ усѣлись всѣ въ кружокъ, дѣти наперерывъ хватали зажженую лучинку и совали скорѣе сосѣду, чтобы она у нихъ не погасла; а у кого курилка помираетъ, тотъ идетъ въ кругъ плакать или тужить по немъ, то-есть плясать.
Пѣсня эта начиналась протяжно, на третьемъ же стихѣ учащалась, по скорости, съ которою суетились другъ другу передать курилку. Никто не могъ разобрать, у кого померъ курилка, — только лежалъ онъ у Лизы поперекъ колѣнъ. Дѣвочка широко развела ручонками и не хотѣла дотронуться до погасшей лучинки, — и между ребятами вышелъ споръ, у кого курилка померъ.
— Э, да что тутъ толковать, — говорила Анфиса Яковлевна: — ребятьё, идите сюда, и ты, Полизеночекъ мой, пошелъ сюда, — говорила она, ставя Лизу посередкѣ со своимъ пріемышкомъ, крестницей, блѣдной толстой Марфушей; — а вы, дѣвки, избочитесь, вотъ такъ, — показывала она, ворочаясь передъ ними, фертикомъ; — ну, кивнула она куму: запѣвало, начинай!
Дѣвочки прыгали, вертясь, хлопали другъ передъ другомъ въ ладоши, крестная держала ладъ, подскакивая то къ одной, то къ другой и нахлопывая имъ мѣру надъ ухомъ:
Мальчики также прыгали, съ присвистомъ кружились и скакали въ присядку.
При этомъ поднялось дружное хлопанье и топанье, а между тѣмъ одна пѣсня смѣняла другую. Хозяинъ, послушный родительскому приказанью не мѣнять дѣдовскаго платья на нѣмецкое, стоялъ впереди всѣхъ въ своей красной косовороткѣ и, подбоченясь и поднявъ руку, прищелкивалъ плясунамъ. Ребятишки вкругъ него и колесомъ ходили, и дребедень меледили, и ногами и руками выкручивали. «Ай знатно, лихо, ребята», кричалъ Петровичъ; наконецъ онъ не вытерпѣлъ, свистнулъ и пошелъ трепака, а мальчики, кто съ прищелкой, кто съ посвистомъ, ударились вкругъ него въ присядку. Свѣчи мельтешатъ, пламя такъ и гнется въ сторону; изъ растворенной настежь двери сѣдой паръ широкимъ пластомъ стелется по горницѣ, а плясуны ничего не видятъ и не слышатъ. Поводильщикъ медвѣдя привелъ: тяжело мишка на четверенькахъ чрезъ порогъ переваливается, букой ступаетъ и рычитъ, а коза подъ бѣлой простыней трещеткой трещитъ и льняной бородою поматываетъ.
«Святочники, окрученые», закричали дѣти и попятились назадъ; Лиза спряталась за мать. «А ну-ка, Настасья Петровна, поворачивайся, на дыбки подымайся», говорилъ поводильщикъ, стараясь перемѣнить голосъ, кланяйся хозяевамъ, хозяйскимъ хлѣбу-соли. Медвѣдь съ ревомъ повалился на землю, поводильщикъ дернулъ цѣпью, Мишка поднялся на дыбы. «Ну, а покажи-ка, какъ малые ребята горохъ воруютъ». Мишка тяжело опустился на землю и поползъ на животѣ по-полу. Ребята запрыгали и захохотали: — Ай да, Настасья Петровна! «Ну ка, Настасья Петровна, какъ это, бывало, старыя бабы на барщину хаживали, да покрякивали». Медвѣдь, сгорбясь, покрякивая и прихрамывая, пошелъ тихонько по комнатѣ. Дружный залпъ смѣху еще болѣе ободрилъ поводильщика и медвѣдя. «А покажи-ка, какъ красныя дѣвушки бѣлятся-румянятся, да изъ подручки жениховъ высматриваютъ». Медвѣдь сталъ тереть себѣ скулы и щеки и коситься изподлобья. «Скажите пожалуста, глупости какія, очень намъ нужно», отозвались жеманясь горничныя. Поводильщикъ забылся и заговорилъ своимъ голосомъ: «А какъ пьяные по землѣ валяются». «Митянька, крикнулъ хозяинъ, узнавъ поводильщика по голосу, — ну Митрій и есть». — «Ужъ ты, Митрій, покайся пожалуста, упрашивала хозяйка, — вонъ дѣвчушка буки боится». Поводильщикъ тряхнулъ головой, махнулъ рукой: «Эхъ, вѣдь говорилъ Ѳомкѣ, давай я пойду медвѣдемъ; а ты ступай поводильщикомъ, такъ нѣтъ, вишь, дай самъ, ну вотъ и продалъ городъ».
«Ѳомка — Ѳома, большая кромка!» раздалось со всѣхъ сторонъ. Медвѣдь, осерчавъ, сбросилъ съ себя вывороченный черный тулупъ.
— Ѳалалей ты эдакой, — говорилъ онъ укоризненно поводильщику.
— Да я что, нешто я…
— Пра, Ѳалалей, — повторилъ медвѣдь, скидая тулупъ.
Въ дверяхъ показались еще переряженные: горбунъ въ шапкѣ треухѣ, съ горбомъ спереди и сзади, и турокъ съ балалайкой; на туркѣ было надѣто три женскія платья, одно короче другаго, а голова закручена платкомъ; онъ бренчалъ на балалайкѣ, выплясывая казачка; горбунъ передъ нимъ ковыляетъ, подпираясь и постукивая палкой; коза прыгаетъ и трещитъ; ребята вокругъ переряженныхъ на головѣ и рукахъ колесомъ ходятъ.
На все это долго, старательно смотритъ Лиза, пялитъ сонные глазенки; вотъ мерещится ей, что кроватка придвигается все ближе да ближе, Лиза также невольно тянется къ ней, и бухъ, прямо на подушечку. Тятя, лепечетъ дѣвочка, узнавая надъ собою бороду отца, тятя, договариваетъ она, засыпая… ставни закрылись въ крошечномъ живомъ домикѣ, вѣки на глазахъ Лизы сомкнулись; и двери уже заперты, словно никого дома нѣтъ, уши закрылись, и сознаніе ушло глубоко внутрь; малютка ничего не видитъ и не слышитъ, хотя надъ нею и вьется пыль столбомъ, отъ пляшущихъ; хотя и дрожитъ ея скрыпучая, жиденькая кроватка, отъ топанья и кувырканья ребятишекъ.
МИЛОСТЫНЯ
На дѣтскомъ вечерѣ у Софьи Васильевны, помимо дѣтей, собрались гости; они толкуютъ о трудныхъ временахъ, о неурожаяхъ, о пожарахъ и тому подобномъ. Между дѣтьми замѣтно особое оживленіе: дѣвочки и мальчики о чемъ-то спорятъ, шумятъ, чуть не ссорятся.
Бабушка, охотница до дѣтскихъ забавъ, вышла къ нимъ въ залу; какъ только внучата завидѣли ее, то мигомъ обступили.
— Бабушка, бабушка! — кричали они, — бабушка, мы къ тебѣ на судъ, — говорилъ Сережа.
Старушка взглянула на шумную толпу; за внучатами стояли дѣвочки и мальчики разнаго возраста; тутъ было много Сережиныхъ однолѣтковъ, и даже постарѣе его.
— Я также хочу къ бабушкѣ, — пищала маленькая Мери, продираясь сквозь толпу.
Старушка поймала протянутую вверхъ ручонку ея, и притянула къ себѣ дѣвочку, которая мигомъ взлѣзла къ ней на колѣни, и усѣлась, прижавшись къ старушкѣ. Лицо дѣвочки разгорѣлось, жилки на шеѣ такъ и бились; обнявъ ребенка, бабушка спросила, глядя на неугомонную толпу: — «Ну, что у васъ тутъ случилось необыкновеннаго».
Поднялось было нѣсколько голосовъ, но Мери схватила бабушку за обѣ щеки и, цѣлуя ее, торопливо приговаривала: — «Я тебѣ все разскажу про нихъ, да, все, продолжала она, кивая головой на мальчиковъ, — они всѣ кричатъ на насъ, и насмѣхаются, и Серёжа также», прибавила она въ негодованіи, укоризненно глядя на своего любимца.
— Да постой же, Мери, дай мнѣ разсказать, — просилъ Серёжа.
— Нѣтъ, я сама разскажу, ты гадко говоришь, — кричала она, чуть не плача и отмахиваясь отъ брата.
Серёжа, наклонясь къ ней, тихонечко прогоготалъ гусемъ. Это ненавистное: «га, га, га», было для Мери то же, что стружки на полымя; дѣвочка вспыхнула и замахнулась на брата, — она терпѣть не могла, когда за вспыльчивость её звали гусыней.
Серёжа схватилъ ея ручонки, сложилъ ихъ у нея на груди, и сказалъ вполголоса:
— Бабушка, ты подержи лебяжьи крылышки, а я пока разскажу въ чемъ дѣло.
Собственное сознаніе вины и строгій взглядъ бабушки быстро успокоили вспыльчивую дѣвочку; глубоко вздыхая, отклонилась она назадъ, и прислонясь къ бабушкѣ, стала изъ-подлобья прислушиваться къ словамъ Серёжи.
— Видишь ли что, бабушка, о чемъ наши толки, — началъ Серёжа — вотъ онѣ, — при этомъ мальчикъ кивнулъ головой на дѣвочекъ, — онѣ собираются плясать въ пользу погорѣлыхъ, а я говорю…
— И мы, и мы также говоримъ, — раздались въ толпѣ голоса.
— Мы говоримъ, что глупо подавать подаяніе пляской, что можно и такъ собрать складчину!
— А много ли собрали вы такъ? — живо спросила Аля.
— Много ли собрали! Да развѣ съ вами соберешь, — заговорили опять въ толпѣ. — Напримѣръ, ты Аля, ты дала что-нибудь?
Дѣвочка вспыхнула отъ нескромнаго вопроса, и отворачиваясь коротко отвѣчала:
— Дала! — На минуту всѣ затихли.
Между дѣтьми начались опять неясные толки: — «Она дала, Аля дала».
— Ну что же, ну она одна и дала!
— Да еще много ли дала-то, — послышался чей-то непріятный голосъ.
Это замѣчанье еще глубже задѣло дѣвочку, чѣмъ первый вопросъ; — но она промолчала. Много ли дала! отдавалось у нея въ ушахъ — и, какъ бы въ утѣшенье, мелькнуло въ мысляхъ у нея недавнее воспоминанье, какъ она вбѣжала къ отцу, чтобы передать ему лепту свою, и будто опасаясь, чтобы не возвратили ей части денегъ, вытряхнула все, что было на столъ; и какъ отецъ, молча глядя на дочь, собираетъ гривеннички и пятиалтынные. Волненье Али прошло; глубоко вздохнувъ, подняла она глаза и встрѣтила передъ собою такой же задумчивый, добрый взглядъ, каковъ былъ отцовскій: на нее смотрѣла бабушка, которая молча присматривалась и прислушивалась къ дѣтскимъ горячимъ бесѣдамъ. Тихая улыбка заиграла въ одну минуту на аломъ личикѣ ребенка и на блѣдномъ обликѣ старушки.
Грубыя слова мальчика вызвали общее дѣтское негодованье, сочувствіе же къ Алѣ выразилось объятіями и поцѣлуями маленькой Мери. — «Аля хорошая». сказала малютка, потянувшись къ ней, и обвилась ручонками вокругъ ея шеи.
Наконецъ бабушка спросила: «Что же ты хотѣлъ мнѣ сказать, Серёжа».
Мальчикъ, помня еще рѣзкость своихъ товарищей противъ Али, старался нѣсколько удержаться въ своихъ выраженьяхъ, и началъ такъ: «Мы не соглашаемся съ сестрами, мы говоримъ, что не надо давать баловъ и ужиновъ для того, чтобы собрать деньги для погорѣвшихъ».
— Ахъ Серёжа! — закричали дѣвочки, — да кто же говоритъ о балахъ? мы сговаривались устроить розыгрышъ!
— Какъ, какъ? — зашумѣла и заволновалась толпа, — а Ниночка-то что сказала?
— Что же я сказала? — спросила чванная дѣвочка, жеманясь и подергивая губами.
— Нина Марковна желаютъ при семь случаѣ устроить для себя небольшую потѣшку, — шутливо сказалъ задорный Володя, родственникъ Ниночки. Всѣ расхохотались.
Ниночка сердито посмотрѣла на брата. — «Что же, сказала она, я не одна, и другіе того же желаютъ; Коко говорить, что нуженъ непремѣнно ужинъ; впрочемъ, прибавила она голосомъ взрослой дѣвушки: кажется танцы никому не мѣшаютъ».
— Бабушка, милая, ты послушай, только послушай! — упрашивалъ, сжимая свои руки, Серёжа, которому вообще все неестественное было противно, а ломаная Ниночка особенно не нравилась. — Ну послушай, развѣ это не обезьянство!
— Есть что слушать! — вмѣшался Володя, — чего ждать отъ мыльнаго пузыря, кромѣ мыльной пѣны…
Бабушка не любила пустыхъ перекоровъ, при коихъ и дѣти, и взрослые всегда отклоняются отъ дѣла, и она спросила: — «Да вы, дѣтки, скажите каждый, кто чего хочетъ».
— Ахъ, бабушка, да мы всѣ хотимъ разнаго; напримѣръ мы, мальчики, — при этомъ Серёжа указалъ на нѣкоторыхъ товарищей, — мы хотимъ безъ всякихъ околичностей сложиться и отдать, что можемъ, деньгами; сестры хотятъ сдѣлать лотерею, другія желаютъ устроить балъ и ужинъ въ пользу бѣдныхъ.
— Нѣтъ, не въ пользу бѣдныхъ, а въ свою пользу, — перебило Серёжу нѣсколько голосовъ.
— Постойте, дѣти, дайте кончить, — замѣтила бабушка.
— Да я уже кончилъ, — сказалъ Серёжа.
— Бабушка, позволь теперь, я скажу, — попросила Аля, и не дожидаясь отвѣта, спросила старушку: — развѣ розыгрышъ нашъ помѣшаетъ мальчикамъ собрать деньги и приложить ихъ къ нашей выручкѣ? У насъ у всѣхъ есть свои деньги, но всѣ мы сможемъ потрудиться и сработать что-нибудь для розыгрыша, и это веселѣе!
— Да, а потомъ станете навязывать свои билеты встрѣчному и поперечному, — заговорило нѣсколько голосовъ.
— Ужъ эти лотереи, да балы на-показъ, на похвальбу, — терпѣть ихъ не могу! — замѣтилъ другой.
— Да, дѣти, въ вашихъ словахъ есть правда, — сказала бабушка, поворачиваясь туда, гдѣ говорили; — вы хотите милостыни прямой, безъ натяжки, это очень хорошо, и я думаю, что сговорясь можно устроить по вашему, т. е. такъ, что всѣ будете довольны. Всѣмъ вамъ хочется одного: собрать денегъ на помощь бѣднымъ; мальчики приступаютъ къ этому прямо складчиной, а дѣвочкамъ хотѣлось бы приложить свой трудъ, свою работу. Что же, друзья, примите и эту помощь; вы можете оговорить, чтобы билетовъ не навязывали, чтобы ихъ раздавали только въ своей семьѣ или тѣмъ, кто самъ станетъ просить; вы можете даже условиться, чтобы при лотереѣ не было ни бала, ни ужина.
— Ну это пожалуй, на это можно согласиться! — заговорило большинство.
Какъ только Миша услыхалъ это рѣшенье, такъ заплясалъ отъ радости, и бросился обниматься съ сестрами; ему нравилась мысль о лотереѣ, но онъ очень боялся прозванія дѣвочки, и потому молча присталъ къ мальчикамъ.
— Ниночка! вашъ дивертиссементъ — при этомъ Володя дунулъ и провелъ рукой по воздуху, — улетѣлъ!
— Володя, да отвяжитесь! — сердито сказала Ниночка, выходя изъ толпы и направляясь къ дверямъ гостиной.
Другіе изъ мальчиковъ, что были позадорнѣе, раскланивались съ толстогубымъ, краснощекимъ Коко, поздравляя его съ отмѣною ужина.
— Чтожъ, вамъ же хуже! — отвѣчалъ тотъ, не совсѣмъ понимая чему радуются товарищи его.
— Что-же сработаешь ты для розыгрыша, крошка моя? — спрашивала бабушка у Мери.
Мери поджала локотки, оперлась ими о колѣни и начала такъ: — «Я, бабусенька, шить не очень умѣю, и чулочекъ вязать также не очень умѣю: когда сбавляю, то все у меня спускается петелька, — а я вотъ что сдѣлаю: я свяжу тамбуромъ салфеточку на чайникъ».
— Мери, душечка, не берись за эту работу! — просилъ Серёжа.
— Отчего? — сказала дѣвочка съ удивленьемъ закидывая голову.
— А помнишь, какъ ты путала да распускала, какъ вязала къ маминому рожденью; ты вѣдь почти каждый день плакала надъ работой, — сказалъ Алёша.
Дѣвочка опустила головку, подумала, потомъ какъ бы ободрясь, весело взглянула на брата и сказала: — «Да, это правда, но я все-таки ее кончила! а тогда я еще была маленькая», чинно выпрямляясь прибавила Мери.
— Меринька, — началъ было жалобно уговаривать её Серёжа…
— Вяжи, вяжи крошка моя, — перебила бабушка, съ любовью потрепавъ внучку, — а я все стану думать, да желать, чтобы твоя салфеточка мнѣ досталась.
Послѣ долгихъ поцѣлуевъ благодарности за изъявленное желанье, дѣвочка соскочила съ колѣнъ ея, и хлопая въ ладоши, побѣжала разсказывать сестрамъ, что она свяжетъ салфеточку, которая непремѣнно достанется душкѣ-бабушкѣ!
Оставшись съ Серёжей почти глазъ на глазъ, старушка спросила: «Ну что, дружокъ, помнишь нашъ разговоръ о томъ, какое дѣло лучше, то ли что легче или то, что труднѣе».
Серёжа молча смотрѣлъ на бабушку; бывшій разговоръ ихъ о заслугѣ началъ передъ нимъ выясняться.
— Что легче, — продолжала бабушка, — отдать ли бѣднымъ деньги, или, отдавъ ихъ, потрудиться еще, какъ твоя сестричка?
— Разумѣется ея дѣло потруднѣе, но послушай, бабушка, — сказалъ Серёжа, обнимая одной рукой старушку, — такъ какъ ты разсудила, конечно сборъ и лотерея вмѣстѣ будутъ лучше…
— А зачѣмъ же вы, дѣтки, не разсуждаете, — сказала старушка, собирающимся опять около нея мальчикамъ. — Привыкайте обдумывать и обсуждать каждую вещь, и тогда уже осуждать ее, а то каждый кричитъ свое, не думая выслушать другаго.
— Когда я только услышу про эти благодѣянія на показъ, — сказалъ Володя, тряся курчавой головкой, — то мнѣ дѣлается такъ досадно… — мальчикъ не договорилъ, боясь строгаго замѣчанья бабушки, которая слушала, задумчиво глядя на дѣтей; она высоко чтила проблески внутренняго голоса, которые такъ рѣдко мелькаютъ въ насъ въ видѣ безсознательнаго отвращенья отъ зла, старушка и теперь видѣла ихъ, но осуждала дѣтей за рѣзкость и грубость, потому что слышала не совсѣмъ приличныя слова: жадные, обжоры и тому подобный выраженья.
— Развѣ не досадно слушать, что милостыню хотятъ подавать ногами! — продолжалъ Володя.
Бабушка усмѣхнулась на это выраженье, но прибавила: «Не осуждайте всѣхъ безъ разбору — есть люди очень достойные, которые, желая увеличить помощь, прибѣгаютъ къ разнымъ приманкамъ. Ихъ вы конечно не осудите, сказала старушка, — а осудите ли тѣхъ, которые скрѣпя сердце, изъ одного послушанія, ѣдутъ и пляшутъ поневолѣ».
— Нѣтъ! — закричали дѣти, — тѣмъ должно быть очень скучно!
— Вотъ видите, мы и дошли до того, что нельзя безусловно осуждать того, чего не знаемъ; знаетъ же сердце человѣка одинъ Господь, который говорить, предостерегая насъ: Не осуждайте, да не осуждены будете; но про себя знайте: та милостыня лучше всѣхъ, про которую никто не знаетъ, о которой Господь учить, говоря: чтобы лѣвая рука твоя не знала, что подаетъ правая; на этомъ приказаніи предки наши основали свой обычай подавать тайную или тихую милостыню, и обычай этотъ донынѣ сохранился у насъ въ народѣ: — крестьянинъ подаетъ свою милостыню, высовывая руку въ оконце, такъ чтобы берущій и не видалъ его въ лицо. Но и подавать надо съ разборомъ; теперь совѣтуйтесь объ этомъ со старшими, а когда подростете, то сами въ себѣ станете обдумывать, во-первыхъ свои средства, во-вторыхъ нужду бѣднаго, а затѣмъ уже рѣшите, что можете дать, и въ какомъ видѣ полезнѣе будетъ милостыня ваша.
— Какъ, въ какомъ видѣ? — спросили мальчики въ голосъ.
— Не всегда, друзья мои, удобно подавать деньгами, случается попадать имъ въ ненадежный руки, и тогда большая часть уходитъ не на семью, а въ кабакъ; въ такомъ случаѣ лучше дать хлѣбомъ, одеждой, дровами и тому подобными, необходимыми вещами.
— Бабушка, бабушка! — кричалъ подбѣгая раскраснѣвшійся Миша, — а мою работу ты возьмешь?
— Возьму, если хорошо сработаешь.
— И мою, — кричала Саша, стоявшая за братомъ, — и Лизину возьмешь, бабушка?
— Охъ, постойте, дѣти, вы меня спутали: какъ же я могу взять ваши работы? вѣдь онѣ будутъ разыгрываться, и стало быть достанутся тому, кому посчастливится.
Дѣти опѣшили. — «А вотъ что, бабушка, я надумалъ, — сказалъ Миша — нельзя ли такъ устроить, чтобъ наши работы всѣ тебѣ достались».
Старушка посмотрѣла на Мишу, понимаетъ ли онъ, что говорить, и достала изъ кармана конфетку, потомъ взяла носовые платки у дѣтей и велѣла троимъ, Сашѣ, Мишѣ, и Лизѣ стать рядомъ, повернувшись къ ней спиной, сама же положила конфетку на столь, поближе къ Мишѣ, и накрыла ее платкомъ, а остальные два платка положила рядомъ другъ около дружки; потомъ, подозвавъ дѣтей, велѣла имъ взять любой платокъ, сказавъ, что подъ однимъ изъ нихъ лежитъ конфетка, и что кому она достанется, тотъ можетъ ее съѣсть.
Мальчики обступили дѣтей и съ видимымъ любопытствомъ поджидали конца шутки.
Миша, схвативъ ближайшій къ нему платокъ, тотчасъ же нащупалъ подъ нимъ конфетку, и радостно вскрикнулъ, хотѣлъ уже воспользоваться своимъ выигрышемъ, какъ бабушка остановила его, сказавъ: «Постой, Миша, мнѣ хочется, чтобы конфетка досталась Лизѣ, пусть она возьметъ этотъ платокъ».
— Бабушка, — закричалъ удивленный мальчикъ, — вѣдь ты позволила выбирать! вѣдь ты сказала: кому достанется, того она и будетъ!
— Сказала, — отвѣтила старушка, — и это обыкновенный порядокъ розыгрыша: чье счастье, тотъ и выигрываетъ; но мнѣ хочется, чтобы Лиза выиграла, такъ хочется вамъ, чтобы я выиграла ваши работы!
Старушка хотѣла заставить внука понять сердцемъ правду и неправду, потому-то она и дала ему испытать это на себѣ самомъ.
— Бабушка, да этого нельзя, — говорилъ чуть не со слезами обиженный Миша.
— Ну, если того нельзя, чтобы Лиза по моему желанью выиграла конфетку, такъ стало быть нельзя и мнѣ выиграть вашихъ работъ, потому что вамъ такъ хочется! — Миша стоялъ въ раздумьѣ.
— Да развѣ ты не понимаешь, — сказалъ кто-то изъ мальчиковъ, — что выигрываетъ тотъ кому достанется, а дать выиграть кому самъ захочешь значить сплутовать, обмануть?
— Да это-то я понимаю, — говорилъ Миша, ласкаясь къ старушкѣ, — плутовать я не хочу — а все-таки мнѣ бы очень хотѣлось, чтобы моя работа досталась бабушкѣ!
— И тебѣ хочется, и другимъ того же хочется, — продолжала старушка, — такъ какъ же тутъ быть? Развѣ вотъ что: вмѣсто розыгрыша, мы объявимъ продажу съ молотка; тогда всякъ воленъ выбирать, что ему понравится, другой можетъ перебивать его, набавляя цѣну, и кто больше дастъ, тому вещь и достанется!
Дѣти пришли въ неописанный восторгъ; прыгая, побѣжали они разсказывать всѣмъ объ этой новой выдумкѣ, и въ одну минуту, какъ по телеграфу, узнали во всемъ домѣ, что у дѣтей скоро будетъ распродажа съ молотка.
— Я боюсь, — задумчиво говорила Саша, — достанетъ ли у бабушки денегъ, чтобы скупить всѣ наши работы!
Лиза также призадумалась: — «Вотъ что, Саша, сказала она, — можетъ быть ей твой папа дастъ». Обѣ дѣвочки рѣшили, что Михайло Павловичъ дастъ то, чего не достанетъ у бабушки.
Задумчиво ходятъ по залѣ Серёжа съ Володей, какъ роемъ вьются надъ ними недавно слышанный рѣчи; Серёжа молча перебираетъ ихъ и додумываетъ. Володя также думаетъ, но онъ болѣе думаетъ о старушкѣ, которая такъ умно, спокойно и скоро разрѣшаетъ спорный дѣла. — «Такой бабушки у меня нѣтъ, сказалъ онъ про себя, вздохнувъ, вдругъ остановился передъ Серёжей и проговорилъ: Серёжа, какая у тебя бабушка», — и сталъ искать слова.
— А что? — спросилъ тотъ.
— Да я и самъ не знаю что, — нерѣшительно отвѣчалъ мальчикъ, — странная такая, говорить и ласково и строго, да притомъ такъ зорко глядитъ въ глаза, что поневолѣ забудешь, что думаешь, — и не знаешь, что ей отвѣчать. — Помолчавъ немного, онъ прибавилъ: — А я все-таки скажу, что не согласенъ съ нею! Ниночкины балы, да Кокошкины ужины никуда не годятся! вотъ нашли милостыню! хороши благодѣянія! — говорилъ задорный мальчикъ.
— Развѣ бабушка назвала ужины да балы благодѣяніями? что ты, Володя, опомнись!
— Ну, не назвала, такъ все равно, не распушила ихъ, какъ слѣдуетъ! Ты, брать, думаешь, что Ниночка не станетъ толковать со своей француженкой о томъ, что для чувствительнаго сердца ея непремѣнно должно устроить балъ? и посмотри что устроитъ его!
— Вѣдь твою сестрицу не передѣлаешь, — сказалъ Сережа; — впрочемъ, какъ же она устроитъ, если никто не согласенъ?
— А вотъ посмотри, какъ уладить!
— Ты знаешь ли, Володя, что Ниночка на своемъ вечерѣ довела до слезъ Лину, дочь нашего нѣмецкаго учителя, за то, что та пріѣхала къ ней не въ новомъ платьѣ?
— Экая дрянь! — вскрикнулъ покраснѣвшій Володя, — постой, я дойму ее!
Долго суетились дѣти, долго толковали объ общемъ дѣлѣ, устроивали, рѣшали, опять разстраивали, и наконецъ дружно распростясь, разъѣхались по домамъ. Тамъ всѣ исподволь угомонились, пріютясь въ своихъ кроваткахъ. Сонъ лѣтнимъ маревомъ стоить надъ дѣтьми, и все то, чѣмъ они жили днемъ, то въ одной мутной, несвязной смѣси, то въ отдѣльныхъ, яркихъ картинахъ, — носится надъ спящими въ видѣніяхъ и грезахъ.
Въ просторной, высокой комнатѣ, на небольшой кроваткѣ, подъ бѣлымъ шерстянымъ одѣяломъ съ алыми коймами, лежитъ маленькая Мери, свернувшись бѣлой гусеничкой: крѣпко прикурнула она къ подушечкѣ, засунула подъ нея обѣ ручонки, и вяжетъ во снѣ скорымъ скорешенько свою салфеточку. «Ее ужъ навѣрно купить бабушка», думаетъ малютка.
Сашина дѣтская вся заставлена кроватками, у ней, со смерти Лили, гостятъ сестры, и каждый день дѣти выпрашиваютъ еще ночку или двѣ въ этомъ пріютѣ, — имъ здѣсь такъ хорошо!
Лизина кроватка придвинута близехонько къ Сашѣ; дѣвочки, засыпая, протянули другъ другу ручонки, и крѣпко сцѣпились ими, намѣреваясь проспать такъ всю ночь; но сонъ взялъ свое: руки, ослабѣвъ, расцѣпились и повисли съ кроватокъ, а головки дѣтскія, какъ были сдвинуты на самый край подушекъ, поближе другъ ко дружкѣ, такъ и остались. Нѣсколько поодаль, улыбаясь и закинувъ руки на голову, лежитъ Зина; ей снится нарядный столь, на которомъ стоить много прекрасныхъ вещей, но лучшая изъ всѣхъ работъ поставлена на самомъ видномъ мѣстѣ, — и это ея работа, которою всѣ любуются.
Гости ходить вокругъ стола — вотъ, вотъ сейчасъ спросятъ: чья эта работа? Да нѣтъ, никто не спрашиваетъ, всѣ какъ будто и не видятъ прекрасной работы и проходятъ мимо. Мать Зинина любить хвалиться дѣтьми своими, вотъ она достаетъ Зиночкину работу и показывая ее, говорить: «Это моя Зина сдѣлала». Тогда всѣ начинаютъ дивиться, всѣ хвалятъ, окружаютъ и ласкаютъ дѣвочку. Зина не помнить себя отъ радости, духъ сперся, самолюбіе едва даетъ ей дохнуть. — Няня, обходя дѣтей, заботливо остановилась надъ простонавшей Зиной, крестить, приподымаетъ и переворачиваетъ ее на другой бокъ.
Милой Алѣ также снится розыгрышъ, но самый бѣдный: столь почти пусть, сбору не будетъ! Какъ быть? Тоскливая забота тѣнью легла на молодое личико; брови сдвинулись, тяжело вздыхая, она подумываетъ во снѣ все ту же вечернюю Думу…
Вотъ, что-то радостное мгновенно освѣтило мысль и отразилось на лицѣ Али: «Лина, Лина! быстро вскрикиваетъ она Лина ты такая мастерица, помоги намъ». И вотъ снится ей, что работаетъ она въ перегонку съ Линой, а бабушка съ Лининой мамой кроятъ и пригоняютъ дѣтскія работы, которыя быстро спѣютъ. Тихое душевное удовольствіе сказалось не только въ лицѣ, но и въ мягкомъ, покойномъ положеніи всего тѣла ребенка. — «Спи, дитя мое, подъ кровомъ Всевышняго, говоритъ отецъ, крестя свою сиротку-дочь, спи, дитя, что-то снится тебѣ, радость моя».
Въ кружевахъ и на атласныхъ подушкахъ раскинулась бѣдная Нина: тщеславіе и спѣсь не покидаютъ ее и въ грезахъ.
Ей кажется, что она стоитъ гдѣ-то высоко надъ всѣми дѣтьми, и ужъ такая нарядная, какою никогда еще не бывала! на ней все, отъ сѣточки до башмаковъ, все изъ Парижа, все прислано баловницей ея бабушкой. Всѣ смотрятъ на Ниночку, взрослые дивятся ея наряду, пріемамъ, ловкости, ея парижскому выговору, а она, будто ничего этого не замѣчая, небрежно охорашивается. — Какая милая ваша Ниночка, — говорятъ льстивые гости, — у нея совсѣмъ не дѣтскіе пріемы и обращенье, это привычная къ свѣтскому обществу дѣвица!
«Да, самодовольно отвѣчаетъ мать, это было всегдашнею моею заботой и стараніемъ, это первый долгъ матери». Ниночка спѣсиво поворачивается въ бокъ, она ищетъ глазами дѣтей, видятъ ли они ее, замѣчаютъ ли нарядъ ея. Но дѣти ничего не видятъ, они заняты своими забавами, они весело играютъ, и имъ до Ниночки и нужды нѣтъ. А Ниночка презираетъ дѣтство это, оно кажется бѣдной скороспѣлкѣ пустымъ, ничтожнымъ и глупымъ; ей нужно красоваться и дивить собою людей.
— Глупые! — говорить она свысока дѣтямъ, сбившимся въ кучку; а оттуда снизу, какъ бы въ отвѣтъ ей, летятъ большіе, радужные мыльные пузыри, летятъ прямо на нее; пузыри лопаются, оставляя по себѣ на нарядномъ платьѣ слѣды мыльной пѣны. Это стрѣляютъ въ нее Володя съ товарищами. «Противный Володя», кричитъ Ниночка вслухъ, и просыпается.
На тонкомъ, но довольно грязномъ бѣльѣ, лежитъ щетинистая голова; черты лица грубы; толстыя, красный губы даже и во снѣ шевелятся и причмокиваютъ: Коко видитъ во снѣ свой ужинъ, послѣ розыгрыша; онъ будто прислуживаетъ дѣвочкамъ, выгадывая при этомъ для себя самые лучшіе кусочки; завидя бурачекъ со свѣжей икрой, Коко заваливаетъ ею половину своей тарелки, но, не въ силахъ будучи съ нею справиться, онъ манитъ, мигая и коверкаясь, товарища своего и уходитъ съ нимъ въ уголокъ, уплетаетъ ложку за ложкой, и во снѣ облизывается.
Неподалеку отъ Коко спитъ, храпя, другъ и наперсникъ его, Матюша Мизгиревъ, сынъ управителя. Этотъ несчастный ребенокъ взросъ подъ сѣнью наушничества и колотушекъ; въ немъ все забито, все заглушено, все поросло сорной травой — струны совѣсти и чувства и правды — перержавѣли, и ни на что болѣе не отзываются.
— Ну что же, ну дала, да много ли дала-то! — кричитъ онъ, прячась за товарищей. Ему и во снѣ весело, что удалось бросить камнемъ изъ-за угла.
А родители Коко довольны своимъ добрымъ дѣломъ: они пристроили бѣднаго мальчика, услужили нужному человѣку, а главное, дали сынку своему хорошаго подручника.
О если бы они знали, кого пріютили! если бы знали, что изъ ручной скотинки, подъ вліяніемъ такого товарища, со временемъ выйдетъ лукавый звѣрь!
— Дѣлать, такъ дѣлать на-чисто, — бредить заносчивый, но правдивый Володя, откидывая бѣлокурую, курчавую головку: — либо да, либо нѣтъ, а выгадывать тутъ для себя, это — мальчикъ взмахнулъ рукой, но, ударивъ ею сильно объ стѣну, проснулся, и съ досадой спряталъ ее подъ одѣяло.
Что-то снится Сережѣ, бабушкину любимцу, какой видъ милостыни его тревожитъ? Онъ спитъ спокойно, его ничто болѣе не смущаетъ; сонь, какъ вешній воздухъ, переливается надъ нимъ прозрачными струйками, холя и убаюкивая его. Мысли и чувства слились въ одно, думы улеглись; легко дышитъ ребенокъ, сладко спится будущему человѣку.
☆☆☆
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.