Отцы и дѣти
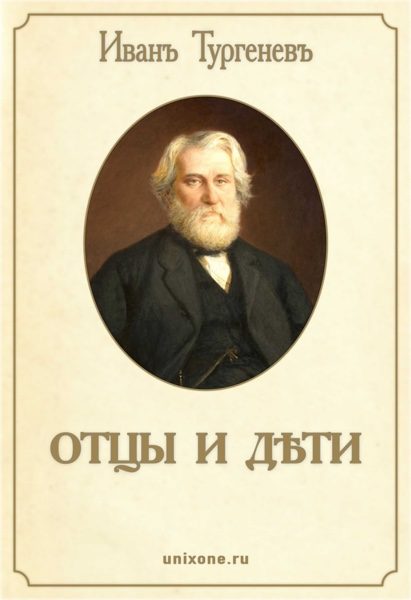
Содержаніе:
I.
— Что́, Петръ? не видать еще? — спрашивалъ 20-го мая 1859 года, выходя безъ шапки на низкое крылечко постоялаго двора на *** шоссе, баринъ лѣтъ сорока съ небольшимъ, въ запыленномъ пальто и клѣтчатыхъ панталонахъ, у своего слуги, молодого и щекастаго малаго съ бѣловатымъ пухомъ на подбородкѣ и маленькими тусклыми глазенками.
Слуга, въ которомъ все: и бирюзовая сережка въ ухѣ, и напомаженные разноцвѣтные волосы, и учтивыя тѣлодвиженія, словомъ, все изобличало человѣка новѣйшаго, усовершенствованнаго поколѣнія, посмотрѣлъ снисходительно вдоль дороги и отвѣтствовалъ: «никакъ нѣтъ-съ, не видать».
— Не видать? — повторилъ баринъ.
— Не видать, — вторично отвѣтствовалъ слуга.
Баринъ вздохнулъ и присѣлъ на скамеечку. Познакомимъ съ нимъ читателя, пока онъ сидитъ, подогнувши подъ себя ножки и задумчиво поглядывая кругомъ.
Зовутъ его Николаемъ Петровичемъ Кирсановымъ. У него въ пятнадцати верстахъ отъ постоялаго дворика хорошее имѣніе въ двѣсти душъ, или, какъ онъ выражается, съ тѣхъ поръ какъ размежевался съ крестьянами и завелъ «ферму», — въ двѣ тысячи десятинъ земли. Отецъ его, боевой генералъ 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой, русскій человѣкъ, всю жизнь свою тянулъ лямку, командовалъ сперва бригадой, потомъ дивизіей, и постоянно жилъ въ провинціи, гдѣ въ силу своего чина игралъ довольно значительную роль. Николай Петровичъ родился на югѣ Россіи, подобно старшему своему брату Павлу, о которомъ рѣчь впереди, и воспитывался до четырнадцатилѣтняго возраста дома, окруженный дешевыми гувернёрами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, изъ фамиліи Колязиныхъ, въ дѣвицахъ Agathe, а въ генеральшахъ Агаѳоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала къ числу «матушекъ-командиршъ», носила пышные чепцы и шумныя шелковыя платья, въ церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала дѣтей утромъ къ ручкѣ, на ночь ихъ благословляла, — словомъ, жила въ свое удовольствіе. Въ качествѣ генеральскаго сына, Николай Петровичъ — хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужилъ прозвище трусишки — долженъ былъ, подобно брату Павлу, поступить въ военную службу; но онъ переломилъ себѣ ногу въ самый тотъ день, когда уже прибыло извѣстіе объ его опредѣленіи и, пролежавъ два мѣсяца въ постели, на всю жизнь остался «хроменькимъ». Отецъ махнулъ на него рукой и пустилъ его по штатской. Онъ повезъ его въ Петербургъ, какъ только ему минулъ восемнадцатый годъ, и помѣтилъ его въ университетъ. Кстати братъ его о-ту-пору вышелъ офицеромъ въ гвардейскій полкъ. Молодые люди стали жить вдвоемъ, на одной квартирѣ, подъ отдаленнымъ надзоромъ двоюроднаго дяди съ материнской стороны, Ильи Колязина, важнаго чиновника. Отецъ ихъ вернулся къ своей дивизіи и къ своей супругѣ, и лишь изрѣдка присылалъ сыновьямъ большія четвертушки сѣрой бумаги, испещренныя размашистымъ писарскимъ почеркомъ. На концѣ этихъ четвертушекъ красовались, старательно окруженныя «выкрутасами» слова: «Піотръ Кирсанофъ, генералъ-маіоръ». Въ 1835 году, Николай Петровичъ вышелъ изъ университета кандидатомъ, и въ томъ же году генералъ Кирсановъ, уволенный въ отставку за неудачный смотръ, пріѣхалъ въ Петербургъ съ женою на житье. Онъ нанялъ было домъ у Таврическаго сада и записался въ англійскій клубъ, по внезапно умеръ отъ удара. Агаѳоклея Кузьминишна скоро за нимъ послѣдовала: она не могла привыкнуть къ глухой столичной жизни; тоска отставнаго существованья ее загрызла. Между тѣмъ, Николай Петровичъ успѣлъ, еще при жизни родителей и къ немалому ихъ огорченію, влюбиться въ дочку чиновника Преполовенскаго, бывшаго хозяина его квартиры, миловидную и, какъ говорится, развитую дѣвицу: она въ журналахъ читала серіозныя статьи въ отдѣлѣ «Наукъ». Онъ женился на ней, какъ только минулъ срокъ траура и, покинувъ министерство удѣловъ, куда по протекціи отецъ его записалъ, блаженствовалъ со своею Машей сперва на дачѣ около Лѣсного института, потомъ въ городѣ, въ маленькой и хорошенькой квартирѣ, съ чистою лѣстницей и холодноватою гостиной, наконецъ — въ деревнѣ, гдѣ онъ поселился окончательно, и гдѣ у него въ скоромъ времени родился сынъ, Аркадій. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не разставались, читали вмѣстѣ, играли въ четыре руки на фортепіано, пѣли дуэты; она сажала цвѣты и наблюдала за птичнымъ дворомъ, онъ изрѣдка ѣздилъ на охоту и занимался хозяйствомъ, а Аркадій росъ да росъ — тоже хорошо и тихо. Десять лѣтъ прошло какъ сонъ. Въ 47-мъ году, жена Кирсанова скончалась. Онъ едва вынесъ этотъ ударъ, посѣдѣлъ въ нѣсколько недѣль; собрался было за границу, чтобы хотя немного разсѣяться… но тутъ насталъ 48-й годъ. Онъ поневолѣ вернулся въ деревню и послѣ довольно продолжительнаго бездѣйствія занялся хозяйственными преобразованіями. Въ 55-мъ году, онъ повезъ сына въ университетъ; прожилъ съ нимъ три зимы въ Петербургѣ, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства съ молодыми товарищами Аркадія. На послѣднюю зиму онъ пріѣхать не могъ, — и вотъ мы видимъ его, въ маѣ мѣсяцѣ 1859 года, уже совсѣмъ сѣдого, пухленькаго и немного сгорбленнаго: онъ ждетъ сына, получившаго какъ нѣкогда онъ самъ, званіе кандидата.
Слуга изъ чувства приличія, а можетъ-быть и не желая остаться подъ барскимъ глазомъ, зашелъ подъ ворота и закурилъ трубку. Николай Петровичъ поникъ головой и началъ глядѣть на ветхія ступеньки крылечка: крупный, пестрый цыпленокъ степенно расхаживалъ но нимъ, крѣпко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнувъ на перила. Солнце пекло: изъ полутемныхъ сѣней постоялаго дворика несло запахомъ теплаго ржаного хлѣба. Замечтался нашъ Николай Петровичъ. «Сынъ… кандидатъ… Аркаша…» безпрестанно вертѣлось у него въ головѣ; онъ пытался думать о чемъ-нибудь другомъ, и опять возвращались тѣ же мысли. Вспомнилась ему покойница жена… «Не дождалась!» шепнулъ онъ уныло… Толстый сизый голубь прилетѣлъ на дорогу и поспѣшно отправился пить въ лужицу возлѣ колодца. Николай Петровичъ сталъ глядѣть на него, а ухо его уже ловило стукъ приближающихся колесъ…
— Никакъ они ѣдутъ-съ, — доложилъ слуга, вынырнувъ изъ-подъ воротъ.
Николай Петровичъ вскочилъ и устремилъ глаза вдоль дороги. Показался тарантасъ, запряженный тройкой ямскихъ лошадей; въ тарантасѣ мелькнулъ околышъ студентской фуражки, знакомый очеркъ дорогого лица…
— Аркаша! Аркаша! — закричалъ Кирсановъ, и побѣжалъ, и замахалъ руками… Нѣсколько мгновеній спустя, его губы уже прильнули къ безбородой, запыленной и загорѣлой щекѣ молодого кандидата.
ІІ.
— Дай же отряхнуться, папаша, — говорилъ нѣсколько сиплымъ отъ дороги, но звонкимъ юношескимъ голосомъ Аркадій, весело отвѣчая на отцовскія ласки, — я тебя всего запачкаю.
— Ничего, ничего, — твердилъ, умиленно улыбаясь, Николай Петровичъ, и раза два ударилъ рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. — Покажи-ка себя, покажи-ка, — прибавилъ онъ, отодвигаясь, и тотчасъ же пошелъ торопливыми шагами къ постоялому двору, приговаривая: «вотъ сюда, сюда, да лошадей поскорѣе» .
Николай Петровичъ казался гораздо встревоженнѣе своего сына; онъ словно потерялся немного, словно робѣлъ. Аркадій остановилъ его.
— Папаша, — сказалъ онъ, — позволь познакомить тебя съ моимъ добрымъ пріятелемъ, Базаровымъ, о которомъ я тебѣ такъ часто писалъ. Онъ такъ любезенъ, что согласился погостить у насъ.
Николай Петровичъ быстро обернулся и, подойдя къ человѣку высокаго роста въ длинномъ балахонѣ съ кистями, только что вылѣзшему изъ тарантаса, крѣпко стиснулъ его обнаженную, красную руку, которую тотъ не съразу ему подалъ.
— Душевно радъ, началъ онъ, — и благодаренъ за доброе намѣреніе посѣтить насъ; надѣюсь… позвольте узнать ваше имя и отчество?
— Евгеній Васильевъ, — отвѣчалъ Базаровъ лѣнивымъ, но мужественнымъ голосомъ, и отвернувъ воротникъ балахона, показалъ Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, съ широкимъ лбомъ, кверху плоскимъ, книзу заостреннымъ носомъ, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочнаго цвѣту, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоувѣренность и умъ.
— Надѣюсь, любезнѣйшій Евгеній Васильичъ, что вы не соскучитесь у насъ, — продолжалъ Николай Петровичъ.
Тонкія губы Базарова чуть тронулись; но онъ ничего не отвѣчалъ и только приподнялъ фуражку. Его темно-бѣлокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупныхъ выпуклостей просторнаго черепа.
— Такъ какъ же, Аркадій, — заговорилъ опять Николай Петровичъ, оборачиваясь къ сыну, — сейчасъ закладывать лошадей что ли? Или вы отдохнуть хотите?
— Дома отдохнемъ, папаша; вели закладывать.
— Сейчасъ, сейчасъ, подхватилъ отецъ. — Эй, Петръ, слышишь? Распорядись, братецъ, поживѣе.
Петръ, который въ качествѣ усовершенствованнаго слуги не подошелъ къ ручкѣ барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся подъ воротами.
— Я здѣсь съ коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка, — хлопотливо говорилъ Николай Петровичъ, между тѣмъ какъ Аркадій пилъ воду изъ желѣзнаго ковшика, принесеннаго хозяйкой постоялаго двора, а Базаровъ закурилъ трубку и подошелъ къ ямщику, отпрягавшему лошадей: — только коляска двухмѣстная, и вотъ я не знаю, какъ твой пріятель…
— Онъ въ тарантасѣ поѣдетъ, — перебилъ вполголоса Аркадій. — Ты съ нимъ, пожалуйста, не церемонься. Онъ чудесный малой, такой простой — ты увидишь.
Кучеръ Николая Петровича вывелъ лошадей.
— Ну, поворачивайся, толстобородый! — обратился Базаровъ къ ямщику.
— Слышь, Митюха, — подхватилъ другой тутъ же стоявшій ямщикъ съ руками, засунутыми въ заднія прорѣхи тулупа, — баринъ-то тебя какъ прозвалъ. Толстобородый и есть.
Митюха только шапкой тряхнулъ и потащилъ вожжи съ потной коренной.
— Живѣй, живѣй, ребята, подсобляйте, — воскликнулъ Николай Петровичъ, на водку будетъ.
Въ нѣсколько минутъ лошади были заложены; отецъ съ сыномъ помѣстились въ коляскѣ; Петръ взобрался на козлы; Базаровъ вскочилъ въ тарантасъ, уткнулся головой въ кожаную подушку, — и оба экипажа покатили.
ІІІ.
— Такъ вотъ какъ, наконецъ ты кандидатъ и домой пріѣхалъ, — говорилъ Николай Петровичъ, потрогивая Аркадія то по плечу, то по колѣну. — Наконецъ!
— А что̀ дядя? здоровъ? — спросилъ Аркадій, которому, несмотря на искреннюю, почти дѣтскую радость, его наполнявшую, хотѣлось поскорѣе перевести разговоръ съ настроенія взволнованнаго на обыденное.
— Здоровъ. Онъ хотѣлъ было выѣхать со мной къ тебѣ на встрѣчу, да почему-то раздумалъ.
— А ты долго меня ждалъ? — спросилъ Аркадій.
— Да часовъ около пяти.
— Добрый папаша!
Аркадій живо повернулся къ отцу и звонко поцѣловалъ его въ щеку. Николай Петровичъ тихонько засмѣялся.
— Какую я тебѣ славную лошадь приготовилъ! — началъ онъ: — ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями.
— А для Базарова комната есть?
— Найдется и для него.
— Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебѣ выразить, до какой степени я дорожу его дружбой.
— Ты недавно съ нимъ познакомился!
— Недавно.
— То-то прошлою зимой я его не видалъ. Онъ чѣмъ занимается?
— Главный предметъ его — естественныя науки. Да онъ все знаетъ. Онъ въ будущемъ году хочетъ держать на доктора.
— А! онъ по медицинскому факультету, — замѣтилъ Николай Петровичъ и помолчалъ. — Петръ, — прибавилъ онъ и протянулъ руку, — это, никакъ, наши мужики ѣдутъ?
Петръ глянулъ въ сторону, куда указывалъ баринъ. Нѣсколько телѣгъ, запряженныхъ разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. Въ каждой телѣгѣ сидѣло по одному, много по два мужика въ тулупахъ на распашку. — Точно такъ-съ, промолвилъ Петръ.
— Куда это они ѣдутъ, въ городъ, что́ ли?
— Полагать надо, что въ городъ. Въ кабакъ, — прибавилъ онъ презрительно и слегка наклонился къ кучеру, какъ бы ссылаясь на него. Но тотъ даже не пошевельнулся: это былъ человѣкъ стараго закала, не раздѣлявшій новѣйшихъ воззрѣній.
— Хлопоты у меня большія съ мужиками въ нынѣшнемъ году, — продолжалъ Николай Петровичъ, обращаясь къ сыну. — Не платятъ оброка. Что̀ ты будешь дѣлать?
— А своими наемными работниками ты доволенъ?
— Да, — процѣдилъ сквозь зубы Николай Петровичъ. — Подбиваютъ ихъ, вотъ что̀ бѣда; ну, и настоящаго старанія все еще нѣту. Сбрую портятъ. Пахали, впрочемъ, ничего. Перемелется — мука будетъ. Да развѣ тебя теперь хозяйство занимаетъ?
— Тѣни нѣтъ у васъ, вотъ что̀ горе, — замѣтилъ Аркадій, не отвѣчая на послѣдній вопросъ.
— Я съ сѣверной стороны надъ балкономъ большую маркизу придѣлалъ, — промолвилъ Николай Петровичъ; — теперь и обѣдать можно на воздухѣ.
— Что-то на дачу больно похоже будетъ… а впрочемъ, это все пустяки. Какой за то здѣсь воздухъ! Какъ славно пахнетъ! Право, мнѣ кажется, нигдѣ въ мірѣ такъ не пахнетъ, какъ въ здѣшнихъ краяхъ! Да и небо здѣсь…
Аркадій вдругъ остановился, бросилъ косвенный взглядъ назадъ и умолкъ.
— Конечно, — замѣтилъ Николай Петровичъ, — ты здѣсь родился, тебѣ все должно казаться здѣсь чѣмъ-то, особеннымъ…
— Ну, папаша, это все равно, гдѣ бы человѣкъ ни родился.
— Однако…
— Нѣтъ, это совершенно все равно.
Николай Петровичъ посмотрѣлъ съ боку на сына, и коляска проѣхала съ полверсты, прежде чѣмъ разговоръ возобновился между ними.
— Не помню, писалъ ли я тебѣ, — началъ Николай Петровичъ, — твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась.
— Неужели? Бѣдная старуха! А Прокофьичъ живъ?
— Живъ и нисколько не измѣнился. Все также брюзжитъ. Вообще ты большихъ перемѣнъ въ Марьинѣ не найдешь.
— Прикащикъ у тебя все тотъ же?
— Вотъ развѣ что прикащика я смѣнилъ. Я рѣшился не держать больше у себя вольноотпущенныхъ, бывшихъ дворовыхъ, или, по крайней мѣрѣ, не поручать имъ никакихъ должностей, гдѣ есть отвѣтственность. (Аркадій указалъ глазами на Петра). Il est libre, en effet, замѣтилъ вполголоса Николай Петровичъ, — но вѣдь онъ — камердинеръ. Теперь у меня прикащикъ изъ мѣщанъ: кажется, дѣльный малой. Я ему назначилъ двѣсти пятьдесятъ рублей въ годъ. Впрочемъ, — прибавилъ Николай Петровичъ, потирая лобъ и брови рукою, что у него всегда служило признакомъ внутренняго смущенія, — я тебѣ сейчасъ сказалъ, что ты не найдешь перемѣнъ въ Марьинѣ… Это не совсѣмъ справедливо. Я считаю своимъ долгомъ предварить тебя, хотя…
Онъ запнулся на мгновенье и продолжалъ уже по французски.
— Строгій моралистъ найдетъ мою откровенность неумѣстною, но, во-первыхъ, это скрыть нельзя, а во-вторыхъ, тебѣ извѣстно, у меня всегда были особенные принципы насчетъ отношеній отца къ сыну. Впрочемъ, ты, конечно, будешь въ правѣ осудить меня. Въ мои лѣта… Словомъ, эта… эта дѣвушка, про которую ты, вѣроятно, уже слышалъ.
— Ѳеничка? — развязно спросилъ Аркадій.
Николай Петровичъ покраснѣлъ. — Не называй ея, пожалуйста, громко… Ну, да… она теперь живетъ у меня. Я ее помѣстилъ въ домѣ… тамъ были двѣ небольшія комнатки. Впрочемъ, это все можно перемѣнить.
— Помилуй, папаша, зачѣмъ?
— Твой пріятель у насъ гостить будетъ… неловко…
— На счетъ Базарова ты, пожалуйста, не безпокойся. Онъ выше всего этого.
— Ну, ты, наконецъ, — проговорилъ Николай Петровичъ. — Флигелекъ-то плохъ — вотъ бѣда.
— Помилуй, папаша, — подхватилъ Аркадій, — ты какъ будто извиняешься; какъ тебѣ не совѣстно.
— Конечно, мнѣ должно быть совѣстно, — отвѣчалъ Николай Петровичъ, все болѣе и болѣе краснѣя.
— Полно, папаша, полно, сдѣлай одолженіе! — Аркадій ласково улыбнулся. «Въ чемъ извиняется!» подумалъ онъ про себя, и чувство снисходительной нѣжности къ доброму и мягкому отцу, смѣшанное съ ощущеніемъ какого-то тайнаго превосходства, наполнило его душу. — Перестань, пожалуйста, — повторилъ онъ еще разъ, невольно наслаждаясь сознаніемъ собственной развитости и свободы.
Николай Петровичъ глянулъ на него изъ подъ-пальцевъ руки, которою онъ продолжалъ тереть себѣ лобъ, и что-то кольнуло его въ сердце… Но онъ тутъ же обвинилъ себя.
— Вотъ это ужъ наши поля пошли, проговорилъ онъ послѣ долгаго молчанія.
— А это впереди, кажется, нашъ лѣсъ? — спросилъ Аркадій.
— Да, нашъ. Только я его продалъ. Въ нынѣшнемъ году его сводить будутъ.
— Зачѣмъ ты его продалъ?
— Деньги были нужны; притомъ же эта земля отходитъ къ мужикамъ.
— Которые тебѣ оброка не платятъ?
— Это ужъ ихъ дѣло, а впрочемъ, будутъ же они когда-нибудь платить.
— Жаль лѣса, — замѣтилъ Аркадій и сталъ глядѣть кругомъ.
Мѣста, по которымъ они проѣзжали, не могли назваться живописными. Поля, все поля, тянулись вплоть до самаго небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-гдѣ виднѣлись небольшіе лѣса, и, усѣянные рѣдкимъ и низкимъ кустарникомъ, вились овраги, напоминая глазу ихъ собственное изображеніе на старинныхъ планахъ Екатерининскаго времени. Попадались и рѣчки съ обрытыми берегами, и крошечные пруды съ худыми плотинами, и деревеньки съ низкими избенками подъ темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившіеся молотильные сарайчики съ плетеными изъ хвороста стѣнами и зѣвающими воротищами возлѣ опустѣлыхъ гуменъ, и церкви, то кирпичныя съ отвалившеюся кое-гдѣ штукатуркой, то деревянныя съ наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадія понемногу сжималось. Какъ нарочно мужички встрѣчались все обтерханные, на плохихъ клячонкахъ; какъ нищіе въ лохмотьяхъ, стояли придорожныя ракиты съ ободранною корой и обломанными вѣтвями; исхудалыя, шершавыя, словно обглоданныя, коровы жадно щипали траву по канавамъ. Казалось, онѣ только что вырвались изъ чьихъ-то грозныхъ, смертоносныхъ когтей — и, вызванный жалкимъ видомъ обезсиленныхъ животныхъ, среди весенняго краснаго дня, вставалъ бѣлый призракъ безотрадной, безконечной зимы съ ея метелями, морозами и снѣгами… «Нѣтъ, подумалъ Аркадій, не богатый край этотъ, не поражаетъ онъ ни довольствомъ, ни трудолюбіемъ; нельзя, нельзя ему такъ остаться, преобразованія необходимы… но какъ ихъ исполнить, какъ приступить?…»
Такъ размышлялъ Аркадій… а пока онъ размышлялъ, весна брала свое. Все кругомъ золотисто зеленѣло, все широко и мягко волновалось и лоснилось подъ тихимъ дыханіемъ теплаго вѣтерка, все — деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми, звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, віясь надъ низменными лугами, то молча перебѣгали по кочкамъ; красиво чернѣя въ нѣжной зелени еще низкихъ яровыхъ хлѣбовъ, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побѣлѣвшей, лишь изрѣдка выказывались ихъ головы въ дымчатыхъ ея волнахъ. Аркадій глядѣлъ, глядѣлъ, и по немногу ослабѣвая, исчезали его размышленія… Онъ сбросилъ съ себя шинель, и такъ весело, такимъ молоденькимъ мальчикомъ посмотрѣлъ на отца, что тотъ опять его обнялъ.
— Теперь ужъ недалеко, — замѣтилъ Николай Петровичъ, — вотъ стоитъ только на эту горку подняться, и домъ будетъ видѣнъ. Мы заживемъ съ тобой на славу, Аркаша; ты мнѣ помогать будешь по хозяйству, если только это тебѣ не наскучитъ. Намъ надобно теперь тѣсно сойтись другъ съ другомъ, узнать другъ друга хорошенько, не правда ли?
— Конечно, — промолвилъ Аркадій: — но что̀ за чудный день сегодня!
— Для твоего пріѣзда, душа моя. Да, весна въ полномъ блескѣ. А впрочемъ, я согласенъ съ Пушкинымъ — помнишь, въ Евгеніѣ Онѣгинѣ:
— Аркадій! — раздался изъ тарантаса голосъ Базарова: — пришли мнѣ спичку, нечѣмъ трубку раскурить.
Николай Петровичъ умолкъ, а Аркадій, который началъ-было слушать его не безъ нѣкотораго изумленія, но и не безъ сочувствія, поспѣшилъ достать изъ кармана серебряную коробочку со спичками и послалъ ее Базарову съ Петромъ.
— Хочешь сигарку? — закричалъ опять Базаровъ.
— Давай, — отвѣчалъ Аркадій.
Петръ вернулся къ коляскѣ и вручилъ ему вмѣстѣ съ коробочкой толстую, черную сигарку, которую Аркадій немедленно закурилъ, распространяя вокругъ себя такой крѣпкій и кислый запахъ заматерѣлаго табаку, что Николай Петровичъ, отроду не курившій, поневолѣ, хотя незамѣтно, чтобы не обидѣть сына, отворачивалъ носъ.
Четверть часа спустя, оба экипажа остановились передъ крыльцомъ новаго деревяннаго дома, выкрашеннаго сѣрою краской и покрытаго желѣзною, красною крышей. Это и было Марьино, Новая-Слободка тожъ, или по крестьянскому наименованью, Бобылій-Хуторъ.
ІѴ.
Толпа дворовыхъ не высыпала на крыльцо встрѣчать господъ; показалась всего одна дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, а вслѣдъ за ней вышелъ изъ дому молодой парень, очень похожій на Петра, одѣтый въ сѣрую ливрейную куртку съ бѣлыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Онъ молча отворилъ дверцу коляски и отстегнулъ фартукъ тарантаса. Николай Петровичъ съ сыномъ и съ Базаровымъ отправились черезъ темную и почти пустую залу, изъ-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, въ гостиную убранную уже въ новѣйшемъ вкусѣ.
— Вотъ мы и дома, — промолвилъ Николай Петровичъ, снимая картузъ и встряхивая волосами. — Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.
— Поѣсть, дѣйствительно, не худо, — замѣтилъ потягиваясь Базаровъ и опустился на диванъ.
— Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорѣе. — Николай Петровичъ безъ всякой видимой причины потопалъ ногами. — Вотъ кстати и Прокофьичъ.
Вошелъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти, бѣловолосый, худой и смуглый, въ коричневомъ фракѣ съ мѣдными пуговицами и въ розовомъ платочкѣ на шеѣ. Онъ осклабился, подошелъ къ ручкѣ къ Аркадію, и, поклонившись гостю, отступилъ къ двери и положилъ руки за спину.
— Вотъ онъ, Прокофьичъ, — началъ Николай Петровичъ, — пріѣхалъ къ намъ наконецъ… Что̀? какъ ты его находишь?
— Въ лучшемъ видѣ-съ, — проговорилъ старикъ и осклабился опять, но тотчасъ же нахмурилъ свои густыя брови. — На столъ накрывать прикажете? — проговорилъ онъ внушительно.
— Да, да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва въ вашу комнату, Евгеній Васильичъ?
— Нѣтъ, благодарствуйте, не зачѣмъ. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить, да вотъ эту одёженку, прибавилъ онъ, снимая съ себя свой балахонъ.
— Очень хорошо. Прокофьичъ, возьми же ихъ шинель. (Прокофьичъ, какъ бы съ недоумѣніемъ взялъ обѣими руками Базаровскую «одёженку» и, высоко поднявъ ее надъ головою, удалился на цыпочкахъ). А ты, Аркадій, пойдешь къ себѣ на минутку?
— Да, надо почиститься, — отвѣчалъ Аркадій и направился-было къ дверямъ, но въ это мгновеніе вошелъ въ гостиную человѣкъ средняго роста, одѣтый въ темный англійскій сьютъ, модный низенькій галстухъ и лайковые полусапожки, Павелъ Петровичъ Кирсановъ. На видъ ему было лѣтъ сорокъ пять: его коротко остриженные, сѣдые волосы отливали темнымъ блескомъ, какъ новое серебро; лицо его, желчное, но безъ морщинъ, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонкимъ и легкимъ рѣзцомъ, являло слѣды красоты замѣчательной: особенно хороши были свѣтлые, черные, продолговатые глаза. Весь обликъ Аркадіева дяди, изящный и породистый, сохранилъ юношескую стройность и то стремленіе вверхъ, прочь отъ земли, которое большею частью исчезаетъ послѣ двадцатыхъ годовъ.
Павелъ Петровичъ вынулъ изъ кармана панталонъ свою красивую руку съ длинными розовыми ногтями, руку, казавшуюся еще красивѣй отъ снѣжной бѣлизны рукавчика, застегнутаго одинокимъ, крупнымъ опаломъ, и подалъ ее племяннику. Совершивъ предварительно европейское «shake hands», онъ три раза, по-русски, поцѣловался съ нимъ, то-есть, три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щекъ, и проговорилъ: «Добро пожаловать».
Николай Петровичъ представилъ его Базарову: Павелъ Петровичъ слегка наклонилъ свой гибкій станъ и слегка улыбнулся, но руки не подалъ и даже положилъ ее обратно въ карманъ.
— Я уже думалъ, что вы не пріѣдете сегодня, — заговорилъ онъ пріятнымъ голосомъ, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные бѣлые зубы. — Развѣ что̀ на дорогѣ случилось?
— Ничего не случилось, — отвѣчалъ Аркадій, — такъ, замѣшкались немного. За то мы теперь голодны, какъ волки. Поторопи Прокофьича, папаша, а я сейчасъ вернусь.
— Постой, я съ тобой пойду, — воскликнулъ Базаровъ, внезапно порываясь съ дивана. Оба молодые человѣка вышли.
— Кто сей? — спросилъ Павелъ Петровичъ.
— Пріятель Аркаши, очень, по его словамъ, умный человѣкъ.
— Онъ у насъ гостить будетъ?
— Да.
— Этотъ волосатый?
— Ну, да.
Павелъ Петровичъ постучалъ ногтями по столу: — Я нахожу, что Аркадій s’est dégourdi, замѣтилъ онъ. — Я радъ его возвращенію.
За ужиномъ разговаривали мало. Особенно Базаровъ почти ничего не говорилъ, но ѣлъ много. Николаи Петровичъ разсказывалъ разные случаи изъ своей, какъ онъ выражался, фермерской жизни, толковалъ о предстоящихъ правительственныхъ мѣрахъ, о комитетахъ, о депутатахъ, о необходимости заводить машины и т. д. Павелъ Петровичъ медленно похаживалъ взадъ и впередъ по столовой (онъ никогда не ужиналъ), изрѣдка отхлебывая изъ рюмки, наполненной краснымъ виномъ, и еще рѣже произнося какое нибудь замѣчаніе или скорѣе восклицаніе, въ родѣ «а! эге! гм!». Аркадій сообщилъ нѣсколько петербургскихъ новостей, но онъ ощущалъ небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладѣваетъ молодымъ человѣкомъ, когда онъ только-что пересталъ быть ребенкомъ и возвратился въ мѣсто, гдѣ привыкли видѣть и считать его ребенкомъ. Онъ безъ нужды растягивалъ свою рѣчь, избѣгалъ слова «папаша» и даже разъ замѣнилъ его словомъ «отецъ», произнесеннымъ, правда, сквозь зубы; съ излишнею развязностью налилъ себѣ въ стаканъ гораздо больше вина, чѣмъ самому хотѣлось, и выпилъ все вино. Прокофьичъ не спускалъ съ него глазъ и только губами пожевывалъ. Послѣ ужина всѣ тотчасъ разошлись.
— А чудаковатъ у тебя дядя, — говорилъ Аркадію Базаровъ, сидя въ халатѣ возлѣ его постели и насасывая короткую трубочку. — Щегольство какое въ деревнѣ, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!
— Да вѣдь ты не знаешь, — отвѣтилъ Аркадій, — вѣдь онъ львомъ былъ въ свое время. Я когда-нибудь разскажу тебѣ его исторію. Вѣдь онъ красавцемъ былъ, голову кружилъ женщинамъ.
— Да, вотъ что́! По старой, значитъ, памяти. Плѣнять-то здѣсь, жаль, некого. Я все смотрѣлъ: этакіе у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородокъ такъ аккуратно выбритъ. Аркадій Николаичъ, вѣдь это смѣшно?
— Пожалуй; только онъ, право, хорошій человѣкъ.
— Архаическое явленіе! А отецъ у тебя славный малый. Стихи онъ напрасно читаетъ, и въ хозяйствѣ врядъ-ли смыслитъ, но онъ добрякъ.
— Отецъ у меня золотой человѣкъ.
— Замѣтилъ ли ты, что онъ робѣетъ?
Аркадій качнулъ головою, какъ будто онъ самъ не робѣлъ.
— Удивительное дѣло, — продолжалъ Базаровъ, — эти старенькіе романтики! Разовьютъ въ себѣ нервную систему до раздраженія… ну, равновѣсіе и нарушено. Однако, прощай! Въ моей комнатѣ англійскій рукомойникъ, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо — англійскіе рукомойники, то-есть, прогрессъ!
Базаровъ ушелъ, а Аркадіемъ овладѣло радостное чувство. Сладко засыпать въ родимомъ домѣ, на знакомой постелѣ, подъ одѣяломъ, надъ которымъ трудились любимыя руки, быть можетъ, руки нянюшки, тѣ ласковыя, добрыя и неутомимыя руки. Аркадій вспомнилъ Егоровну, и вздохнулъ, и пожелалъ ей царствія небеснаго… О себѣ онъ не молился.
И онъ, и Базаровъ заснули скоро, но другія лица въ домѣ долго еще не спали. Возвращеніе сына взволновало Николая Петровича. Онъ легъ въ постель, но не загасилъ свѣчки и, подперши рукою голову, думалъ долгія думы. Братъ его сидѣлъ далеко за полночь въ своемъ кабинетѣ, на широкомъ гамбсовомъ креслѣ, передъ каминомъ, въ которомъ слабо тлѣлъ каменный уголь. Павелъ Петровичъ не раздѣлся, только китайскія красныя туфли безъ задковъ смѣнили на его ногахъ лаковые полусапожки. Онъ держалъ въ рукахъ послѣдній нумеръ Galignani, но онъ не читалъ; онъ глядѣлъ пристально въ каминъ, гдѣ, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя… Богъ знаетъ, гдѣ бродили его мысли, но не въ одномъ только прошедшемъ бродили онѣ: выраженіе его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бываетъ, когда человѣкъ занятъ одними воспоминаніями. А въ маленькой задней комнаткѣ, на большомъ сундукѣ, сидѣла, въ голубой душегрѣйкѣ и съ наброшеннымъ бѣлымъ платкомъ на темныхъ волосахъ, молодая женщина, Ѳеничка, и, то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, изъ-за которой виднѣлась дѣтская кроватка и слышалось ровное дыханіе спящаго ребенка.
Ѵ.
На другое утро, Базаровъ раньше всѣхъ проснулся и вышелъ изъ дома. «Эге!» подумалъ онъ, посмотрѣвъ кругомъ, «мѣстечко-то не казисто». Когда Николай Петровичъ размежевался съ своими крестьянами, ему пришлось отвести подъ новую усадьбу десятины четыре совершенно ровнаго и голаго поля. Онъ построилъ домъ, службы и ферму, разбилъ садъ, выкопалъ прудъ и два колодца; но молодыя деревца плохо принимались, въ прудѣ воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатаго вкуса. Одна только бесѣдка изъ сиреней и акацій порядочно разрослась; въ ней иногда пили чай и обѣдали. Базаровъ въ нѣсколько минутъ обѣгалъ всѣ дорожки сада, зашелъ на скотный дворъ, на конюшню, отыскалъ двухъ дворовыхъ мальчишекъ, съ которыми тотчасъ свелъ знакомство и отправился съ ними въ небольшое болотце, съ версту отъ усадьбы, за лягушками.
— На что̀ тебѣ лягушки, баринъ? — спросилъ его одинъ изъ мальчиковъ.
— А вотъ на что̀, — отвѣчалъ ему Базаровъ, который владѣлъ особеннымъ умѣньемъ возбуждать къ себѣ довѣріе въ людяхъ низшихъ, хотя онъ никогда не потакалъ имъ и обходился съ ними небрежно: — я лягушку распластаю, да посмотрю, что у нея тамъ внутри дѣлается; а такъ какъ мы съ тобой тѣ же лягушки, только-что на ногахъ ходимъ, я и буду знать что и у насъ внутри дѣлается.
— Да на что̀ тебѣ это?
— А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь, и мнѣ тебя лечить придется.
— Развѣ ты дохтуръ?
— Да.
— Васька, слышь, баринъ говоритъ, что мы съ тобой тѣ же лягушки. Чудно̀.
— Я ихъ боюсь, лягушекъ-то, — замѣтилъ Васька, мальчикъ лѣтъ семи, съ бѣлою какъ ленъ головою, въ сѣромъ казакинѣ съ стоячимъ воротникомъ, и босой.
— Чего бояться? развѣ онѣ кусаются?
— Ну, полѣзайте въ воду, философы, — промолвилъ Базаровъ.
Между тѣмъ, Николай Петровичъ, тоже проснулся и отправился къ Аркадію, котораго засталъ одѣтымъ. Отецъ и сынъ вышли на террасу подъ навѣсъ маркизы; возлѣ перилъ на столѣ, между большими букетами сирени, уже кипѣлъ самоваръ. Явилась дѣвочка, та самая, которая наканунѣ первая встрѣтила пріѣзжихъ на крыльцѣ, и тонкимъ голосомъ проговорила:
— Ѳедосья Николавна не совсѣмъ здоровы, придти не могутъ; приказали васъ спросить, вамъ самимъ угодно разлить чай, или прислать Дуняшу?
— Я самъ разолью, самъ, — поспѣшно подхватилъ Николай Петровичъ. — Ты, Аркадій, съ чѣмъ пьешь чай, со сливками или съ лимономъ?
— Со сливками, — отвѣчалъ Аркадій, и помолчавъ немного, вопросительно произнесъ: — папаша?
Николай Петровичъ съ замѣшательствомъ посмотрѣлъ на сына. — Что̀? промолвилъ онъ.
Аркадій опустилъ глаза.
— Извини, папаша, если мой вопросъ тебѣ покажется неумѣстнымъ, — началъ онъ, — но ты самъ, вчерашнею своею откровенностью, меня вызываешь на откровенность… ты не разсердишься?…
— Говори.
— Ты мнѣ даешь смѣлость спросить тебя… Не отъ того ли Ѳен… не оттого ли она не приходитъ сюда чай разливать, что я здѣсь?
Николай Петровичъ слегка отвернулся.
— Можетъ быть, — проговорилъ онъ наконецъ, — она предполагаетъ… она стыдится…
Аркадіи быстро вскинулъ глазами на отца.
— Напрасно жъ она стыдится. Во-первыхъ, тебѣ извѣстенъ мой образъ мыслей (Аркадію очень было пріятно произнести эти слова), а во-вторыхъ — захочу ли я хоть на волосъ стѣснять твою жизнь, твои привычки? Притомъ, я увѣренъ, ты не могъ сдѣлать дурной выборъ; если ты позволилъ ей жить съ тобой подъ одною кровлей, стало быть она это заслуживаетъ: во всякомъ случаѣ, сынъ отцу не судья, и въ особенности я, и въ особенности такому отцу, который, какъ ты, никогда и ни въ чемъ не стѣснялъ моей свободы.
Голосъ Аркадія дрожалъ сначала: онъ чувствовалъ себя великодушнымъ, однако въ то же время понималъ, что читаетъ нѣчто въ родѣ наставленія своему отцу; но звукъ собственныхъ рѣчей сильно дѣйствуетъ на человѣка, и Аркадій произнесъ послѣднія слова твердо, даже съ эффектомъ.
— Спасибо, Аркаша, — глухо заговорилъ Николай Петровичъ, и пальцы его опять заходили по бровямъ и по лбу. — Твои предположенія дѣйствительно справедливы. Конечно, еслибъ эта дѣвушка не стоила… Это не легкомысленная прихоть. Мнѣ нелегко говорить съ тобой объ этомъ; но ты понимаешь, что ей трудно было придти сюда, при тебѣ, особенно въ первый день твоего пріѣзда.
— Въ такомъ случаѣ я самъ пойду къ ней, — воскликнулъ Аркадій съ новымъ приливомъ великодушныхъ чувствъ, и вскочилъ со стула. — Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.
Николай Петровичъ тоже всталъ.
— Аркадій, — началъ онъ, — сдѣлай одолженіе… какъ же можно… тамъ… Я тебя не предварилъ…
Но Аркадій уже не слушалъ его и убѣжалъ съ террасы. Николай Петровичъ посмотрѣлъ ему въ слѣдъ и въ смущеньѣ опустился на стулъ. Сердце его забилось… Представилась ли ему въ это мгновеніе неизбѣжная странность будущихъ отношеній между имъ и сыномъ, сознавалъ ли онъ, что едва ли не большее бы уваженіе оказалъ ему Аркадій, еслибъ онъ вовсе не касался этого дѣла, упрекалъ ли онъ самого себя въ слабости — сказать трудно; всѣ эти чувства были въ немъ, но въ видѣ ощущеній — и то неясныхъ; а съ лица не сходила краска, и сердце билось.
Послышались торопливые шаги, и Аркадій вошелъ на террасу.
— Мы познакомились, отецъ! — воскликнулъ онъ съ выраженіемъ какого-то ласковаго и добраго торжества на лицѣ. — Ѳедосья Николаевна, точно, сегодня не совсѣмъ здорова и придетъ попозже. Но какъ же ты не сказалъ мнѣ, что у меня есть братъ? Я бы уже вчера вечеромъ его разцѣловалъ, какъ я сейчасъ разцѣловалъ его.
Николай Петровичъ хотѣлъ что-то вымолвить, хотѣлъ подняться и раскрыть объятія… Аркадій бросился ему на шею.
— Что̀ это? опять обнимаетесь? — раздался сзади ихъ голосъ Павла Петровича.
Отецъ и сынъ одинаково обрадовались появленію его въ эту минуту; бываютъ положенія трогательныя, изъ которыхъ все-таки хочется поскорѣе выйдти.
— Чему жъ ты удивляешься? — весело заговорилъ Николай Петровичъ. — Въ кои-то вѣки дождался я Аркаши… Я со вчерашняго дня и насмотрѣться на него не успѣлъ.
— Я вовсе не удивляюсь, — замѣтилъ Павелъ Петровичъ: — я даже самъ не прочь съ нимъ обняться.
Аркадіи подошелъ къ дядѣ и снова почувствовалъ на щекахъ своихъ прикосновеніе его душистыхъ усовъ. Павелъ Петровичъ присѣлъ къ столу. На немъ былъ изящный утренній, въ англійскомъ вкусѣ, костюмѣ; на головѣ красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучекъ намекали на свободу деревенской жизни; но тугіе воротнички рубашки, правда, не бѣлой, а пестренькой, какъ оно и слѣдуетъ для утренняго туалета, съ обычною неумолимостью упирались въ выбритый подбородокъ.
— Гдѣ же новый твой пріятель? — спросилъ онъ Аркадія.
— Его дома нѣтъ; онъ обыкновенно встаетъ рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него вниманія: онъ церемоніи не любитъ.
— Да, это замѣтно. — Павелъ Петровичъ началъ, не торопясь, намазывать масло на хлѣбъ. — Долго онъ у насъ прогоститъ?
— Какъ придется. Онъ заѣхалъ сюда по дорогѣ къ отцу.
— А отецъ его гдѣ живетъ?
— Въ нашей же губерніи, верстъ восемьдесятъ отсюда. У него тамъ небольшое имѣньице. Онъ былъ прежде полковымъ докторомъ.
— Тэ, тэ, тэ, тэ… То-то я все себя спрашивалъ: гдѣ слышалъ я эту фамилію: Базаровъ?… Николай, помнится, въ батюшкиной дивизіи былъ лѣкарь Базаровъ?
— Кажется, былъ.
— Точно, точно. Такъ этотъ лѣкарь его отецъ. Гм! — Павелъ Петровичъ повелъ усами, — Ну, а самъ господинъ Базаровъ собственно что̀ такое? — спросилъ онъ съ разстановкой.
— Что̀ такое Базаровъ? — Аркадій усмѣхнулся. — Хотите, дядюшка, я вамъ скажу, что̀ онъ собственно такое?
— Сдѣлай одолженіе, племянничекъ.
— Онъ нигилистъ.
— Какъ? — спросилъ Николай Петровичъ, а Павелъ Петровичъ поднялъ на воздухѣ ножъ съ кускомъ масла на концѣ лезвія, и остался неподвиженъ.
— Онъ нигилистъ, — повторилъ Аркадій.
— Нигилистъ, — проговорилъ Николай Петровичъ. — Это отъ латинскаго nihil, ничего, сколько я могу судить; стало быть это слово означаетъ человѣка, который… который ничего не признаетъ?
— Скажи: который ничего не уважаетъ, — подхватилъ Павелъ Петровичъ, и снова принялся за масло.
— Который ко всему относится съ критической точки зрѣнія, замѣтилъ Аркадій.
— А это не все равно? — спросилъ Павелъ Петровичъ.
— Нѣтъ, не все равно. Нигилистъ, это человѣкъ, который не склоняется ни передъ какими авторитетами, который не принимаетъ ни одного принципа на вѣру, какимъ бы уваженіемъ ни былъ окруженъ этотъ принципъ.
— И что̀ жъ, это хорошо? — перебилъ Павелъ Петровичъ.
— Смотря какъ кому, дядюшка. Иному отъ этого хорошо, а иному очень дурно.
— Вотъ какъ. Ну, это, я вижу, не но нашей части. Мы, люди стараго вѣка, мы полагаемъ, что безъ принсиповъ (Павелъ Петровичъ выговаривалъ это слово мягко, на французскій манеръ, Аркадій, напротивъ, произносилъ «пры́нципъ», налегая на первый слогъ), безъ принсиповъ принятыхъ, какъ ты говоришь, на вѣру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez changé tout cela, дай вамъ Богъ здоровья и генеральскій чинъ, а мы только любоваться будемъ, господа… какъ бишь?
— Нигилисты, — отчетливо проговорилъ Аркадій.
— Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотримъ, какъ вы будете существовать въ пустотѣ, въ безвоздушномъ пространствѣ; а теперь позвони-ка, пожалуйста, брать, Николай Петровичъ, мнѣ пора пить мой какао.
Николай Петровичъ позвонилъ и закричалъ: «Дуняша!» Но вмѣсто Дуняши на террасу вышла сама Ѳеничка. Это была молодая женщина лѣтъ двадцати-трехъ, вся бѣленькая и мягкая, съ темными волосами и глазами, съ красными, дѣтски-пухлявыми губками и нѣжными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ея круглыхъ плечахъ. Она несла большую чашку какао и, поставивъ ее передъ Павломъ Петровичемъ, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной подъ тонкою кожицей ея миловиднаго лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцевъ. Казалось, ей и совѣстно было, что она пришла, и въ то же время она какъ будто чувствовала, что имѣла право придти.
Павелъ Петровичъ строго нахмурилъ брови, а Николай Петровичъ смутился.
— Здравствуй, Ѳеничка, — проговорилъ онъ сквозь зубы.
— Здравствуйте-съ, — отвѣтила она не громкимъ, но звучнымъ голосомъ и, глянувъ искоса на Аркадія, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко въ развалку, но и это къ ней пристало.
На террасѣ въ теченіи нѣсколькихъ мгновеній господствовало молчаніе. Павелъ Петровичъ похлебывалъ свой какао, и вдругъ поднялъ голову.
— Вотъ и господинъ нигилистъ къ намъ жалуетъ, промолвилъ онъ вполголоса.
Дѣйствительно, по саду, шагая черезъ клумбы, шелъ Базаровъ. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы въ грязи; цѣпкое болотное растеніе обвивало тулью его старой, круглой шляпы: въ правой рукѣ онъ держалъ небольшой мѣшокъ; въ мѣшкѣ шевелилось что-то живое. Онъ быстро приблизился къ террасѣ и, качнувъ головою, промолвилъ:
— Здравствуйте, господа; извините, что опоздалъ къ чаю; сейчасъ вернусь; надо вотъ этихъ плѣнницъ къ мѣсту пристроить.
— Что это у васъ, піявки? — спросилъ Павелъ Петровичъ.
— Нѣтъ, лягушки.
— Вы ихъ ѣдите — или разводите?
— Для опытовъ, — равнодушно проговорилъ Базаровъ и ушелъ въ домъ.
— Это онъ ихъ рѣзать станетъ, — замѣтилъ Павелъ Петровичъ. — Въ принсипы не вѣритъ, а въ лягушекъ вѣритъ.
Аркадій съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ на дядю, и Николай Петровичъ украдкой пожалъ плечомъ. Самъ Павелъ Петровичъ почувствовалъ, что сострилъ неудачно, и заговорилъ о хозяйствѣ и о новомъ управляющемъ, который наканунѣ приходилъ къ нему жаловаться, что работникъ Ѳома «дибоширничаетъ» и отъ рукъ отбился. «Такой ужъ онъ Езопъ», сказалъ онъ между прочимъ: «всюду протестовалъ себя дурнымъ человѣкомъ; поживетъ, и съ глупостью отойдетъ».
ѴІ.
Базаровъ вернулся, сѣлъ за столъ и началъ поспѣшно пить чай. Оба брата молча глядѣли на него, а Аркадій украдкой посматривалъ то на отца, то на дядю.
— Вы далеко отсюда ходили? — спросилъ наконецъ Николай Петровичъ.
— Тутъ у васъ болотце есть, возлѣ осиновой рощи. Я взогналъ штукъ пять бекасовъ; ты можешь убить ихъ, Аркадій.
— А вы не охотникъ?
— Нѣтъ.
— Вы собственно физикой занимаетесь? — спросилъ въ свою очередь Павелъ Петровичъ.
— Физикой, да; вообще естественными науками.
— Говорятъ, германцы, въ послѣднее время, сильно успѣли по этой части.
— Да, нѣмцы въ этомъ наши учители, небрежно отвѣчалъ Базаровъ.
Слово: германцы, вмѣсто нѣмцы, Павелъ Петровичъ употребилъ ради ироніи, которой однако никто не замѣтилъ.
— Вы столь высокаго мнѣнія о нѣмцахъ? — проговорилъ съ изысканною учтивостью Павелъ Петровичъ. Онъ начиналъ чувствовать тайное раздраженіе. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этотъ лѣкарскій сынъ не только не робѣлъ, онъ даже отвѣчалъ отрывисто и неохотно, и въ звукѣ его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.
— Тамошніе ученые дѣльный народъ.
— Такъ, такъ. Ну, а объ русскихъ ученыхъ вы, вѣроятно, не имѣете столь лестнаго понятія?
— Пожалуй, что такъ.
— Это очень похвальное самоотверженіе, — произнесъ Павелъ Петровичъ, выпрямляя станъ и закидывая голову назадъ. — Но какъ же намъ Аркадій Николаичъ сейчасъ сказывалъ, что вы не признаёте никакихъ авторитетовъ? Не вѣрите имъ?
— Да зачѣмъ я стану ихъ признавать? И чему я буду вѣрить? Мнѣ скажутъ дѣло, я соглашаюсь, вотъ и все.
— А нѣмцы всѣ дѣло говорятъ? — промолвилъ Павелъ Петровичъ, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выраженіе, словно онъ весь ушелъ въ какую-то заоблачную высь.
— Не всѣ, — отвѣтилъ съ короткимъ зѣвкомъ Базаровъ, которому явно не хотѣлось продолжать словопреніе.
Павелъ Петровичъ взглянулъ на Аркадія, какъ бы желая сказать ему: «учтивъ твой другъ, признаться».
— Что касается до меня, — заговорилъ онъ опять, не безъ нѣкотораго усилія, — я, нѣмцевъ, грѣшный человѣкъ, не жалую. О русскихъ нѣмцахъ я уже не упоминаю: извѣстно, что́ это за птицы. Но и нѣмецкіе нѣмцы мнѣ не по-нутру. Еще прежніе туда-сюда; тогда у нихъ были — ну, тамъ Шиллеръ, что́ ли, Гётте… Братъ, — вотъ имъ особенно благопріятствуетъ… А теперь пошли все какіе-то химики да матеріалисты…
— Порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта, — перебилъ Базаровъ.
— Вотъ какъ, — промолвилъ Павелъ Петровичъ, и, словно засыпая, чуть чуть приподнялъ брови. — Вы, стало-быть, искусства не признаете?
— Искусство наживать деньги, или нѣтъ болѣе геморроя! — воскликнулъ Базаровъ съ презрительною усмѣшкой.
— Такъ-съ, такъ-съ. Вотъ какъ вы изволите шутить. Это вы все стало быть отвергаете? Положимъ. Значитъ, вы вѣрите въ одну науку?
— Я уже доложилъ вамъ, что ни во что́ не вѣрю; и что такое наука — наука вообще? Есть науки, какъ есть ремесла, званія; а наука вообще не существуетъ вовсе.
— Очень хорошо-съ. Ну, а на счетъ другихъ, въ людскомъ быту принятыхъ постановленій, вы придерживаетесь такого же отрицательнаго направленія?
— Что́ это, допросъ? — спросилъ Базаровъ.
Павелъ Петровичъ слегка поблѣднѣлъ… Николай Петровичъ почелъ должнымъ вмѣшаться въ разговоръ.
— Мы когда-нибудь поподробнѣе побесѣдуемъ объ этомъ предметѣ съ вами, любезный Евгеній Васильичъ; и ваше мнѣніе узнаемъ, и свое выскажемъ. Съ своей стороны я очень радъ, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышалъ, что Либихъ сдѣлалъ удивительныя открытія на счетъ удобренія полей. Вы можете мнѣ помочь въ моихъ агрономическихъ работахъ: вы можете дать мнѣ какой-нибудь полезный совѣтъ.
— Я къ вашимъ услугамъ, Николай Петровичъ; но куда намъ до Либиха! Сперва надо азбукѣ выучиться и потомъ уже взяться за книгу, а мы еще аза въ глаза не видали.
«Ну, ты, я вижу, точно нигилистъ», подумалъ Николай Петровичъ.
— Все-таки позвольте прибѣгнуть къ вамъ при случаѣ, — прибавилъ онъ вслухъ. — А теперь намъ, я полагаю, братъ, пора пойти потолковать съ прикащикомъ.
Павелъ Петровичъ поднялся со стула.
— Да, — проговорилъ онъ, ни на кого не глядя, — бѣда пожить этакъ годковъ пять въ деревнѣ, въ отдаленіи отъ великихъ умовъ! Какъ разъ дуракъ дуракомъ станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а тамъ — хвать! — оказывается, что все это вздоръ, и тебѣ говорятъ, что путные люди этакими пустяками больше не занимаются, и что ты, молъ, отсталый колпакъ. Что̀ дѣлать! Видно, молодежь, точно, умнѣе насъ.
Павелъ Петровичъ медленно повернулся на каблукахъ и медленно вышелъ; Николай Петровичъ отправился вслѣдъ за нимъ.
— Что̀, онъ всегда у васъ такой? — хладнокровно спросилъ Базаровъ у Аркадія, какъ только дверь затворилась за обоими братьями.
— Послушай, Евгеній, ты уже слишкомъ рѣзко съ нимъ обошелся, — замѣтилъ Аркадій. — Ты его оскорбилъ.
— Да, стану я ихъ баловать, этихъ уѣздныхъ аристократовъ! Вѣдь это все самолюбіе, львиныя привычки, фатство. Ну, продолжалъ бы свое поприще въ Петербургѣ, коли ужъ такой у него складъ… А, впрочемъ, Богъ съ нимъ совсѣмъ! Я нашелъ довольно рѣдкій экземпляръ водяного жука, Dytiscus marginatus, знаешь? Я тебѣ его покажу.
— Я тебѣ обѣщался разсказать его исторію, — началъ Аркадій.
— Исторію жука?
— Ну, полно, Евгеній. Исторію моего дяди. Ты увидишь, что онъ не такой человѣкъ, какимъ ты его воображаешь. Онъ скорѣе сожалѣнія достоинъ, чѣмъ насмѣшки.
— Я не спорю; да что онъ тебѣ такъ дался?
— Надо быть справедливымъ, Евгеній.
— Это изъ чего слѣдуетъ?
— Нѣтъ, слушай…
И Аркадій разсказалъ ему исторію своего дяди. Читатель найдетъ ее въ слѣдующей главѣ.
ѴІІ.
Павелъ Петровичъ Кирсановъ воспитывался сперва дома, также какъ и младшій братъ его, Николай, потомъ въ пажескомъ корпусѣ. Онъ съ дѣтства отличался замѣчательною красотой; къ тому же онъ былъ самоувѣренъ, немного насмѣшливъ и какъ-то забавно жолченъ — онъ не могъ не нравиться. Онъ началъ появляться всюду, какъ только вышелъ въ офицеры. Его носили на рукахъ, и онъ самъ себя баловалъ, даже дурачился, даже ломался; но и это къ нему шло. Женщины отъ него съ ума сходили, мущины называли его фатомъ и втайнѣ завидовали ему. Онъ жилъ, какъ уже сказано, на одной квартирѣ съ братомъ, котораго любилъ искренно, хотя нисколько на него не походилъ. Николай Петровичъ прихрамывалъ, черты имѣлъ маленькія, пріятныя, но нѣсколько грустныя, небольшіе черные глаза и мягкіе жидкіе волосы; онъ охотно лѣнился, но и читалъ охотно, и боялся общества. Павелъ Петровичъ ни одного вечера не проводилъ дома, славился смѣлостію и ловкостію (онъ ввелъ было гимнастику въ моду между свѣтскою молодежью) и прочелъ всего пять, шесть французскихъ книгъ. На двадцать-восьмомъ году отъ роду онъ уже былъ капитаномъ; блестящая карьера ожидала его. Вдругъ все измѣнилось.
Въ то время, въ петербургскомъ свѣтѣ, изрѣдка появлялась женщина, которую не забыли до сихъ поръ, княгиня Р. У ней былъ благовоспитанный и приличный, но глуповатый мужъ, и не было дѣтей. Она внезапно уѣзжала за границу, внезапно возвращалась въ Россію, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, съ увлеченіемъ предавалась всякого рода удовольствіямъ, танцовала до упаду, хохотала и шутила съ молодыми людьми, которыхъ принимала передъ обѣдомъ въ полумракѣ гостиной, а по ночамъ плакала и молилась, не находила нигдѣ покою, и часто до самаго утра металась по комнатѣ, тоскливо ломая руки, или сидѣла, вся блѣдная и холодная, надъ псалтыремъ. День наставалъ, и она снова превращалась въ свѣтскую даму, снова выѣзжала, смѣялась, болтала, и точно бросалась на встрѣчу всему, что̀ могло доставить ей малѣйшее развлеченіе. Она была удивительно сложена; ея коса золотого цвѣта и тяжелая, какъ золото, падала ниже колѣнъ, но красавицей ее никто бы не назвалъ; во всемъ ея лицѣ только и было хорошаго что́ глаза, и даже не самые глаза — они были невелики и сѣры — но взглядъ ихъ, быстрый и глубокій, безпечный до удали и задумчивый до унынія, — загадочный взглядъ. Что-то необычайное свѣтилось въ немъ, даже тогда, когда языкъ ея лепеталъ самыя пустыя рѣчи. Одѣвалась она изысканно. Павелъ Петровичъ встрѣтилъ ее на одномъ балѣ, протанцовалъ съ ней мазурку, въ теченіи которой она не сказала ни одного путнаго слова, и влюбился въ нее страстно. Привыкшій къ побѣдамъ, онъ и тутъ скоро достигъ своей цѣли; но легкость торжества не охладила его. Напротивъ: онъ еще мучительнѣе, еще крѣпче привязался къ этой женщинѣ, въ которой, даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще какъ будто оставалось что-то завѣтное и недоступное, куда никто не могъ проникнуть. Что гнѣздилось въ этой душѣ, — Богъ вѣсть! Казалось, она находилась во власти какихъ-то тайныхъ, для нея самой невѣдомыхъ, силъ; онѣ играли ею, какъ хотѣли; ея небольшой умъ не могъ сладить съ ихъ прихотью. Все ея поведеніе представляло рядъ несообразностей; единственныя письма, которыя могли бы возбудить справедливыя подозрѣнія ея мужа, она написала къ человѣку почти ей чужому, а любовь ея отзывалась печалью: она уже не смѣялась и не шутила съ тѣмъ, кого избирала, и слушала его и глядѣла на него съ недоумѣніемъ. Иногда, большею частью внезапно, это недоумѣніе переходило въ холодный ужасъ; лицо ея принимало выраженіе мертвенное и дикое; она запиралась у себя въ спальнѣ, и горничная ея могла слышать, припавъ ухомъ къ замку, ея глухія рыданія. Не разъ, возвращаясь къ себѣ домой послѣ нѣжнаго свиданія, Кирсановъ чувствовалъ на сердцѣ ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается въ сердцѣ послѣ окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» спрашивалъ онъ себя, а сердце все ныло. Онъ однажды подарилъ ей кольцо съ вырѣзаннымъ на камнѣ сфинксомъ.
— Что это? — спросила она: — сфинксъ?
— Да, отвѣтилъ онъ, — и этотъ сфинксъ — вы.
— Я? — спросила она, и медленно подняла на него свой загадочный взглядъ. — Знаете ли, что это очень лестно? — прибавила она съ незначительною усмѣшкой, а глаза глядѣли все такъ же странно.
Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила; но когда она охладѣла къ нему, а это случилось довольно скоро, онъ чуть съ ума не сошелъ. Онъ терзался и ревновалъ, не давалъ ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоѣло его неотвязное преслѣдованіе, и она уѣхала за-границу. Онъ вышелъ въ отставку, несмотря на просьбы пріятелей, на увѣщанія начальниковъ, и отправился вслѣдъ за княгиней; года четыре провелъ онъ въ чужихъ краяхъ, то гоняясь за нею, то съ намѣреніемъ теряя ее изъ виду; онъ стыдился самого себя, онъ негодовалъ на свое малодушіе… но ничто не помогало. Ея образъ, этотъ непонятный, почти безсмысленный, но обаятельный образъ слишкомъ глубоко внѣдрился въ его душу. Въ Баденѣ онъ какъ-то опять сошелся съ нею по прежнему; казалось, никогда еще она такъ страстно его не любила… но черезъ мѣсяцъ все уже было кончено: огонь вспыхнулъ въ послѣдній разъ, и угасъ навсегда. Предчувствуя неизбѣжную разлуку, онъ хотѣлъ по крайней мѣрѣ остаться ея другомъ, какъ будто дружба съ такою женщиной была возможна… Она тихонько выѣхала изъ Бадена, и съ тѣхъ поръ постоянно избѣгала Кирсанова. Онъ вернулся въ Россію, попытался зажить старою жизнью, но уже не могъ попасть въ прежнюю колею. Какъ отравленный, бродилъ онъ съ мѣста на мѣсто; онъ еще выѣзжалъ, онъ сохранилъ всѣ привычки свѣтскаго человѣка; онъ могъ похвастаться двумя, тремя новыми побѣдами; но онъ уже не ждалъ ничего особеннаго ни отъ себя, ни отъ другихъ, и ничего не предпринималъ. Онъ состарѣлся, посѣдѣлъ; сидѣть по вечерамъ въ клубѣ, желчно скучать, равнодушно поспорить въ холостомъ обществѣ, стало для него потребностію, — знакъ, какъ извѣстно, плохой. О женитьбѣ онъ, разумѣется, и не думалъ. Десять лѣтъ прошло такимъ образомъ, безцвѣтно, безплодно и быстро, страшно быстро. Нигдѣ время такъ не бѣжитъ какъ въ Россіи; въ тюрьмѣ, говорятъ, оно бѣжитъ еще скорѣй. Однажды, за обѣдомъ, въ клубѣ, Павелъ Петровичъ узналъ о смерти, княгини Р. Она скончалась въ Парижѣ, въ состояніи близкомъ къ помѣшательству. Онъ всталъ изъ-за стола и долго ходилъ по комнатамъ клуба, останавливаясь, какъ вкопанный, близъ карточныхъ игроковъ, но не вернулся домой раньше обыкновеннаго. Черезъ нѣсколько времени онъ получилъ пакетъ, адресованный на его имя: въ немъ находилось данное имъ княгинѣ кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту, и велѣла ему сказать, что крестъ — вотъ разгадка.
Это случилось въ началѣ 48-го года, въ то самое время, когда Николай Петровичъ, лишившись жены, пріѣзжалъ въ Петербургъ. Павелъ Петровичъ почти не видался съ братомъ, съ тѣхъ поръ какъ тотъ поселился въ деревнѣ: свадьба Николая Петровича совпала съ самыми первыми днями знакомства Павла Петровича съ княгиней. Вернувшись изъ-за границы, онъ отправился къ нему съ намѣреніемъ погостить у него мѣсяца два, полюбоваться его счастіемъ, но выжилъ у него одну только недѣлю. Различіе въ положеніи обоихъ братьевъ было слишкомъ велико. Въ 48-мъ году это различіе уменьшилось: Николай Петровичъ потерялъ жену, Павелъ Петровичъ потерялъ свои воспоминанія; послѣ смерти княгини онъ старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни, сынъ выросталъ на его глазахъ; Павелъ, напротивъ, одинокій холостякъ, вступалъ въ то смутное, сумеречное время, время сожалѣній похожихъ на надежды, надеждъ похожихъ на сожалѣнія, когда молодость прошла, а старость еще не настала.
Это время было труднѣе для Павла Петровича, чѣмъ для всякаго другого: потерявъ свое прошедшее, онъ все потерялъ.
— Я не зову теперь тебя въ Марьино, — сказалъ ему однажды Николай Петровичъ (онъ назвалъ свою деревню этимъ именемъ въ честь жены), — ты и при покойницѣ тамъ соскучился, а теперь ты, я думаю, тамъ съ тоски пропадешь.
— Я былъ еще глупъ и суетливъ тогда, — отвѣчалъ Павелъ Петровичъ: — съ тѣхъ поръ я угомонился, если не поумнѣлъ. Теперь, напротивъ, если ты позволишь, я готовъ навсегда у тебя поселиться.
Вмѣсто отвѣта, Николай Петровичъ обнялъ его; но полтора года прошло послѣ этого разговора, прежде чѣмъ Павелъ Петровичъ рѣшился осуществить свое намѣреніе. За то, поселившись однажды въ деревнѣ, онъ уже не покидалъ ея, даже и въ тѣ три зимы, которыя Николай Петровичъ провелъ въ Петербургѣ съ сыномъ. Онъ сталъ читать, все больше по-англійски; онъ вообще всю жизнь свою устроилъ на англійскій вкусъ, рѣдко видался съ сосѣдями и выѣзжалъ только на выборы, гдѣ онъ большею частію помалчивалъ, лишь изрѣдка дразня и пугая помѣщиковъ стараго покроя либеральными выходками и не сближаясь съ представителями новаго поколѣнія. И тѣ, и другіе считали его гордецомъ; и тѣ, и другіе его уважали за его отличныя, аристократическія манеры, за слухи о его побѣдахъ; за то, что онъ прекрасно одѣвался и всегда останавливался въ лучшемъ номерѣ лучшей гостинницы; за то, что онъ вообще хорошо обѣдалъ, а однажды даже пообѣдалъ съ Веллингтономъ у Людовика-Филиппа; за то, что онъ всюду возилъ съ собою настоящій серебряный несессеръ и походную ванну; за то, что отъ него пахло какими-то необыкновенными, удивительно «благородными» духами; за то, что онъ мастерски игралъ въ вистъ и всегда проигрывалъ; наконецъ, его уважали такъ же за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательнымъ меланхоликомъ, но онъ не знался съ дамами…
— Вотъ, видишь ли, Евгеній, — промолвилъ Аркадій, оканчивая свой разсказъ, — какъ несправедливо ты судишь о дядѣ! Я уже не говорю о томъ, что онъ не разъ выручалъ отца изъ бѣды, отдавалъ ему всѣ свои деньги; имѣніе, ты можетъ быть не знаешь, у нихъ не раздѣлено, — но онъ всякому радъ помочь и, между прочимъ, всегда вступается за крестьянъ; правда, говоря съ ними, онъ морщится и нюхаетъ одеколонъ…
— Извѣстное дѣло: нервы, — перебилъ Базаровъ.
— Можетъ быть, только у него сердце предоброе. И онъ далеко не глупъ. Какіе онъ мнѣ давалъ полезные совѣты… особенно… особенно насчетъ отношеній къ женщинамъ.
— Ага! На своемъ молокѣ обжогся, на чужую воду дуетъ. Знаемъ мы это!
— Ну, словомъ, — продолжалъ Аркадій: — онъ глубоко несчастливъ, повѣрь мнѣ; презирать его — грѣшно.
— Да кто его презираетъ? — возразилъ Базаровъ. — А я все-таки скажу, что человѣкъ, который всю свою жизнь поставилъ на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскисъ и опустился до того, что ни на что не сталъ способенъ, этакой человѣкъ — не мущина, не самецъ. Ты говоришь, что онъ несчастливъ: тебѣ лучше знать; но дурь изъ него не вся вышла. Я увѣренъ, что онъ не шутя воображаетъ себя дѣльнымъ человѣкомъ, потому что читаетъ Галиньяшку и разъ въ мѣсяцъ избавитъ мужика отъ экзекуціи.
— Да вспомни его воспитаніе, время, въ которомъ онъ жилъ, — замѣтилъ Аркадій.
— Воспитаніе? — подхватилъ Базаровъ. — Всякій человѣкъ самъ себя воспитать долженъ, — ну, хоть какъ я, напримѣръ… А что касается до времени, отчего я отъ него зависѣть буду? Пускай же лучше оно зависитъ отъ меня. Нѣтъ, братъ, это все распущенность, пустота! И что за таинственныя отношенія между мущиной и женщиной? Мы, физіологи, знаемъ, какія это отношенія. Ты проштудируй-ка анатомію гла̀за: откуда тутъ взяться, какъ ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизмъ, чепуха, гниль, художество. Пойдемъ лучше смотрѣть жука.
И оба пріятеля отправились въ комнату Базарова, въ которой уже успѣлъ установиться какой-то медицинско-хирургическій запахъ, смѣшанный съ запахомъ дешеваго табаку.
ѴІІІ.
Павелъ Петровичъ недолго присутствовалъ при бесѣдѣ брата съ управляющимъ, высокимъ и худымъ человѣкомъ съ сладкимъ, чахоточнымъ голосомъ и плутовскими глазами, который на всѣ замѣчанія Николая Петровича отвѣчалъ: «помилуйте-съ, извѣстное дѣло-съ», и старался представить мужиковъ пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый ладъ хозяйство скрипѣло, какъ немазанное колесо, трещало, какъ домодѣланная мебель изъ сырого дерева. Николай Петровичъ не унывалъ, но частенько вздыхалъ и задумывался: онъ чувствовалъ, что безъ денегъ дѣло не пойдетъ, а деньги у него почти всѣ перевелись. Аркадіи сказалъ правду: Павелъ Петровичъ не разъ помогалъ своему брату; не разъ, видя какъ онъ бился и ломалъ себѣ голову, придумывая какъ бы извернуться, Павелъ Петровичъ медленно подходилъ къ окну и, засунувъ руки въ карманы, бормоталъ сквозь зубы: «mais je puis vous donner de l’argent», и давалъ ему денегъ; но въ этотъ день у него самого ничего не было, и онъ предпочелъ удалиться. Хозяйственныя дрязги наводили на него тоску; притомъ ему постоянно казалось, что Николай Петровичъ, несмотря на все свое рвеніе и трудолюбіе, не такъ принимается за дѣло, какъ бы слѣдовало; хотя указать, въ чемъ собственно ошибается Николай Петровичъ, онъ не съумѣлъ бы. «Братъ не довольно практиченъ», разсуждалъ онъ самъ съ собою, — «его обманываютъ». Николай Петровичъ, напротивъ, былъ высокаго мнѣнія о практичности Павла Петровича и всегда спрашивалъ его совѣта. «Я человѣкъ мягкій, слабый, вѣкъ свой провелъ въ глуши», говаривалъ онъ; — «а ты не даромъ такъ много жилъ съ людьми, ты ихъ хорошо знаешь: у тебя орлиный взглядъ». Павелъ Петровичъ въ отвѣтъ на эти слова только отворачивался, но не разувѣрялъ брата.
Оставивъ Николая Петровича въ кабинетѣ, онъ отправился по корридору, отдѣлявшему переднюю часть дома отъ задней, и, поровнявшись съ низенькою дверью, остановился въ раздумьѣ, подергалъ себѣ усы и постучался въ нее.
— Кто тамъ? Войдите, — раздался голосъ Ѳенички.
— Это я, — проговорилъ Павелъ Петровичъ и отворилъ дверь.
Ѳеничка вскочила со стула, на которомъ она усѣлась съ своимъ ребенкомъ и, передавъ его на руки дѣвушки, которая тотчасъ же вынесла его вонъ изъ комнаты, торопливо поправила свою косынку.
— Извините, если я помѣшалъ, — началъ Павелъ Петровичъ, не глядя на нее: — мнѣ хотѣлось только попросить васъ… сегодня, кажется, въ городъ посылаютъ… велите купить для меня зеленаго чаю.
— Слушаю-съ, — отвѣчала Ѳеничка; — сколько прикажете купить?
— Да полфунта довольно будетъ, я полагаю. А у васъ здѣсь, я вижу перемѣна, — прибавилъ онъ, бросивъ вокругъ быстрый взглядъ, который скользнулъ и по лицу Ѳенички. — Занавѣски вотъ, — промолвилъ онъ, видя, что она его не понимаетъ.
— Да-съ, занавѣски; Николай Петровичъ намъ ихъ пожаловалъ; да ужъ онѣ давно повѣшены.
— Да и я у васъ давно не былъ. Теперь у васъ здѣсь очень хорошо.
— По милости Николая Петровича, — шепнула Ѳеничка.
— Вамъ здѣсь лучше, чѣмъ въ прежнемъ флигелькѣ? — спросилъ Павелъ Петровичъ вѣжливо, но безъ малѣйшей улыбки.
— Конечно, лучше-съ.
— Кого теперь на ваше мѣсто помѣстили?
— Теперь тамъ прачки.
— А!
Павелъ Петровичъ умолкъ. «Теперь уйдетъ», думала Ѳеничка; но онъ не уходилъ, и она стояла передъ нимъ, какъ вкопанная, слабо перебирая пальцами.
— Отчего вы велѣли вашего маленькаго вынести? — заговорилъ наконецъ Павелъ Петровичъ. — Я люблю дѣтей: покажите-ка мнѣ его.
Ѳеничка вся покраснѣла отъ смущенія и отъ радости. Она боялась Павла Петровича: онъ почти никогда не говорилъ съ ней.
— Дуняша, — кликнула она: — принесите Митю (Ѳеничка всѣмъ въ домѣ говорила вы). А не то, погодите; надо ему платьице надѣть. — Ѳеничка направилась къ двери.
— Да все равно, — замѣтилъ Павелъ Петровичъ.
— Я сейчасъ, — отвѣтила Ѳеничка, и проворно вышла.
Павелъ Петровичъ остался одинъ, и на этотъ разъ съ особеннымъ вниманіемъ оглянулся кругомъ. Небольшая, низенькая комнатка, въ которой онъ находился, была очень чиста и уютна. Въ ней пахло недавно выкрашеннымъ поломъ, ромашкой и мелиссой. Вдоль стѣнъ стояли стулья съ задками въ видѣ лиръ; они были куплены еще покойникомъ генераломъ въ Польшѣ, во время похода; въ одномъ углу возвышалась кроватка подъ кисейнымъ пологомъ, рядомъ съ кованнымъ сундукомъ съ круглою крышкой. Въ противоположномъ углу горѣла лампадка передъ большимъ темнымъ образомъ Николая Чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной лентѣ висѣло на груди святого, прицѣпленное къ сіянію; на окнахъ банки съ прошлогоднимъ вареньемъ, тщательно завязанныя, сквозили зеленымъ свѣтомъ; на бумажныхъ ихъ крышкахъ сама Ѳеничка написала крупными буквами: «кружовникъ»; Николай Петровичъ любилъ особенно это варенье. Подъ потолкомъ, на длинномъ шнуркѣ, висѣла клѣтка съ короткохвостымъ чижомъ; онъ безпрестанно чирикалъ и прыгалъ, и клѣтка безпрестанно качалась и дрожала: конопляныя зерна, съ легкимъ стукомъ, падали на полъ. Въ простѣнкѣ, надъ небольшимъ комодомъ, висѣли довольно плохіе фотографическіе портреты Николая Петровича въ разныхъ положеніяхъ, сдѣланные заѣзжимъ художникомъ: тутъ же висѣла фотографія самой Ѳенички, совершено не удавшаяся: какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось въ темной рамочкѣ, — больше ничего нельзя было разобрать; а надъ Ѳеничкой — Ермоловъ, въ буркѣ, грозно хмурился на отдаленныя Кавказскія горы, изъ-подъ шелковаго башмачка для булавокъ, падавшаго ему на самый лобъ.
Прошло минутъ пять; въ сосѣдней комнатѣ слышался шелестъ и шопотъ. Павелъ Петровичъ взялъ съ комода замасленную книгу, разрозненный томъ Стрѣльцовъ Масальскаго, перевернулъ нѣсколько страницъ… Дверь отворилась, и вошла Ѳеничка съ Митей на рукахъ. Она надѣла на него красную рубашечку съ галуномъ на воротѣ, причесала его волосики и утерла лицо: онъ дышалъ тяжело, порывался всѣмъ тѣломъ и подергивалъ ручонками, какъ это дѣлаютъ всѣ здоровыя дѣти; но щегольская рубашечка видимо на него подѣйствовала: выраженіе удовольствія отражалось на всей его пухлой фигуркѣ. Ѳеничка и свои волосы привела въ порядокъ, и косынку надѣла получше; но она могла бы остаться, какъ была. И въ самомъ дѣлѣ, есть ли на свѣтѣ что-нибудь плѣнительнѣе молодой, красивой матери съ здоровымъ ребенкомъ на рукахъ?
— Экой бутузъ, — снисходительно проговорилъ Павелъ Петровичъ, и пощекоталъ двойной подбородокъ Мити концомъ длиннаго ногтя на указательномъ пальцѣ; ребенокъ уставился на чижа, и засмѣялся.
— Это дядя, — промолвила Ѳеничка, склоняя къ нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тѣмъ какъ Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свѣчку, подложивши подъ нее грошъ.
— Сколько, бишь, ему мѣсяцевъ? — спросилъ Павелъ Петровичъ.
— Шесть мѣсяцевъ; скоро вотъ седьмой пойдетъ, одиннадцатаго числа.
— Не восьмой ли, Ѳедосья Николаевна? — не безъ робости вмѣшалась Дуняша.
— Нѣтъ, седьмой; какъ можно! — Ребенокъ опять засмѣялся, уставился на сундукъ, и вдругъ схватилъ свою мать всею пятерней за носъ и за губы. — Баловникъ, проговорила Ѳеничка, не отодвигая лица отъ его пальцевъ.
— Онъ похожъ на брата, — замѣтилъ Павелъ Петровичъ.
«На кого жъ ему и походить?» подумала Ѳеничка.
— Да, — продолжалъ, какъ бы говоря съ самимъ собой, Павелъ Петровичъ — несомнѣнное сходство. — Онъ внимательно, почти печально посмотрѣлъ на Ѳеничку.
— Это дядя, — повторила она, уже шепотомъ.
— А! Павелъ! вотъ гдѣ ты! — раздался вдругъ голосъ Николая Петровича.
Павелъ Петровичъ торопливо обернулся и нахмурился; но братъ его такъ радостно, съ такою благодарностью глядѣлъ на него, что онъ не могъ не отвѣтить ему улыбкой.
— Славный у тебя мальчуганъ, — промолвилъ онъ и посмотрѣлъ на часы; — а я завернулъ сюда на счетъ чаю…
И принявъ равнодушное выраженіе, Павелъ Петровичъ тотчасъ же вышелъ вонъ изъ комнаты.
— Самъ собою зашелъ? — спросилъ Ѳеничку Николай Петровичъ.
— Сами-съ; постучались и вошли.
— Ну, а Аркаша больше у тебя не былъ?
— Не былъ. Не перейдти ли мнѣ во флигель, Николай Петровичъ?
— Это зачѣмъ?
— Я думаю, не лучше ли будетъ на первое время.
— Н… нѣтъ, — произнесъ съ запинкой Николай Петровичъ и потеръ себѣ лобъ. — Надо было прежде… Здравствуй, пузырь, — проговорилъ онъ съ внезапнымъ оживленіемъ и приблизившись къ ребенку, поцѣловалъ его въ щеку; потомъ онъ нагнулся немного и приложилъ губы къ Ѳеничкиной рукѣ, бѣлѣвшей какъ молоко на красной рубашечкѣ Мити.
— Николай Петровичъ! что вы это? — пролепетала она и опустила глаза, потомъ тихонько подняла ихъ… Прелестно было выраженіе ея глазъ, когда она глядѣла какъ бы изподлобья, да посмѣивалась ласково и немножко глупо.
Николай Петровичъ познакомился съ Ѳеничкой слѣдующимъ образомъ. Однажды, года три тому назадъ, ему пришлось ночевать на постояломъ дворѣ въ отдаленномъ уѣздномъ городѣ. Его пріятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свѣжесть постельнаго бѣлья: ужъ не нѣмка ли здѣсь хозяйка? пришло ему на мысль; но хозяйкой оказалась русская, женщина лѣтъ пятидесяти, опрятно одѣтая, съ благообразнымъ умнымъ лицомъ и степенною рѣчью. Онъ разговорился съ ней за чаемъ; очень она ему понравилась. Николай Петровичъ, въ то время только-что переселился въ новую свою усадьбу и, не желая держать при себѣ крѣпостныхъ людей, искалъ наемныхъ; хозяйка, съ своей стороны, жаловалась на малое число проѣзжающихъ въ городѣ, на тяжелыя времена; онъ предложилъ ей поступить къ нему въ домъ, въ качествѣ экономки; она согласилась. Мужъ у ней давно умеръ, оставивъ ей одну только дочь, Ѳеничку. Недѣли черезъ двѣ, Арина Савишна (такъ звали новую экономку) прибыла вмѣстѣ съ дочерью въ Марьино, и поселилась во флигелькѣ. Выборъ Николая Петровича оказался удачнымъ. Арина завела порядокъ въ домѣ. О Ѳепичкѣ, которой тогда минулъ уже семнадцатый годъ, никто не говорилъ, и рѣдкій ее видѣлъ: она жила тихонько, скромненько и только по воскресеньямъ Николай Петровичъ замѣчалъ въ приходской церкви, гдѣ нибудь въ сторонкѣ, тонкій профиль ея бѣленькаго лица. Такъ прошло болѣе года.
Въ одно утро Арина явилась къ нему въ кабинетъ, и по обыкновенію, низко поклонившись, спросила его, не можетъ ли онъ помочь ея дочкѣ, которой искра изъ печки попала въ глазъ. Николай Петровичъ, какъ всѣ домосѣды, занимался лѣченіемъ и даже выписалъ гомеопатическую аптечку. Онъ тотчасъ велѣлъ Аринѣ привести больную. Узнавъ, что баринъ ее зоветъ, Ѳеничка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петровичъ подвелъ ее къ окну и взялъ ее обѣими руками за голову. Разсмотрѣвъ хорошенько ея покраснѣвшій и воспаленный глазъ, онъ прописалъ ей примочку, которую тутъ же самъ составилъ и, разорвавъ на части свой платокъ, показалъ ей какъ надо примачивать. Ѳеничка выслушала его и хотѣла выйдти. «Поцѣлуй же ручку у барина, глупенькая», сказала ей Арина. Николай Петровичъ не далъ ей своей руки и, сконфузившись, самъ поцѣловалъ ее въ наклоненную голову, въ проборъ. Ѳеничкинъ глазъ скоро выздоровѣлъ, но впечатлѣніе, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нѣжное, боязливо приподнятое лицо; онъ чувствовалъ подъ ладонями рукъ своихъ эти мягкіе волосы, видѣлъ эти невинныя, слегка раскрытыя губы, изъ-за которыхъ влажно блистали на солнцѣ жемчужные зубки. Онъ началъ съ большимъ вниманіемъ глядѣть на нее въ церкви, старался заговаривать съ нею. Сначала она его дичилась, и однажды передъ вечеромъ, встрѣтивъ его на узкой тропинкѣ, проложенной пѣшеходами черезъ ржаное поле, зашла въ высокую, густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Онъ увидалъ ея головку сквозь золотую сѣтку колосьевъ, откуда она высматривала, какъ звѣрокъ, и ласково крикнулъ ей:
— Здравствуй, Ѳеничка! Я не кусаюсь.
— Здравствуйте, — прошептала она, не выходя изъ своей засады.
По немногу она стала привыкать къ нему, но все еще робѣла въ его присутствіи, какъ вдругъ ея мать Арина умерла отъ холеры. Куда было дѣваться Ѳеничкѣ? Она наслѣдовала отъ своей матери любовь къ порядку, разсудительность и степенность; но она была такъ молода, такъ одинока; Николай Петровичъ былъ самъ такой добрый и скромный… Остальное досказывать нечего…
— Такъ-таки братъ къ тебѣ и вошелъ? — спрашивалъ ее Николай Петровичъ. — Постучался и вошелъ?
— Да-съ.
— Ну, это хорошо. Дай-ка мнѣ покачать Митю.
И Николай Петровичъ началъ его подбрасывать почти подъ самый потолокъ, къ великому удовольствію малютки и къ немалому безпокойству матери, которая, при всякомъ его взлетѣ, протягивала руки къ обнажавшимся его ножкамъ.
А Павелъ Петровичъ вернулся въ свой изящный кабинетъ, оклеенный по стѣнамъ красивыми обоями дикаго цвѣта, съ развѣшаннымъ оружіемъ на пестромъ персидскомъ коврѣ, съ орѣховою мебелью, обитой темно-зеленымъ трипомъ, съ библіотекой renaissance изъ стараго чернаго дуба, съ бронзовыми статуэтками на великолѣпномъ письменномъ столѣ, съ каминомъ… Онъ бросился на диванъ, заложилъ руки за голову и остался неподвиженъ, почти съ отчаяньемъ глядя въ потолокъ. Захотѣлъ ли онъ скрыть отъ самыхъ стѣнъ, что у него происходило на лицѣ, по другой ли какой причинѣ, только онъ всталъ, отстегнулъ тяжелыя занавѣски оконъ, и опять бросился на диванъ.
ІХ.
Въ тотъ же день и Базаровъ познакомился съ Ѳеничкой. Онъ вмѣстѣ съ Аркадіемъ ходилъ по саду и толковалъ ему, почему иныя деревца, особенно дубки, не принялись.
— Надо серебристыхъ тополей побольше, здѣсь сажать да елокъ, да пожалуй липокъ, подбавивши чернозему. Вонъ бесѣдка принялась хорошо, — прибавилъ онъ: — потому что акація да сирень — ребята добрые, ухода не требуютъ. Ба! да тутъ кто-то есть.
Въ бесѣдкѣ сидѣла Ѳеничка съ Дуняшей и Митей. Базаровъ остановился, а Аркадій кивнулъ головою Ѳеничкѣ, какъ старый знакомый.
— Кто это? — спросилъ его Базаровъ, какъ только они прошли мимо. — Какая хорошенькая!
— Да ты о комъ говоришь?
— Извѣстно о комъ: одна только хорошенькая.
Аркадій, не безъ замѣшательства, объяснилъ ему въ короткихъ словахъ, кто была Ѳеничка.
— Ага! — промолвилъ Базаровъ: — у твоего отца видно губа не дура. А онъ мнѣ нравится, твой отецъ, ей-ей! Онъ молодецъ. Однако надо познакомиться, — прибавилъ онъ, и отправился назадъ къ бесѣдкѣ.
— Евгеній! — съ испугомъ крикнулъ ему во слѣдъ Аркадій: — осторожнѣй, ради Бога.
— Не волнуйся, — проговорилъ Базаровъ: — народъ мы тертый, въ городахъ живали.
Приблизясь къ Ѳеничкѣ, онъ скинулъ картузъ.
— Позвольте представиться, — началъ онъ съ вѣжливымъ поклономъ: — Аркадію Николаичу пріятель и человѣкъ смирный.
Ѳеничка приподнялась со скамейки и глядѣла на него молча.
— Какой ребенокъ чудесный! — продолжалъ Базаровъ. — Не безпокойтесь, я еще никого не сглазилъ. Что это у него щеки такія красныя? Зубки, что ли, прорѣзаются?
— Да-съ, — промолвила Ѳеничка: — четверо зубковъ у него уже прорѣзались, а теперь вотъ десны опять припухли.
— Покажите-ка… да вы не бойтесь, я докторъ.
Базаровъ взялъ на руки ребенка, который къ удивленію и Ѳенички, и Дуняши, не оказалъ никакого сопротивленія и не испугался.
— Вижу, вижу… Ничего, все въ порядкѣ: зубастый будетъ. Если что случится, скажите мнѣ. А сами вы здоровы?
— Здорова, слава Богу.
— Слава Богу — лучше всего. А вы? — прибавилъ Базаровъ, обращаясь къ Дуняшѣ.
Дуняша, дѣвушка очень строгая въ хоромахъ и хохотунья за воротами, только фыркнула ему въ отвѣтъ.
— Ну и прекрасно. Вотъ вамъ вашъ богатырь.
Ѳеничка приняла ребенка къ себѣ на руки.
— Какъ онъ у васъ тихо сидѣлъ, — промолвила она вполголоса.
— У меня всѣ дѣти тихо сидятъ, — отвѣчалъ Базаровъ, — я такую штуку знаю.
— Дѣти чувствуютъ, кто ихъ любитъ, — замѣтила Дуняша.
— Это точно, — подтвердила Ѳеничка. — Вотъ и Митя, къ иному ни за что на руки не пойдетъ.
— А ко мнѣ пойдетъ? — спросилъ Аркадій, который, постоявъ нѣкоторое время въ отдаленіи, приблизился къ бесѣдкѣ.
Онъ поманилъ къ себѣ Митю, но Митя откинулъ голову назадъ и запищалъ, что очень смутило Ѳеничку.
— Въ другой разъ, когда привыкнуть успѣетъ, — снисходительно промолвилъ Аркадій, и оба пріятеля удалились.
— Какъ, бишь, ее зовутъ? — спросилъ Базаровъ.
— Ѳеничкой… Ѳедосьей, — отвѣтилъ Аркадій.
— А по батюшкѣ? Это тоже нужно знать.
— Николаевной.
— Bene. Мнѣ нравится въ ней то, что она не слишкомъ конфузится. Иной, пожалуй, это-то и осудилъ бы въ ней. Что за вздоръ? чего конфузиться? Она мать — ну, и права.
— Она-то права, замѣтилъ Аркадій, — но вотъ отецъ мой…
— И онъ правъ, — перебилъ Базаровъ.
— Ну, нѣтъ, я не нахожу.
— Видно, лишній наслѣдничекъ намъ не по нутру?
— Какъ тебѣ не стыдно предполагать во мнѣ такія мысли! — съ жаромъ подхватилъ Аркадій. Я не съ этой точки зрѣнія почитаю отца неправымъ; я нахожу, что онъ долженъ бы жениться на ней.
— Эге-ге! — спокойно проговорилъ Базаровъ. — Вотъ мы какіе великодушные! Ты придаешь еще значеніе браку; я этого отъ тебя не ожидалъ.
Пріятели сдѣлали нѣсколько шаговъ въ молчаньи.
— Видѣлъ я всѣ заведенія твоего отца, — началъ опять Базаровъ. — Скотъ плохой, и лошади разбитыя. Строенія тоже подгуляли, и работники смотрятъ отъявленными лѣнивцами; а управляющій либо дуракъ, либо плутъ, я еще не разобралъ хорошенько.
— Строгъ же ты сегодня, Евгеній Васильевичъ.
— И добрые мужички надуютъ твоего отца всенепремѣнно. Знаешь поговорку: «русскій мужикъ Бога слопаетъ».
— Я начинаю соглашаться съ дядей, — замѣтилъ Аркадій, — ты рѣшительно дурного мнѣнія о русскихъ.
— Эка важность! Русскій человѣкъ только тѣмъ и хорошъ, что онъ самъ о себѣ пресквернаго мнѣнія. Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки.
— И природа пустяки? — проговорилъ Аркадій, задумчиво глядя вдаль на пестрыя поля, красиво и мягко освѣщенныя уже невысокимъ солнцемъ.
— И природа пустяки, въ томъ значеніи, въ какомъ ты ее понимаешь. Природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ.
Медлительные звуки віолончели долетѣли до нихъ изъ дому въ это самое мгновеніе. Кто-то игралъ съ чувствомъ, хотя и неопытною рукою, Ожиданіе Шуберта, и медомъ разливалась по воздуху сладостная мелодія.
— Это что? — произнесъ съ изумленіемъ Базаровъ.
— Это отецъ.
— Твой отецъ играетъ на віолончели?
— Да.
— Да сколько твоему отцу лѣтъ?
— Сорокъ-четыре.
Базаровъ вдругъ расхохотался.
— Чему же ты смѣешься?
— Помилуй! въ сорокъ-четыре года человѣкъ, pater-familias, въ ***мъ уѣздѣ — играетъ на віолончели!
Базаровъ продолжалъ хохотать; но Аркадій, какъ ни благоговѣлъ передъ своимъ учителемъ, на этотъ разъ даже не улыбнулся.
Х.
Прошло около двухъ недѣль. Жизнь въ Марьинѣ текла своимъ порядкомъ: Аркадій сибаритствовалъ. Базаровъ работалъ. Всѣ въ домѣ привыкли къ нему, къ его небрежнымъ манерамъ, къ его немногосложнымъ и отрывочнымъ рѣчамъ. Ѳеничка, въ особенности, до того съ нимъ освоилась, что однажды ночью велѣла разбудить его: съ Митей сдѣлались судороги; и онъ пришелъ, и по обыкновенію полушутя, полузѣвая, просидѣлъ у ней часа два и помогъ ребенку. За то Павелъ Петровичъ всѣми силами души своей возненавидѣлъ Базарова: онъ считалъ его гордецомъ, нахаломъ, циникомъ, плебеемъ; онъ подозрѣвалъ, что Базаровъ не уважаетъ его, что онъ едвали не презираетъ его — его, Павла Кирсанова! Николай Петровичъ побаивался молодого «нигилиста» и сомнѣвался въ пользѣ его вліянія на Аркадія; но онъ охотно его слушалъ, охотно присутствовалъ при его физическихъ и химическихъ опытахъ. Базаровъ привезъ съ собой микроскопъ, и по цѣлымъ часамъ съ нимъ возился. Слуги также привязалисъ къ нему, хотя онъ надъ ними подтрунивалъ: они чувствовали, что онъ все-таки свой братъ, не баринъ. Дуняша охотно съ нимъ хихикала и изкоса, значительно посматривала на него, пробѣгая мимо «перепелочкой»; Петръ, человѣкъ до крайности самолюбивый и глупый, вѣчно съ напряженными морщинами на лбу, человѣкъ, котораго все достоинство состояло въ томъ, что онъ глядѣлъ учтиво, читалъ по складамъ и часто чистилъ щеточкой свой сюртучокъ — и тотъ ухмылялся и свѣтлѣлъ, какъ только Базаровъ обращалъ на него вниманіе; дворовые мальчишки бѣгали за «дохтуромъ», какъ собачонки. Одинъ старикъ Прокофьичъ не любилъ его, съ угрюмымъ видомъ подавалъ ему за столомъ кушанья, называлъ его «живодеромъ» и «прощелыгой» и увѣрялъ, что онъ съ своими бакенбардами — настоящая свинья въ кустѣ. Прокофьичъ, по своему, былъ аристократъ не хуже Павла Петровича.
Наступили лучшіе дни въ году — первые дни іюня. Погода стояла прекрасная; правда, издали, грозилась опять холера, но жители ***ой губерніи успѣли уже привыкнуть къ ея посѣщеніямъ. Базаровъ вставалъ очень рано и отправлялся версты за двѣ, за три, не гулять — онъ прогулокъ безъ цѣли терпѣть не могъ — а собирать травы, насѣкомыхъ. Иногда онъ бралъ съ собой Аркадія. На возвратномъ пути у нихъ обыкновенно завязывался споръ, и Аркадій обыкновенно оставался побѣжденнымъ, хотя говорилъ больше своего товарища.
Однажды они какъ-то долго замѣшкались; Николай Петровичъ вышелъ къ нимъ на встрѣчу въ садъ и, поровнявшись съ бесѣдкой, вдругъ услышалъ быстрые шаги и голоса обоихъ молодыхъ людей. Они шли по ту сторону бесѣдки и не могли его видѣть.
— Ты отца недостаточно знаешь, — говорилъ Аркадій.
Николай Петровичъ притаился.
— Твой отецъ добрый малый, — промолвилъ Базаровъ, — но онъ человѣкъ отставной, его пѣсенка спѣта.
Николаи Петровичъ приникъ ухомъ… Аркадій ничего не отвѣчалъ.
«Отставной человѣкъ» постоялъ минуты двѣ неподвижно и медленно поплелся домой.
— Третьяго дня, я смотрю, онъ Пушкина читаетъ, — продолжалъ между тѣмъ Базаровъ. — Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Вѣдь онъ не мальчикъ: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтикомъ въ нынѣшнее время! Дай ему что нибудь дѣльное почитать.
— Что̀ бы ему дать? — спросилъ Аркадій.
— Да я думаю, Бюхнерево Stoff und Kraft, на первый случай.
— Я самъ такъ думаю, — замѣтилъ одобрительно Аркадій. — Stoff und Kraft написано популярнымъ языкомъ…
— Вотъ какъ, мы съ тобой, — говорилъ въ тотъ же день послѣ обѣда Николай Петровичъ своему брату, сидя у него въ кабинетѣ: — въ отставные люди попали, пѣсенка наша спѣта. Что жъ? Можетъ-быть, Базаровъ и правъ; по мнѣ, признаюсь, одно больно: я надѣялся именно теперь тѣсно и дружески сойдтись съ Аркадіемъ, а выходитъ, что я остался назади, онъ ушелъ впередъ, и понять мы другъ друга не можемъ.
— Да почему онъ ушелъ впередъ? И чѣмъ онъ отъ насъ такъ ужъ очень отличается? — съ нетерпѣніемъ воскликнулъ Павелъ Петровичъ. — Это все ему въ голову синьоръ этотъ вбилъ, нигилистъ этотъ. Ненавижу я этого лѣкаришку; по моему, онъ просто шарлатанъ; я увѣренъ, что со всѣми своими лягушками онъ и въ физикѣ недалеко ушелъ.
— Нѣтъ, братъ, ты этого не говори: Базаровъ уменъ и знающъ.
— И самолюбіе какое противное, — перебилъ опять Павелъ Петровичъ.
— Да, — замѣтилъ Николай Петровичъ: — онъ самолюбивъ. Но безъ этого, видно, нельзя; только вотъ чего я въ толкъ не возьму. Кажется, я все дѣлаю, чтобы не отстать отъ вѣка: крестьянъ устроилъ, ферму завелъ, такъ что даже меня во всей губерніи краснымъ величаютъ; читаю, учусь, вообще стараюсь стать въ уровень съ современными требованіями, — а они говорятъ, что пѣсенка моя спѣта. Да что, братъ, я самъ начинаю думать, что она точно спѣта.
— Это почему?
— А вотъ почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина… Помнится, Цыгане мнѣ попались… Вдругъ Аркадій подходитъ ко мнѣ и, молча, съ этакимъ ласковымъ сожалѣніемъ на лицѣ, тихонько, какъ у ребенка, отнялъ у меня книгу и положилъ передо мной другую, нѣмецкую… улыбнулся и ушелъ, и Пушкина унесъ.
— Вотъ какъ! Какую же онъ книгу тебѣ далъ?
— Вотъ эту.
И Николай Петровичъ вынулъ изъ задняго кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятаго изданія.
Павелъ Петровичъ повертѣлъ ее въ рукахъ.
— Гм! — промычалъ онъ. — Аркадій Николаевичъ заботится о твоемъ воспитаніи. Что жъ, ты пробовалъ читать?
— Пробовалъ.
— Ну и что̀ же?
— Либо я глупъ, либо это все — вздоръ. Должно быть я глупъ.
— Да ты по-нѣмецки не забылъ? — спросилъ Павелъ Петровичъ.
— Я по-нѣмецки понимаю.
Павелъ Петровичъ опять повертѣлъ книгу въ рукахъ и изподлобья взглянулъ на брата. Оба помолчали.
— Да, кстати, — началъ Николай Петровичъ, видимо желая перемѣнить разговоръ. — Я получилъ письмо отъ Колязина.
— Отъ Матвѣя Ильича?
— Отъ него. Онъ пріѣхалъ въ *** ревизовать губернію. Онъ теперь въ тузы вышелъ и пишетъ мнѣ, что желаетъ, по родственному, повидаться съ нами и приглашаетъ насъ съ тобой и съ Аркадіемъ въ городъ.
— Ты поѣдешь? — спросилъ Павелъ Петровичъ.
— Нѣтъ; а ты?
— И я не поѣду. Очень нужно тащиться за пятьдесятъ верстъ киселя ѣсть. Mathieu хочетъ показаться намъ во всей своей славѣ; чортъ съ нимъ! будетъ съ него губернскаго ѳиміама, обойдется безъ нашего. И велика важность, тайный совѣтникъ! Еслибъ я продолжалъ служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь былъ генералъ-адъютантомъ. Притомъ же мы съ тобой отставные люди.
— Да, братъ; видно, пора гробъ заказывать и ручки складывать крестомъ на груди, — замѣтилъ со вздохомъ Николай Петровичъ.
— Ну, я такъ скоро не сдамся, — пробормоталъ его братъ. — У насъ еще будетъ схватка съ этимъ лѣкаремъ, я это предчувствую.
Схватка произошла въ тотъ же день за вечернимъ чаемъ. Павелъ Петровичъ сошелъ въ гостиную уже готовый къ бою, раздраженный и рѣшительный. Онъ ждалъ только предлога, чтобы накинуться на врага; но предлогъ долго не представлялся. Базаровъ вообще говорилъ мало въ присутствіи «старичковъ Кирсановыхъ» (такъ онъ называлъ обоихъ братьевъ), а въ тотъ вечеръ онъ чувствовалъ себя не въ духѣ и молча выпивалъ чашку за чашкой. Павелъ Петровичъ весь горѣлъ нетерпѣніемъ; его желанія сбылись наконецъ.
Рѣчь зашла объ одномъ изъ сосѣднихъ помѣщиковъ. «Дрянь, аристократишко», равнодушно замѣтилъ Базаровъ, который встрѣчался съ нимъ въ Петербургѣ.
— Позвольте васъ спросить, — началъ Павелъ Петровичъ, и губы его задрожали: — по вашимъ понятіямъ слова: «дрянь» и «аристократъ» одно и тоже означаютъ?
— Я сказалъ: «аристократишко», — проговорилъ Базаровъ, лѣниво отхлебывая глотокъ чаю.
— Точно такъ-съ; но я полагаю, что вы такого же мнѣнія объ аристократахъ, какъ и объ аристократишкахъ. Я считаю долгомъ объявить вамъ, что я этого мнѣнія не раздѣляю. Смѣю сказать, меня всѣ знаютъ за человѣка либеральнаго и любящаго прогрессъ; но именно потому я уважаю аристократовъ — настоящихъ. Вспомните, милостивый государь, (при этихъ словахъ Базаровъ поднялъ глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь, повторилъ онъ съ ожесточеніемъ: — англійскихъ аристократовъ. Они не уступаютъ іоты отъ правъ своихъ, и потому они уважаютъ права другихъ; они требуютъ исполненія обязанностей въ отношеніи къ нимъ, и потому они сами исполняютъ свои обязанности. Аристократія дала свободу Англіи и поддерживаетъ ее.
— Слыхали мы эту пѣсню много разъ, — возразилъ Базаровъ: — но что́ вы хотите этимъ доказать?
— Я эфтимъ хочу доказать, милостивый государь, (Павелъ Петровичъ, когда сердился, съ намѣреніемъ говорилъ: «эфтимъ» и «эфто», хотя очень хорошо зналъ, что подобныхъ словъ грамматика не допускаетъ. Въ этой причудѣ сказывался остатокъ преданій Александровскаго времени. Тогдашніе тузы, въ рѣдкихъ случаяхъ, когда говорили на родномъ языкѣ, употребляли, одни — эфто, другіе — эхто: мы, молъ, коренные русаки, и въ то же время мы вельможи, которымъ позволяется пренебрегать школьными правилами) — я эфтимъ хочу доказать, что безъ чувства собственнаго достоинства, безъ уваженія къ самому себѣ — а въ аристократѣ эти чувства развиты, — нѣтъ никакого прочнаго основанія общественному… bien public… общественному зданію. Личность, милостивый государь, — вотъ главное; человѣческая личность должна быть крѣпка, какъ скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, напримѣръ, что вы изволите находить смѣшными мои привычки, мой туалетъ, мою опрятность наконецъ, но это все проистекаетъ изъ чувства самоуваженія, изъ чувства долга, да-съ, да-съ, долга. Я живу въ деревнѣ, въ глуши, но я не роняю себя, я уважаю въ себѣ человѣка.
— Позвольте, Павелъ Петровичъ, — промолвилъ Базаровъ: — вы вотъ уважаете себя и сидите сложа руки; какая жъ отъ этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и тоже бы дѣлали.
Павелъ Петровичъ поблѣднѣлъ.
— Это совершенно другой вопросъ. Мнѣ вовсе не приходится объяснять вамъ теперь, почему я сижу сложа руки, какъ вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизмъ — принсипъ, а безъ принсиповъ жить въ наше время могутъ одни безнравственные или пустые люди. Я говорилъ это Аркадію на другой день его пріѣзда и повторяю теперь вамъ. Не такъ ли, Николай?
Николай Петровичъ кивнулъ головой.
— Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы, — говорилъ между тѣмъ Базаровъ: — подумаешь, сколько иностранныхъ… и безполезныхъ словъ! Русскому человѣку они даромъ не нужны.
— Что же ему нужно, по-вашему? Послушать васъ, такъ мы находимся внѣ человѣчества, внѣ его законовъ. Помилуйте — логика исторіи требуетъ…
— Да на что̀ намъ эта логика? Мы и безъ нея обходимся.
— Какъ такъ?
— Да такъ же. Вы, я надѣюсь, не нуждаетесь въ логикѣ для того, чтобы положить себѣ кусокъ хлѣба въ ротъ, когда вы голодны. Куда намъ до этихъ отвлеченностей!
Павелъ Петровичъ взмахнулъ руками.
— Я васъ не понимаю послѣ этого. Вы оскорбляете русскій народъ. Я не понимаю, какъ можно не признавать принсиповъ, правилъ! Въ силу чего же вы дѣйствуете?
— Я уже говорилъ вамъ, дядюшка, что мы не признаёмъ авторитетовъ, — вмѣшался Аркадій.
— Мы дѣйствуемъ въ силу того, что мы признаёмъ полезнымъ, — промолвилъ Базаровъ. — Въ теперешнее время полезнѣе всего отрицаніе — мы отрицаемъ.
— Все?
— Все.
— Какъ? не только искусство, поэзію… но и… страшно вымолвить…
— Все, — съ невыразимымъ спокойствіемъ повторилъ Базаровъ.
Павелъ Петровичъ уставился на него. Онъ этого не ожидалъ, а Аркадій даже покраснѣлъ отъ удовольствія.
— Однако позвольте, — заговорилъ Николай Петровичъ. — Вы все отрицаете, или, выражаясь точнѣе, вы все разрушаете… Да вѣдь надобно же и строить.
— Это уже не наше дѣло… Сперва нужно мѣсто разчистить.
— Современное состояніе народа этого требуетъ, — съ важностью прибавилъ Аркадій: — мы должны исполнять эти требованія, мы не имѣемъ права предаваться удовлетворенію личнаго эгоизма.
Эта послѣдняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; отъ нея вѣяло философіей, то-есть, романтизмомъ, ибо Базаровъ и философію называлъ романтизмомъ; но онъ не почелъ за нужное опровергать своего молодого ученика.
— Нѣтъ, нѣтъ! — воскликнулъ съ внезапнымъ порывомъ Павелъ Петровичъ: — я не хочу вѣрить, что вы, господа, точно знаете русскій народъ, что вы представители его потребностей, его стремленій! Нѣтъ, русскій народъ не такой, какимъ вы его воображаете. Онъ свято чтитъ преданія, онъ — патріархальный, онъ не можетъ жить безъ вѣры…
— Я не стану противъ этого спорить, — перебилъ Базаровъ: — я даже готовъ согласиться, что въ этомъ вы правы.
— А если я правъ…
— И все-таки это ничего не доказываетъ.
— Именно ничего не доказываетъ, — повторилъ Аркадій съ увѣренностію опытнаго шахматнаго игрока, который предвидѣлъ опасный, повидимому, ходъ противника, и потому нисколько не смутился.
— Какъ ничего не доказываетъ? — пробормоталъ изумленный Павелъ Петровичъ. — Стало-быть, вы идете противъ своего народа?
— А хоть бы и такъ? — воскликнулъ Базаровъ. — Народъ полагаетъ, что когда громъ гремитъ, это Илья пророкъ въ колесницѣ по небу разъѣзжаетъ. Что жъ? Мнѣ соглашаться съ нимъ? Да притомъ — онъ русскій, а развѣ я самъ не русскій?
— Нѣтъ, вы не русскій послѣ всего, что вы сейчасъ сказали! Я васъ за русскаго признать не могу.
— Мой дѣдъ землю пахалъ, — съ надменною гордостію отвѣчалъ Базаровъ. — Спросите любого изъ вашихъ же мужиковъ, въ комъ изъ насъ, — въ васъ или во мнѣ, — онъ скорѣе признаетъ соотечественника. Вы и говорить-то съ нимъ не умѣете.
— А вы говорите съ нимъ и презираете его въ то же время.
— Чтожъ, коли онъ заслуживаетъ презрѣнія! Вы порицаете мое направленіе, а кто вамъ сказалъ, что оно во мнѣ случайно, что оно не вызвано тѣмъ самымъ народнымъ духомъ, во имя котораго вы такъ ратуете?
— Какъ же! Очень нужны нигилисты!
— Нужны ли они, или нѣтъ — не намъ рѣшать. Вѣдь и вы считаете себя не безполезнымъ.
— Господа, господа, пожалуйста безъ личностей! — воскликнулъ Николай Петровичъ и приподнялся.
Павелъ Петровичъ улыбнулся и, положивъ руку на плечо брату, заставилъ его снова сѣсть.
— Не безпокойся, — промолвилъ онъ. — Я не позабудусь, именно вслѣдствіе того чувства достоинства, надъ которымъ такъ жестоко трунитъ господинъ… господинъ докторъ. Позвольте, — продолжалъ онъ, обращаясь снова къ Базарову: — вы, можетъ-быть, думаете, что ваше ученіе новость? Напрасно вы это воображаете. Матеріализмъ, который вы проповѣдуете, былъ уже не разъ въ ходу и всегда оказывался несостоятельнымъ…
— Опять иностранное слово! — перебилъ Базаровъ. Онъ начиналъ злиться, и лицо его приняло какой-то мѣдный и грубый цвѣтъ. — Во-первыхъ, мы ничего не проповѣдуемъ; это не въ нашихъ привычкахъ…
— Что̀ же вы дѣлаете?
— А вотъ что мы дѣлаемъ. Прежде, въ недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берутъ взятки, что у насъ нѣтъ ни дорогъ, ни торговли, ни правильнаго суда…
— Ну да, да, вы обличители, — такъ, кажется, это называется. Со многими изъ вашихъ обличеній и я соглашаюсь, но…
— А потомъ мы догадались, что болтать, все только болтать о нашихъ язвахъ не стоитъ труда, что это ведетъ только къ пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, такъ-называемые передовые люди и обличители никуда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ-то искусствѣ, безсознательномъ творчествѣ, о парламентаризмѣ, объ адвокатурѣ, и чортъ знаетъ о чемъ, когда дѣло идетъ о насущномъ хлѣбѣ, когда грубѣйшее суевѣріе насъ душитъ, когда всѣ наши акціонерныя общества лопаются единственно отъ того, что оказывается недостатокъ въ честныхъ людяхъ, когда самая свобода, о которой хлопочетъ правительство, едва ли пойдетъ намъ въ прокъ, потому что мужикъ нашъ радъ самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману въ кабакѣ.
— Такъ, — перебилъ Павелъ Петровичъ, — такъ: вы во всемъ этомъ убѣдились и рѣшились сами ни за что серьёзно не приниматься.
— И рѣшились ни за что не приниматься, — угрюмо повторилъ Базаровъ. Ему вдругъ стало досадно на самого себя, зачѣмъ онъ такъ распространился передъ этимъ бариномъ.
— А только ругаться?
— И ругаться.
— И это называется нигилизмомъ?
— И это называется нигилизмомъ, — повторилъ опять Базаровъ, на этотъ разъ съ особенною дерзостью.
Павелъ Петровичъ слегка прищурился.
— Такъ вотъ какъ! — промолвилъ онъ странно спокойнымъ голосомъ. — Нигилизмъ всему горю помочь долженъ, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что́ же вы другихъ-то, хоть бы тѣхъ же обличителей, честите? Не такъ же ли вы болтаете, какъ и всѣ?
— Чѣмъ другимъ, а этимъ грѣхомъ не грѣшны, — произнесъ сквозь зубы Базаровъ.
— Такъ что жъ? вы дѣйствуете, что ли? Собираетесь дѣйствовать?
Базаровъ ничего не отвѣчалъ. Павелъ Петровичъ такъ и дрогнулъ, но тотчасъ же овладѣлъ собою.
— Гм!… Дѣйствовать, ломать… — продолжалъ онъ. — Но какъ же это ломать, не зная даже почему?
— Мы ломаемъ, потому что мы сила, — замѣтилъ Аркадій.
Павелъ Петровичъ посмотрѣлъ на своего племянника и усмѣхнулся.
— Да, сила — такъ и не даетъ отчета, — проговорилъ Аркадій и выпрямился.
— Несчастный! — возопилъ Павелъ Петровичъ; онъ рѣшительно не былъ въ состояніи крѣпиться долѣе: — хоть бы ты подумалъ, что́ въ Россіи ты поддерживаешь твоею пошлою сентенціей! Нѣтъ, это можетъ ангела изъ терпѣнія вывести! Сила! И въ дикомъ калмыкѣ, и въ монголѣ есть сила — да на что намъ она? — Намъ дорога цивилизація, да-съ, да-съ, милостивый государь; намъ дороги ея плоды. И не говорите мнѣ, что эти плоды ничтожны: послѣдній пачкунъ, un barboilleur, тапёръ, которому даютъ пять копѣекъ за вечеръ, и тѣ полезнѣе васъ, потому что они представители цивилизаціи, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вамъ только въ калмыцкой кибиткѣ сидѣть! Сила! Да вспомните наконецъ, господа сильные, что васъ всего четыре человѣка съ половиною, а тѣхъ — милліоны, которые не позволятъ вамъ попирать ногами свои священнѣйшія вѣрованія, которые раздавятъ васъ!
— Коли раздавятъ, туда и дорога, — промолвилъ Базаровъ. — Только бабушка еще на двое сказала. Насъ не такъ мало, какъ вы полагаете.
— Какъ? Вы не шутя думаете сладить, сладить съ цѣлымъ народомъ?
— Отъ копѣечной свѣчи, вы знаете, Москва сгорѣла, отвѣтилъ Базаровъ.
— Такъ, такъ. Сперва гордость почти сатанинская, потомъ глумленіе. Вотъ, вотъ чѣмъ увлекается молодежь, вотъ чему покоряются неопытныя сердца мальчишекъ! Вотъ, поглядите, одинъ изъ нихъ рядомъ съ вами сидитъ, вѣдь онъ чуть не молится на васъ, полюбуйтесь. (Аркадій отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мнѣ сказывали, что въ Римѣ наши художники въ Ватиканъ ни ногой. Рафаэля считаютъ чуть не дуракомъ, потому что это, молъ, авторитетъ; а сами безсильны и безплодны до гадости, а у самихъ фантазіи дальше «Дѣвушки у фонтана» не хватаетъ, хоть ты что́! И написана-то дѣвушка прескверно. По вашему они молодцы, не правда-ли?
— По моему, — возразилъ Базаровъ: — Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ; да и они не лучше его.
— Браво! браво! Слушай, Аркадій… вотъ какъ должны современные молодые люди выражаться! И какъ, подумаешь, имъ не идти за вами! Прежде молодымъ людямъ приходилось учиться; не хотѣлось имъ прослыть за невѣждъ, такъ они поневолѣ трудились. А теперь имъ сто́итъ сказать: все на свѣтѣ вздоръ! — и дѣло въ шляпѣ. Молодые люди обрадовались. И въ самомъ дѣлѣ, прежде они просто были болваны, а теперь они вдругъ стали нигилисты.
— Вотъ и измѣнило вамъ хваленое чувство собственнаго достоинства, — флегматически замѣтилъ Базаровъ, между тѣмъ какъ Аркадій весь вспыхнулъ и засверкалъ глазами. — Споръ нашъ зашелъ слишкомъ далеко… Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готовъ согласиться съ вами, — прибавилъ онъ, вставая, — когда вы представите мнѣ хоть одно постановленіе въ современномъ нашемъ быту, въ семейномъ или общественномъ, которое бы не вызывало полнаго и безпощаднаго отрицанія.
— Я вамъ милліоны такихъ постановленій представлю, — воскликнулъ Павелъ Петровичъ: — милліоны! Да вотъ, хоть община, напримѣръ.
Холодная усмѣшка скривила губы Базарова.
— Ну, на счетъ общины, — промолвилъ онъ: — поговорите лучше съ вашимъ братцемъ. Онъ теперь, кажется, извѣдалъ на дѣлѣ что́ такое община, круговая порука, трезвость и тому подобныя штучки.
— Семья, наконецъ, семья, такъ какъ она существуетъ у нашихъ крестьянъ! — закричалъ Павелъ Петровичъ.
— И этотъ вопросъ, я полагаю, лучше для васъ же самихъ не разбирать въ подробности. Вы, чай, слыхали о снохача́хъ? Послушайте меня, Павелъ Петровичъ, дайте себѣ денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите всѣ наши сословія, да подумайте хорошенько надъ каждымъ, а мы пока съ Аркадіемъ будемъ…
— Надо всѣмъ глумиться, — подхватилъ Павелъ Петровичъ.
— Нѣтъ, лягушекъ рѣзать. Пойдемъ, Аркадій; до свиданія, господа!
Оба пріятеля вышли. Братья остались наединѣ и сперва только посматривали другъ на друга.
— Вотъ, — началъ, наконецъ, Павелъ Петровичъ: — вотъ вамъ нынѣшняя молодежь! Вотъ они — наши наслѣдники!
— Наслѣдники, — повторилъ съ унылымъ вздохомъ Николай Петровичъ. Онъ въ теченіе всего спора сидѣлъ, какъ на угольяхъ, и только украдкой, болѣзненно взглядывалъ на Аркадія. — Знаешь, что̀ я вспомнилъ, братъ? Однажды я съ покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотѣла меня слушать… Я наконецъ сказалъ ей, что вы, молъ, меня понять не можете; мы, молъ, принадлежимъ къ двумъ различнымъ поколѣніямъ. Она ужасно обидѣлась, а я подумалъ: что̀ дѣлать? Пилюля горька — а проглотить ее нужно. Вотъ теперь настала наша очередь, и наши наслѣдники могутъ сказать намъ: вы, молъ, не нашего поколѣнія, глотайте пилюлю.
— Ты уже черезчуръ благодушенъ и скроменъ, — возразилъ Павелъ Петровичъ; — я, напротивъ, увѣренъ, что мы съ тобой гораздо правѣе этихъ господчиковъ, хотя выражаемся, можетъ-быть, нѣсколько устарѣлымъ языкомъ, vicilli, и не имѣемъ той дерзкой самонадѣянности… И такая надутая эта нынѣшняя молодежь! Спросишь иного: какого вина вы хотите, краснаго или бѣлаго? «Я имѣю привычку предпочитать красное!» отвѣчаетъ онъ басомъ и съ такимъ важнымъ лицомъ, какъ будто вся вселенная глядитъ на него въ это мгновеніе…
— Вамъ больше чаю не угодно? — промолвила Ѳеничка, просунувъ голову въ дверь: она не рѣшалась войдти въ гостиную, пока въ ней раздавались голоса спорившихъ.
— Нѣтъ, ты можешь велѣть самоваръ принять, — отвѣчалъ Николай Петровичъ, и поднялся къ ней на встрѣчу. Павелъ Петровичъ отрывисто сказалъ ему: bon soir, и ушелъ къ себѣ въ кабинетъ.
ХІ.
Полчаса спустя, Николай Петровичъ отправился въ садъ, въ свою любимую бесѣдку. На него нашли грустныя думы. Впервые онъ ясно созналъ свое разъединеніе съ сыномъ; онъ предчувствовалъ, что съ каждымъ днемъ оно будетъ становиться все больше и больше. Стало-быть, напрасно онъ, бывало, зимою въ Петербургѣ, по цѣлымъ днямъ просиживалъ надъ новѣйшими сочиненіями; напрасно прислушивался къ разговорамъ молодыхъ людей; напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово въ ихъ кипучія рѣчи. «Братъ говоритъ, что мы правы», думалъ онъ, «и отложивъ всякое самолюбіе въ сторону, мнѣ самому кажется, что они дальше отъ истины, нежели мы, а въ то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имѣемъ, какое-то преимущество надъ нами… Молодость? Нѣтъ: не одна только молодость. Не въ томъ ли состоитъ это преимущество, что въ нихъ меньше слѣдовъ барства, чѣмъ въ насъ?»
Николай Петровичъ потупилъ голову и провелъ рукой по лицу.
«Но отвергать поэзію?» подумалъ онъ опять; «не сочувствовать художеству, природѣ?»…
И онъ посмотрѣлъ кругомъ, какъ бы желая понять, какъ можно не сочувствовать природѣ. Уже вечерѣло; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую въ полверстѣ отъ сада: тѣнь отъ нея безъ конца тянулась черезъ неподвижныя поля. Мужичекъ ѣхалъ рысцой на бѣлой лошадкѣ по темной, узкой дорожкѣ вдоль самой рощи: онъ весь былъ ясно видѣнъ, весь до заплаты на плечѣ, даромъ что ѣхалъ въ тѣни; пріятно-отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи съ своей стороны забирались въ рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осинъ такимъ теплымъ свѣтомъ, что они становились похожи на стволы сосенъ, а листва ихъ почти синѣла и надъ нею поднималось блѣдно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; вѣтеръ совсѣмъ замеръ; запоздалыя пчелы лѣниво и сонливо жужжали въ цвѣтахъ сирени; мошки толклись столбомъ надъ одинокою, далеко протянутою вѣткою. «Какъ хорошо, Боже мой!» подумалъ Николай Петровичъ, и любимые стихи пришли было ему на уста: онъ вспомнилъ Аркадія, Stoff und Kraft — и умолкъ, но продолжалъ сидѣть, продолжалъ предаваться горестной и отрадной игрѣ одинокихъ думъ. Онъ любилъ помѣчтать; деревенская жизнь развила въ немъ эту способность. Давно ли онъ также мечталъ, поджидая сына на постояломъ дворикѣ, а съ тѣхъ поръ уже произошла перемѣна, уже опредѣлились, тогда еще неясныя, отношенія… и какъ! Представилась ему опять покойница жена, но не такою, какою онъ ее зналъ въ теченіи многихъ лѣтъ, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою дѣвушкой съ тонкимъ станомъ, невинно-пытливымъ взглядомъ и туго закрученною косой надъ дѣтскою шейкой. Вспомнилъ онъ, какъ онъ увидалъ ее въ первый разъ. Онъ былъ тогда еще студентомъ. Онъ встрѣтилъ ее на лѣстницѣ квартиры, въ которой онъ жилъ, и, нечаянно толкнувъ ее, обернулся, хотѣлъ извиниться, и только могъ пробормотать: «pardon, monsieur», а она наклонила голову, усмѣхнулась, и вдругъ, какъ будто испугалась и побѣжала, а на поворотѣ лѣстницы быстро взглянула на него, приняла серіозный видъ и покраснѣла. А потомъ, первыя робкія посѣщенія, полу-слова, полу-улыбки, и недоумѣніе, и грусть, и порывы, и наконецъ эта задыхающаяся радость… Куда это все умчалось? Она стала его женой, онъ былъ счастливъ, какъ немногіе на землѣ… «Но, думалъ онъ: — тѣ сладостныя, первыя мгновенья, отчего бы не жить имъ вѣчною, не умирающею жизнью?»
Онъ не старался уяснить самому себѣ свою мысль, но онъ чувствовалъ, что ему хотѣлось удержать то блаженное время чѣмъ-нибудь болѣе сильнымъ, нежели память; ему хотѣлось вновь осязать близость своей Маріи, ощутить ея теплоту и дыханіе, и ему уже чудилось, какъ будто надъ нимъ…
— Николай Петровичъ, — раздался вблизи его голосъ Ѳенички: — гдѣ вы?
Онъ вздрогнулъ. Ему не стало ни больно, ни совѣстно… Онъ не допускалъ даже возможности сравненія между женой и Ѳеничкой, но онъ пожалѣлъ о томъ, что она вздумала его отыскивать. Ея голосъ разомъ напомнилъ ему: его сѣдые волосы, его старость, его настоящее…
Волшебный миръ, въ который онъ уже вступалъ, который уже возникалъ изъ туманныхъ волнъ прошедшаго, шевельнулся — и исчезъ.
— Я здѣсь, — отвѣчалъ онъ: — я приду, ступай. «Вотъ они, слѣды-то барства», мелькнуло у него въ головѣ. Ѳеничка молча заглянула къ нему въ бесѣдку и скрылась; а онъ съ изумленіемъ замѣтилъ, что ночь успѣла наступить съ тѣхъ поръ, какъ онъ замечтался. Все потемнѣло и затихло кругомъ, и лицо Ѳенички скользнуло передъ нимъ такое блѣдное и маленькое. Онъ приподнялся и хотѣлъ возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться въ его груди, и онъ сталъ медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себѣ подъ ноги, то поднимая глаза къ небу, гдѣ уже роились и перемигивались звѣзды. Онъ ходилъ много, почти до усталости, а тревога въ немъ, какая-то ищущая, неопредѣленная, печальная тревога, все не унималась. О, какъ Базаровъ посмѣялся бы надъ нимъ, еслибъ онъ узналъ что въ немъ тогда происходило! Самъ Аркадій осудилъ бы его. У него, у сорока-четырехлѣтняго человѣка, агронома и хозяина, навертывались слезы, безпричинныя слезы; это было во-сто̀ разъ хуже віолончели.
Николай Петровичъ продолжалъ ходить, и не могъ рѣшиться войдти въ домъ, въ это мирное и уютное гнѣздо, которое такъ привѣтно глядѣло на него всѣми своими освѣщенными окнами; онъ не въ силахъ былъ разстаться съ темнотой, съ садомъ, съ ощущеніемъ свѣжаго воздуха на лицѣ, и съ этою грустію, съ этою тревогой…
На поворотѣ дорожки встрѣтился ему Павелъ Петровичъ.
— Что̀ съ тобой? — спросилъ онъ Николая Петровича: — ты блѣденъ, какъ привидѣнье; ты нездоровъ; отчего ты не ложишься?
Николаи Петровичъ объяснилъ ему въ короткихъ словахъ свое душевное состояніе, и удалился. Павелъ Петровичъ дошелъ до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднялъ глаза къ небу. Но въ его прекрасныхъ, темныхъ глазахъ не отразилось ничего, кромѣ свѣта звѣздъ. Онъ не былъ рожденъ романтикомъ, и не умѣла мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французскій ладъ мизантропическая душа…
— Знаешь ли что̀? — говорилъ въ ту же ночь Базаровъ Аркадію. — Мнѣ въ голову пришла великолѣпная мысль. Твой отецъ сказывалъ сегодня, что онъ получилъ приглашеніе отъ этого вашего знатнаго родственника. Твой отецъ не поѣдетъ; махнемъ-ка мы съ тобой въ ***; вѣдь этотъ господинъ и тебя зоветъ. Вишь какая сдѣлалась здѣсь погода; а мы прокатимся, городъ посмотримъ. Поболтаемся дней пять, шесть, и баста!
— А оттуда ты вернешься сюда?
— Нѣтъ, надо къ отцу проѣхать. Ты знаешь, онъ отъ *** въ тридцати верстахъ. Я его давно не видалъ, и мать тоже; надо стариковъ потѣшить. Они у меня люди хорошіе, особенно отецъ: презабавный. Я же у нихъ одинъ.
— И долго ты у нихъ пробудешь?
— Не думаю. Чай, скучно будетъ.
— А къ намъ на возвратномъ пути заѣдешь?
— Не знаю… посмотрю. Ну, такъ что ли? Мы отправимся?
— Пожалуй, — лѣниво замѣтилъ Аркадіи.
Онъ въ душѣ очень обрадовался предложенію своего пріятеля, но почелъ обязанностію скрыть свое чувство. Не даромъ же онъ былъ нигилистъ!
На другой день онъ уѣхалъ съ Базаровымъ въ ***. Молодежь въ Марьинѣ пожалѣла объ ихъ отъѣздѣ; Дуняша даже всплакнула… но старичкамъ вздохнулось легко.
ХІІ.
Городъ ***, куда отправились наши пріятели, состоялъ въ вѣдѣніи губернатора изъ молодыхъ, прогрессиста и деспота, какъ это сплошь да рядомъ случается на Руси. Онъ, въ теченіе перваго года своего управленія, успѣлъ перессориться не только съ губернскимъ предводителемъ, отставнымъ гвардіи штабсъ-ротмистромъ, коннымъ заводчикомъ и хлѣбосоломъ, но и съ собственными чиновниками. Возникшія по этому поводу распри приняли наконецъ такіе размѣры, что министерство въ Петербургѣ нашло необходимымъ послать довѣренное лицо съ порученіемъ разобрать все на мѣстѣ. Выборъ начальства палъ на Матвѣя Ильича Колязина, сына того Колязина, подъ попечительствомъ котораго находились нѣкогда братья Кирсановы. Онъ былъ тоже изъ «молодыхъ», то есть, ему недавно минуло сорокъ лѣтъ, но онъ уже мѣтилъ въ государственные люди и на каждой сторонѣ груди носилъ по звѣздѣ. Одна, правда, была иностранная, изъ плохенькихъ. Подобно губернатору, котораго онъ пріѣхалъ судить, онъ считался прогрессистомъ и, будучи уже тузомъ, не походилъ на бо́льшую часть тузовъ. Онъ имѣлъ о себѣ самое высокое мнѣніе; тщеславіе его не знало границъ, но онъ держался просто, глядѣлъ одобрительно, слушалъ снисходительно, и такъ добродушно смѣялся, что на первыхъ порахъ могъ даже прослыть за «чуднаго малаго». Въ важныхъ случаяхъ онъ умѣлъ однако, какъ говорится, задать пыли. «Энергія необходима», говаривалъ онъ тогда, «l’energie est la première qualité d’un homme d’état»; а со всѣмъ тѣмъ онъ обыкновенно оставался въ дуракахъ, и всякій нѣсколько опытный чиновникъ садился на него верхомъ. Матвѣй Ильичъ отзывался съ большимъ уваженіемъ о Гизо́, и старался внушить всѣмъ и каждому, что онъ не принадлежитъ къ числу рутинёровъ и отсталыхъ бюрократовъ, что онъ не оставляетъ безъ вниманія ни одного важнаго проявленія общественной жизни… Всѣ подобныя слова были ему хорошо извѣстны. Онъ даже слѣдилъ, правда съ небрежною величавостію, за развитіемъ современной литературы: такъ взрослый человѣкъ, встрѣтивъ на улицѣ процессію мальчишекъ, иногда присоединяется къ ней. Въ сущности Матвѣй Ильичъ недалеко ушелъ отъ тѣхъ государственныхъ мужей Александровскаго времени, которые, готовясь идти на вечеръ къ г-жѣ Свѣчиной, жившей тогда въ Петербургѣ, прочитывали поутру страницу изъ Кондильяка; только пріемы у него были другіе, болѣе современные. Онъ былъ ловкій придворный, большой хитрецъ, и больше ничего; въ дѣлахъ толку не зналъ, ума не имѣлъ, а умѣлъ вести свои собственныя дѣла: тутъ ужъ никто не могъ его осѣдлать, а вѣдь это главное.
Матвѣй Ильичъ принялъ Аркадія съ свойственнымъ просвѣщенному сановнику добродушіемъ, скажемъ болѣе, съ игривостію. Онъ однако изумился, когда узналъ, что приглашенные имъ родственники остались въ деревнѣ. «Чудакъ былъ твой папа всегда», замѣтилъ онъ, побрасывая кистями своего великолѣпнаго бархатнаго шлафрока, и вдругъ, обратясь къ молодому чиновнику въ благонамѣреннѣйше-застегнутомъ вицъ-мундирѣ, воскликнулъ съ озабоченнымъ видомъ: «чего?» Молодой человѣкъ, у котораго отъ продолжительнаго молчанія слиплись губы, приподнялся и съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на своего начальника. Но, озадачивъ подчиненнаго, Матвѣй Ильичъ уже не обращалъ на него вниманія. Сановники наши вообще любятъ озадачивать подчиненныхъ; способы, къ которымъ они прибѣгаютъ для достиженія этой цѣли, довольно разнообразны. Слѣдующій способъ, между прочимъ, въ большомъ употребленіи, «is quite a favorite», какъ говорятъ англичане: сановникъ вдругъ перестаетъ понимать самыя простыя слова, глухоту на себя напускаетъ. Онъ спроситъ напримѣръ: какой сегодня день?
Ему почтительнѣйше докладываютъ: «пятница сегодня, ваше с…с…с…ство».
— А? Что? Что такое? Что вы говорите? напряженно повторяетъ сановникъ.
— Сегодня пятница, ваше с…с…ство.
— Какъ? Что? Что такое пятница? какая пятница?
— Пятница, ваше с…ссс…ссс…ство, день въ недѣлѣ.
— Ну-у, ты учить меня вздумалъ?
Матвѣй Ильичъ все таки былъ сановникъ, хоть и считался либераломъ.
— Я совѣтую тебѣ, другъ мой, съѣздить съ визитомъ къ губернатору, — сказалъ онъ Аркадію: — ты понимаешь, я тебѣ это совѣтую не потому, чтобъ я придерживался старинныхъ понятіи о необходимости ѣздить къ властямъ на поклонъ, а просто потому, что губернаторъ — порядочный человѣкъ; притомъ же ты, вѣроятно, желаешь познакомиться съ здѣшнимъ обществомъ… Вѣдь ты не медвѣдь, надѣюсь? А онъ послѣ завтра даетъ большой балъ.
— Вы будете на этомъ балѣ? — спросилъ Аркадій.
— Онъ для меня его даетъ, — проговорилъ Матвѣй Ильичъ почти съ сожалѣніемъ. — Ты танцуешь?
— Танцую, только плохо.
— Это напрасно. Здѣсь есть хорошенькія, да и молодому человѣку стыдно не танцовать. Опять таки я это говорю не въ силу старинныхъ понятій; я вовсе не полагаю, что умъ долженъ находиться въ ногахъ, но байронизмъ смѣшонъ, il a fait son temps.
— Да я, дядюшка, вовсе не изъ байронизма, не…
— Я познакомлю тебя съ здѣшними барынями, я беру тебя подъ свое крылышко, — перебилъ Матвѣй Ильичъ, и самодовольно засмѣялся. — Тебѣ тепло будетъ, а?
Слуга вошелъ и доложилъ о пріѣздѣ предсѣдателя казенной палаты, сладкоглазаго старика съ сморщенными губами, который чрезвычайно любилъ природу, особенно въ лѣтній день, когда по его словамъ: «каждая пчелочка съ каждаго цвѣточка беретъ взяточку…» Аркадій удалился.
Онъ засталъ Базарова въ трактирѣ, гдѣ они остановились, и долго его уговаривалъ пойдти къ губернатору. «Нечего дѣлать!» сказалъ наконецъ Базаровъ: «взялся за гужъ — не говори, что не дюжъ. Пріѣхали смотрѣть помѣщиковъ, давай ихъ смотрѣть!» Губернаторъ принялъ молодыхъ людей привѣтливо, но не посадилъ ихъ и самъ не сѣлъ. Онъ вѣчно суетился и спѣшилъ; съ утра надѣвалъ тѣсный вицъ-мундиръ и чрезвычайно тугой галстухъ, не доѣдалъ и не допивалъ, все распоряжался. Его въ губерніи прозвали Бурдалу́, намекая тѣмъ не на извѣстнаго французскаго проповѣдника, а на бурду. Онъ пригласилъ Кирсанова и Базарова къ себѣ на балъ, и черезъ двѣ минуты пригласилъ ихъ вторично, считая ихъ уже братьями и называя ихъ Кайсаровыми.
Они шли къ себѣ домой отъ губернатора, какъ вдругъ, изъ проѣзжающихъ мимо дрожекъ, выскочилъ человѣкъ небольшого роста, въ славянофильской венгеркѣ, и съ крикомъ: «Евгеній Васильичъ!» бросился къ Базарову.
— А! это вы, герръ Ситниковъ, — проговорилъ Базаровъ, продолжая шагать по тротуару: — какими судьбами?
— Вообразите, совершенно случайно, — отвѣчалъ тотъ, и, обернувшись къ дрожкамъ, махнулъ разъ пять рукой и закричалъ: — ступай за нами, ступай! — У моего отца здѣсь дѣло, продолжалъ онъ, перепрыгивая черезъ канавку: — ну такъ онъ меня просилъ… Я сегодня узналъ о вашемъ пріѣздѣ и уже былъ у васъ… (Дѣйствительно, пріятели, возвратясь къ себѣ въ номеръ, нашли тамъ карточку съ загнутыми углами и съ именемъ Ситникова, на одной сторонѣ по-французски, на другой — славянскою вязью.) Я надѣюсь, вы не отъ губернатора!
— Не надѣйтесь, мы прямо отъ него.
— А! въ такомъ случаѣ и я къ нему пойду… Евгеній Васильичъ, познакомьте меня съ вашимъ… съ ними…
— Ситниковъ, Кирсановъ, — проворчалъ, не останавливаясь, Базаровъ.
— Мнѣ очень лестно, — началъ Ситниковъ, выступая бокомъ, ухмыляясь и поспѣшно стаскивая свои уже черезчуръ элегантныя перчатки. — Я очень много слышалъ… Я старинный знакомый Евгенія Васильича, и могу сказать — его ученикъ. Я ему обязанъ моимъ перерожденіемъ…
Аркадіи посмотрѣлъ на Базаровскаго ученика. Тревожное и тупое выраженіе сказывалось въ маленькихъ, впрочемъ пріятныхъ чертахъ его прилизаннаго лица; небольшіе, словно вдавленные глаза глядѣли пристально и безпокойно, и смѣялся онъ безпокойно: какимъ-то короткимъ, деревяннымъ смѣхомъ.
— Повѣрите ли, — продолжалъ онъ: — что когда при мнѣ Евгеній Васильевичъ въ первый разъ сказалъ, что не должно признавать авторитетовъ, я почувствовалъ такой восторгъ… словно прозрѣлъ! Вотъ, подумалъ я, наконецъ нашелъ я человѣка! Кстати, Евгеніи Васильевичъ, вамъ непремѣнно надобно сходить къ одной здѣшней дамѣ, которая совершенно въ состояніи понять васъ и для которой ваше посѣщеніе будетъ настоящимъ праздникомъ; вы, я думаю, слыхали о ней?
— Кто такая? — произнесъ нѐхотя Базаровъ.
— Кукшина, Eudoxie, Евдоксія Кукшина. Это — замѣчательная натура, émancipée въ истинномъ смыслѣ слова, передовая женщина. Знаете ли что? Пойдемте теперь къ ней всѣ вмѣстѣ. Она живетъ отсюда въ двухъ шагахъ. Мы тамъ позавтракаемъ. Вѣдь вы еще не завтракали?
— Нѣтъ еще.
— Ну, и прекрасно. Она, вы понимаете, разъѣхалась съ мужемъ, ни отъ кого не зависитъ.
— Хорошенькая она? — перебилъ Базаровъ.
— Н… нѣтъ, этого нельзя сказать.
— Такъ для какого же дьявола вы насъ къ ней зовете?
— Ну, шутникъ, шутникъ… Она намъ бутылку шампанскаго поставитъ.
— Вотъ какъ! Сейчасъ видѣнъ практическій человѣкъ. Кстати, вашъ батюшка все по откупамъ?
— По откупамъ, — торопливо проговорилъ Ситниковъ и визгливо засмѣялся. — Что же? идетъ?
— Не знаю, право.
— Ты хотѣлъ людей смотрѣть, ступай, — замѣтилъ вполголоса Аркадій.
— А вы-то что-жъ, г. Кирсановъ? — подхватилъ Ситниковъ. — Пожалуйте и вы, безъ васъ нельзя.
— Да какъ же это мы всѣ разомъ нагрянемъ?
— Ничего. Кукшина — человѣкъ чудный.
— Бутылка шампанскаго будетъ? — спросилъ Базаровъ.
— Три! воскликнулъ Ситниковъ. — За это я ручаюсь.
— Чѣмъ?
— Собственною головою.
— Лучше бы мошною батюшки. А впрочемъ, пойдемъ.
ХІІІ.
Небольшой дворянскій домикъ на московскій манеръ, въ которомъ проживала Авдотья Никитишна или (Евдоксія) Кукшина, находился въ одной изъ ново-выгорѣвшихъ улицъ города ***; извѣстно, что наши губернскіе города горятъ черезъ каждыя пять лѣтъ. У дверей, надъ криво прибитою визитною карточкой, виднѣлась ручка колокольчика, и въ передней встрѣтила пришедшихъ какая-то, не то служанка, не то компаньонка въ чепцѣ, — явные признаки прогрессивныхъ стремленій хозяйки. Ситниковъ спросилъ, дома ли Авдотья Никитишна?
— Это вы, Victor? — раздался тонкій голосъ изъ сосѣдней комнаты. — Войдите.
Женщина въ чепцѣ тотчасъ изчезла.
— Я не одинъ, промолвилъ Ситниковъ, лихо скидывая свою венгерку, подъ которою оказалось нѣчто въ родѣ поддёвки или пальто-сака, и бросая бойкій взглядъ Аркадію и Базарову.
— Все равно, — отвѣчалъ голосъ. — Entrez.
Молодые люди вошли. Комната, въ которой они очутились, походила скорѣе на рабочій кабинетъ, чѣмъ на гостиную. Бумаги, письма, толстые нумера русскихъ журналовъ, большею частью неразрѣзанные, валялись по запыленнымъ столамъ; вездѣ бѣлѣли разбросанные окурки папиросъ. На кожаномъ диванѣ полулежала дама, еще молодая, бѣлокурая, нѣсколько растрепанная, въ шелковомъ, не совсѣмъ опрятномъ, платьѣ, съ крупными браслетами на коротенькихъ рукахъ и кружевною косынкой на головѣ. Она встала съ дивана и, небрежно натягивая себѣ на плечи бархатную шубку на пожелтѣломъ горностаевомъ мѣху, лѣниво промолвила: «Здравствуйте, Victor», и пожала Ситникову руку.
— Базаровъ, Кирсановъ, — проговорилъ онъ отрывисто, въ подражаніе Базарову.
— Милости просимъ, — отвѣчала Кукшина, и, уставивъ на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснѣлъ крошечный вздернутый носикъ, прибавила: — я васъ знаю, — и пожала ему руку тоже.
Базаровъ поморщился. Въ маленькой и невзрачной фигуркѣ эманципированной женщины не было ничего безобразнаго; но выраженіе ея лица непріятно дѣйствовало на зрителя. Невольно хотѣлось спросить у ней: «Что̀ ты, голодна? Или скучаешь? Или робѣешь? Чего ты пружишься?» И у ней, какъ у Ситникова, вѣчно скребло на душѣ. Она говорила и двигалась очень развязно и въ то же время неловко: она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо, и между тѣмъ, что бы она ни дѣлала, вамъ постоянно казалось, что она именно это-то и не хотѣла сдѣлать; все у ней выходило, какъ дѣти говорятъ — нарочно, то есть не просто, не естественно.
— Да, да, я знаю васъ, Базаровъ, — повторила она. (За ней водилась привычка, свойственная многимъ провинціальнымъ и московскимъ дамамъ — съ перваго дня знакомства звать мущинъ по фамиліи). — Хотите сигару?
— Сигарку сигаркой, — подхватилъ Ситниковъ, который успѣлъ развалиться въ креслахъ и задрать ногу кверху: — а дайте-ка намъ позавтракать. Мы голодны ужасно; да велите намъ воздвигнуть бутылочку шампанскаго.
— Сибаритъ, — промолвила Евдоксія, и засмѣялась. (Когда она смѣялась, ея верхняя десна обнажалась надъ зубами). — Не правда ли, Базаровъ, онъ сибаритъ?
— Я люблю комфортъ жизни, — произнесъ съ важностію Ситниковъ. — Это не мѣшаетъ мнѣ быть либераломъ.
— Нѣтъ, это мѣшаетъ, мѣшаетъ! — воскликнула Евдоксія, и приказала однако своей прислужницѣ распорядиться и на счетъ завтрака, и на счетъ шампанскаго. — Какъ вы объ этомъ думаете? — прибавила она, обращаясь къ Базарову. — Я увѣрена, вы раздѣляете мое мнѣніе.
— Ну, нѣтъ, — возразилъ Базаровъ: — кусокъ мяса лучше куска хлѣба, даже съ химической точки зрѣнія.
— А вы занимаетесь химіей? Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику.
— Мастику? вы?
— Да, я. И знаете ли съ какою цѣлью? Куклы дѣлать, головки, чтобы не ломались. Я вѣдь тоже практическая. Но все еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женскомъ трудѣ въ Московскихъ Вѣдомостяхъ? Прочтите, пожалуйста. Вѣдь васъ интересуетъ женскій вопросъ? И школы тоже? Чѣмъ вашъ пріятель занимается? Какъ его зовутъ?
Госпожа Кукшина роняла свои вопросы одинъ за другимъ съ изнѣженной небрежностію, не дожидаясь отвѣтовъ; избалованныя дѣти такъ говорятъ съ своими няньками.
— Меня зовутъ Аркадій Николаичъ Кирсановъ, — проговорилъ Аркадій: — и я ничѣмъ не занимаюсь.
Евдоксія захохотала.
— Вотъ это мило! Что̀, вы не курите? Викторъ, вы знаете, я на васъ сердита.
— За что̀?
— Вы, говорятъ, опять стали хвалить Жоржъ Санда. Отсталая женщина и больше ничего! Какъ возможно сравнить ее съ Эмерсономъ! Она никакихъ идей не имѣетъ ни о воспитаніи, ни о физіологіи, ни о чемъ. Она, я увѣрена, и не слыхивала объ эмбріологіи, а въ наше время — какъ вы хотите безъ этого? (Евдоксія даже руки разставила). Ахъ, какую удивительную статью по этому поводу написалъ Елисѣвичъ! Это геніальный господинъ! (Евдоксія постоянно употребляла слово «господинъ» вмѣсто «человѣкъ»). Базаровъ, сядьте возлѣ меня на диванъ. Вы, можетъ-быть, не знаете, я ужасно васъ боюсь.
— Это почему? Позвольте полюбопытствовать.
— Вы опасный господинъ; вы такой критикъ. Ахъ, Боже мой! мнѣ смѣшно, я говорю, какъ какая-нибудь степная помѣщица. Впрочемъ, я дѣйствительно помѣщица. Я сама имѣніемъ управляю и, представьте, у меня староста Ероѳей — удивительный типъ, точно Патфайндеръ Купера: что-то такое въ немъ непосредственное! Я окончательно поселилась здѣсь; несносный городъ, не правда-ли? Но что дѣлать!
— Городъ какъ городъ, — хладнокровно замѣтилъ Базаровъ.
— Все такіе мелкіе интересы, вотъ что ужасно! Прежде я по зимамъ жила въ Москвѣ… но теперь тамъ обитаетъ мой благовѣрный, мсьё Кукшинъ. Да и Москва теперь… ужъ я не знаю — тоже ужъ не то. Я думаю съѣздить за границу; я въ прошломъ году уже совсѣмъ было собралась.
— Въ Парижъ, разумѣется? — спросилъ Базаровъ.
— Въ Парижъ и въ Гейдельбергъ.
— Зачѣмъ въ Гейдельбергъ?
— Помилуйте, тамъ Бунзенъ!
На это Базаровъ ничего не нашелся отвѣтить.
— Pierre Сапожниковъ… вы его знаете?
— Нѣтъ, не знаю.
— Помилуйте, Pierre Сапожниковъ… онъ еще всегда у Лидіи Хостатовой бываетъ.
— Я и ея не знаю.
— Ну вотъ онъ взялся меня проводить. Слава Богу, я свободна, у меня нѣтъ дѣтей… Что̀ это я сказала: слава Богу! Впрочемъ, это все равно.
Евдоксія свернула папироску своими побурѣвшими отъ табаку пальцами, провела по ней языкомъ, пососала ее и закурила. Вошла прислужница съ подносомъ.
— А, вотъ и завтракъ! Хотите закусить? Викторъ, откупорьте бутылку; это по вашей части.
— По моей, по моей, — пробормоталъ Ситниковъ, и опять визгливо засмѣялся.
— Есть здѣсь хорошенькія женщины? — спросилъ Базаровъ, допивая третью рюмку.
— Есть, — отвѣчала Евдоксія: — да всѣ онѣ такія пустыя. Напримѣръ, mon amie Одинцова — недурна. Жаль, что репутація у ней какая-то … Впрочемъ, это бы ничего, но никакой свободы воззрѣнія, никакой ширины, ничего… этого. Всю систему воспитанія надобно перемѣнить. Я объ этомъ уже думала; наши женщины очень дурно воспитаны.
— Ничего вы съ ними не сдѣлаете, — подхватилъ Ситниковъ. — Ихъ слѣдуетъ презирать, и я ихъ презираю, вполнѣ и совершенно! (Возможность презирать и выражать свое презрѣніе было самымъ пріятнымъ ощущеніемъ для Ситникова; онъ въ особенности нападалъ на женщинъ, не подозрѣвая того, что ему предстояло нѣсколько мѣсяцевъ спустя пресмыкаться передъ своей женой, потому только, что она была урожденная княжна Дурдолеосова.) Ни одна изъ нихъ не была бы въ состояніи понять нашу бесѣду; ни одна изъ нихъ не сто́итъ того, чтобы мы, серіозные мущины, говорили о ней!
— Да имъ совсѣмъ ненужно понимать нашу бесѣду, — промолвилъ Базаровъ.
— О комъ вы говорите? — вмѣшалась Евдоксія.
— О хорошенькихъ женщинахъ.
— Какъ? Вы, стало быть, раздѣляете мнѣніе Прудона?
Базаровъ надменно выпрямился.
— Я ничьихъ мнѣній не раздѣляю: я имѣю свои.
— Долой авторитеты! — закричалъ Ситниковъ, обрадовавшись случаю рѣзко выразиться въ присутствіи человѣка, передъ которымъ раболѣпствовалъ.
— Но самъ Маколей… — начала было Кукшина.
— Долой Маколея! — загремѣлъ Ситниковъ, — Вы заступаетесь за этихъ бабенокъ?
— Не за бабенокъ, а за права женщинъ, которыя я поклялась защищать до послѣдней капли крови.
— Долой! — Но тутъ Ситниковъ остановился. — Да я ихъ не отрицаю, промолвилъ онъ.
— Нѣтъ, я вижу, вы славянофилъ!
— Нѣтъ, я не славянофилъ, хотя конечно…
— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Вы славянофилъ. Вы послѣдователь Домостроя. Вамъ бы плетку въ руки!
— Плетка дѣло доброе, замѣтилъ Базаровъ: — только мы вотъ добрались до послѣдней капли…
— Чего? — перебила Евдоксія.
— Шампанскаго, почтеннѣйшая Авдотья Никитишна, шампанскаго — не вашей крови.
— Я не могу слышать равнодушно, когда нападаютъ на женщинъ, — продолжала Евдоксія. — Это ужасно, ужасно. Вмѣсто того чтобы нападать на нихъ, прочтите лучше книгу Мишле De l’amour. Это чудо! Господа, будемте говорить о любви, прибавила Евдоксія, томно уронивъ руку на смятую подушку дивана.
Наступило внезапное молчаніе.
— Нѣтъ, зачѣмъ говорить о любви, — промолвилъ Базаровъ: — а вотъ вы упомянули объ Одинцовой… Такъ, кажется, вы ее назвали? Кто эта барыня?
— Прелесть, прелесть! — запищалъ Ситниковъ. — Я васъ представлю. Умница, богачка, вдова. Къ сожалѣнію, она еще не довольно развита: ей бы надо съ нашею Евдоксіей поближе познакомиться. Пью ваше здоровье, Eudoxie! Чекнемтесь! «Et toc, et toc, et tin-tin-tin! Et toc, et toc, et tin-tin-tin!!…»
— Victor, вы шалунъ.
Завтракъ продолжался долго. За первою бутылкой шампанскаго послѣдовала другая, третья и даже четвертая… Евдоксія болтала безъ умолку; Ситниковъ ей вторилъ. Много толковали они о томъ, что̀ такое бракъ — предразсудокъ или преступленіе, и какіе родятся люди — одинаковые или нѣтъ? и въ чемъ собственно состоитъ индивидуальность? Дѣло дошло наконецъ до того, что Евдоксія, вся красная отъ выпитаго вина, и стуча плоскими ногтями по клавишамъ разстроеннаго фортепіано, принялась пѣть сиплымъ голосомъ сперва цыганскія пѣсни, потомъ романсъ Сеймуръ-Шиффа: «Дремлетъ сонная Гранада», а Ситниковъ повязалъ голову шарфомъ и представлялъ замиравшаго любовника, при словахъ:
Аркадій не вытерпѣлъ наконецъ. «Господа, ужъ это что-то на Бедламъ похоже стало», замѣтилъ онъ вслухъ. Базаровъ, который лишь изрѣдка вставлялъ въ разговоръ насмѣшливое слово — онъ занимался больше шампанскимъ — громко зѣвнулъ, всталъ, и, не прощаясь съ хозяйкой, вышелъ вонъ вмѣстѣ съ Аркадіемъ. Ситниковъ вскочилъ вслѣдъ за ними.
— Ну что, ну что, — спрашивалъ онъ, подобострастно забѣгая то справа, то слѣва; — вѣдь я говорилъ вамъ: замѣчательная личность! Вотъ какихъ бы намъ женщинъ побольше! Она, въ своемъ родѣ, высоко-нравственное явленіе.
— А это заведеніе твоего отца тоже нравственное явленіе? — промолвилъ Базаровъ, ткнувъ пальцемъ на кабакъ, мимо котораго они въ это мгновеніе проходили.
Ситниковъ опять засмѣялся съ визгомъ. Онъ очень стыдился своего происхожденія, и не зналъ, чувствовать ли ему себя польщеннымъ или обиженнымъ отъ неожиданнаго тыканья Базарова.
ХІѴ.
Нѣсколько дней спустя состоялся балъ у губернатора. Матвѣй Ильичъ былъ настоящимъ «героемъ праздника», губернскій предводитель объявлялъ всѣмъ и каждому, что онъ пріѣхалъ собственно изъ уваженія къ нему, а губернаторъ даже и на балѣ, даже оставаясь неподвижнымъ, продолжалъ «распоряжаться». Мягкость въ обращеніи Матвѣя Ильича могла равняться только съ его величавостью. Онъ ласкалъ всѣхъ — однихъ съ оттѣнкомъ гадливости, другихъ съ оттѣнкомъ уваженія; разсыпался «en vrai chevalier français» передъ дамами и безпрестанно смѣялся крупнымъ, звучнымъ и одинокимъ смѣхомъ, какъ оно и слѣдуетъ сановнику. Онъ потрепалъ по спинѣ Аркадія и громко назвалъ его «племянничкомъ», удостоилъ Базарова, облеченнаго въ староватый фракъ, — разсѣяннаго, но снисходительнаго взгляда вскользь, черезъ щеку, и неяснаго, но привѣтливаго мычанья, въ которомъ только и можно было разобрать, что «я»… да «ссьма»; подалъ палецъ Ситникову и улыбнулся ему, но уже отвернувъ голову; даже самой Кукшиной, явившейся на балъ безо всякой кринолины и въ грязныхъ перчаткахъ, но съ райскою птицею въ волосахъ, даже Кукшиной онъ сказалъ: «enchanté». Народу было про́пасть, и въ кавалерахъ не было недостатка; штатскіе болѣе тѣснились вдоль стѣнъ, но военные танцовали усердно, особенно одинъ изъ нихъ, который прожилъ недѣль шесть въ Парижѣ, гдѣ онъ выучился разнымъ залихватскимъ восклицаньямъ въ родѣ: «zut», «Ah fichtrrre», «pst, pst, mon bibi» и т. п. Онъ произносилъ ихъ въ совершенствѣ, съ настоящимъ парижскимъ шикомъ, и въ то же время говорилъ: «si j’aurias» вмѣсто «si j’avais», «absolument» въ смыслѣ: «непремѣнно», словомъ, выражался на томъ великорусско-французскомъ нарѣчіи, надъ которымъ такъ смѣются французы, когда они не имѣютъ нужды увѣрять нашу братью, что мы говоримъ на ихъ языкѣ, какъ ангелы, «comme des anges».
Аркадій танцовалъ плохо, какъ мы уже знаемъ, а Базаровъ вовсе не танцовалъ: они оба помѣстились въ уголкѣ: къ нимъ присоединился Ситниковъ. Изобразивъ на лицѣ своемъ презрительную насмѣшку и отпуская ядовитыя замѣчанія, онъ дерзко поглядывалъ кругомъ и, казалось, чувствовалъ истинное наслажденіе. Вдругъ лицо его измѣнилось и, обернувшись къ Аркадію, онъ, какъ бы съ смущеніемъ, проговорилъ: «Одинцова пріѣхала».
Аркадій оглянулся и увидалъ женщину высокаго роста въ черномъ платьѣ, остановившуюся въ дверяхъ залы. Она поразила его достоинствомъ своей осанки. Обнаженныя ея руки красиво лежали вдоль стройнаго стана; красиво падали съ блестящихъ волосъ на покатыя плечи легкія вѣтки фуксій; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядѣли свѣтлые глаза изъ-подъ немного-нависшаго бѣлаго лба, и губы улыбались едва замѣтною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой вѣяло отъ ея лица.
— Вы съ ней знакомы? — спросилъ Аркадій Ситникова.
— Коротко. Хотите я васъ представлю?
— Пожалуй… послѣ этой кадрили.
Базаровъ также обратилъ вниманіе на Одинцову.
— Это что за фигура? — проговорилъ онъ. — На остальныхъ бабъ не похожа.
Дождавшись конца кадрили, Ситниковъ провелъ Аркадія къ Одинцовой; но едва ли онъ былъ коротко съ ней знакомъ: и самъ онъ запутался въ рѣчахъ своихъ, и она глядѣла на него съ нѣкоторымъ изумленіемъ. Однако лицо ея приняло радушное выраженіе, когда она услышала фамилію Аркадія. Она спросила его, не сынъ ли онъ Николая Петровича?
— Точно такъ.
— Я видѣла вашего батюшку два раза, и много слышала о немъ, — продолжала она; — я очень рада съ вами познакомиться.
Въ это мгновеніе подлетѣлъ къ ней какой-то адъютантъ и пригласилъ ее на кадриль. Она согласилась.
— Вы развѣ танцуете? — почтительно спросилъ Аркадій.
— Танцую. А вы почему думаете, что я не танцую? Или я вамъ кажусь слишкомъ стара?
— Помилуйте, какъ можно… Но въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ пригласить васъ на мазурку.
Одинцова снисходительно усмѣхнулась.
— Извольте, — сказала она и посмотрѣла на Аркадія, не то чтобы свысока, а такъ, какъ замужнія сестры смотрятъ на очень молоденькихъ братьевъ. Одинцова была немного старше Аркадія, ей пошелъ двадцать девятый годъ, но въ ея присутствіи онъ чувствовалъ себя школьникомъ, студентикомъ, точно разница лѣтъ между ними была гораздо значительнѣе. Матвѣй Ильичъ приблизился къ ней съ величественнымъ видомъ и подобострастными рѣчами. Аркадій отошелъ въ сторону, но продолжалъ наблюдать за нею: онъ не спускалъ съ нея глазъ и во время кадрили. Она такъ же непринужденно разговаривала съ своимъ танцоромъ, какъ и съ сановникомъ, тихо поводила головой и глазами, и раза два тихо засмѣялась. Носъ у ней былъ немного толстъ, какъ почти у всѣхъ русскихъ, и цвѣтъ кожи не былъ совершенно чистъ; со всѣмъ тѣмъ Аркадій рѣшилъ, что онъ еще никогда не встрѣчалъ такой прелестной женщины. Звукъ ея голоса не выходилъ у него изъ ушей; самыя складки ея платья, казалось, ложились у ней иначе, чѣмъ у другихъ, стройнѣе и шире, и движенія ея были особенно плавны и естественны въ одно и то же время.
Аркадій ощущалъ на сердцѣ нѣкоторую робость, когда, при первыхъ звукахъ мазурки, онъ усаживался возлѣ своей дамы и, готовясь вступить въ разговоръ, только проводилъ рукой по волосамъ и не находилъ единаго слова. Но онъ робѣлъ и волновался недолго; спокойствіе Одинцовой сообщилось и ему: четверти часа не прошло, какъ ужъ онъ свободно разсказывалъ о своемъ отцѣ, дядѣ, о жизни въ Петербургѣ и въ деревнѣ. Одинцова слушала его съ вѣжливымъ участіемъ, слегка раскрывая и закрывая вѣеръ; болтовня его прерывалась, когда ее выбирали кавалеры; Ситниковъ, между прочимъ, пригласилъ ее два раза. Она возвращалась, садилась снова, брала вѣеръ, и даже грудь ея не дышала быстрѣе, а Аркадій опять принимался болтать, весь проникнутый счастіемъ находиться въ ея близости, говорить съ ней, глядя въ ея глаза, въ ея прекрасный лобъ, во все ея милое, важное и умное лицо. Сама она говорила мало, но знаніе жизни сказывалось въ ея словахъ; по инымъ ея замѣчаніямъ Аркадій заключилъ, что эта молодая женщина уже успѣла перечувствовать и передумать многое…
— Съ кѣмъ вы это стояли? — спросила она его: — когда г-нъ Ситниковъ подвелъ васъ ко мнѣ?
— А вы его замѣтили? — спросилъ въ свою очередь Аркадій. — Не правда ли, какое у него славное лицо? Это нѣкто Базаровъ, мой пріятель.
Аркадій принялся говорить о «своемъ пріятелѣ».
Онъ говорилъ о немъ такъ подробно и съ такимъ восторгомъ, что Одинцова обернулась къ нему и внимательно на него посмотрѣла. Между тѣмъ мазурка приближалась къ концу. Аркадію стало жалко разстаться съ своей дамой: онъ такъ хорошо провелъ съ ней около часа! Правда, онъ въ теченіи всего этого времени постоянно чувствовалъ, какъ будто она къ нему снисходила, какъ будто ему слѣдовало быть ей благодарнымъ… но молодыя сердца не тяготятся этимъ чувствомъ.
Музыка умолкла.
— Merci, — промолвила Одинцова, вставая. — Вы обѣщали мнѣ посѣтить меня, привезите же съ собой и вашего пріятеля. Мнѣ будетъ очень любопытно видѣть человѣка, который имѣетъ смѣлость ни во что не вѣрить.
Губернаторъ подошелъ къ Одинцовой, объявилъ, что ужинъ готовъ, и съ озабоченнымъ лицомъ подалъ ей руку. Уходя, она обернулась, чтобы въ послѣдній разъ улыбнуться и кивнуть Аркадію. Онъ низко поклонился, посмотрѣлъ ей вслѣдъ (какъ строенъ показался ему ея станъ, облитый сѣроватымъ блескомъ чернаго шелка!) и подумавъ: «въ это мгновенье она уже забыла о моемъ существованіи», — почувствовалъ на душѣ какое-то изящное смиреніе…
— Ну что? — спросилъ Базаровъ Аркадія, какъ только тотъ вернулся къ нему въ уголокъ. — Получилъ удовольствіе? Мнѣ сейчасъ сказывалъ одинъ баринъ, что эта госпожа — ой, ой, ой; да баринъ-то, кажется, дуракъ. Ну, а по твоему, что̀ она, точно — ой, ой, ой?
— Я этого опредѣленья не совсѣмъ понимаю, — отвѣчалъ Аркадій.
— Вотъ еще! Какой невинный!
— Въ такомъ случаѣ я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила — безспорно, но она такъ холодно и строго себя держитъ, что…
— Въ тихомъ омутѣ… ты знаешь! — подхватилъ Базаровъ. — Ты говоришь, она холодна. Въ этомъ-то самый вкусъ и есть. Вѣдь ты любишь мороженое?
— Можетъ-быть, — пробормоталъ Аркадій, — я объ этомъ судить не могу. Она желаетъ съ тобой познакомиться, и просила меня, чтобъ я привезъ тебя къ ней.
— Воображаю, какъ ты меня расписывалъ! Впрочемъ, ты поступилъ хорошо. Вези меня. Кто бы она ни была — просто ли губернская львица, или «эманципе́» въ родѣ Кукшиной, только у ней такія плечи, какихъ я не видывалъ давно.
Аркадія покоробило отъ цинизма Базарова, но — какъ это часто случается — онъ упрекнулъ своего пріятеля не за то именно, что́ ему въ немъ не понравилось…
— Отчего ты не хочешь допустить свободы мысли въ женщинахъ? — проговорилъ онъ вполголоса.
— Оттого, братецъ, что, по моимъ замѣчаніямъ, свободно мыслятъ между женщинами только уроды.
Разговоръ на этомъ прекратился. Оба молодыхъ человѣка уѣхали тотчасъ послѣ ужина. Кукшина нервически злобно, но не безъ робости, засмѣялась имъ во слѣдъ: ея самолюбіе было глубоко уязвлено тѣмъ, что ни тотъ, ни другой не обратилъ на нее вниманія. Она оставалась позже всѣхъ на балѣ, и въ четвертомъ часу ночи протанцовала польку-мазурку съ Ситниковымъ на парижскій манеръ. Этимъ поучительнымъ зрѣлищемъ и завершился губернаторскій праздникъ.
ХѴ.
— Посмотримъ, къ какому разряду млекопитающихъ принадлежитъ сія особа, — говорилъ на слѣдующій день Аркадію Базаровъ, поднимаясь вмѣстѣ съ нимъ по лѣстницѣ гостинницы, въ которой остановилась Одинцова. — Чувствуетъ мой носъ, что тутъ что-то не ладно.
— Я тебѣ удивляюсь! — воскликнулъ Аркадій. — Какъ? Ты, ты, Базаровъ, придерживаешься той узкой морали, которую…
— Экой ты чудакъ! — небрежно перебилъ Базаровъ. — Развѣ ты не знаешь, что на нашемъ нарѣчіи и для нашего брата «не ладно» значитъ «ладно»? Пожива есть, значитъ. Не самъ ли ты сегодня говорилъ, что она странно вышла замужъ, хотя по мнѣнію моему, выдти за богатаго старика — дѣло ничуть не странное, а напротивъ, благоразумное. Я городскимъ толкамъ не вѣрю; но люблю думать, какъ говоритъ нашъ образованный губернаторъ, что они справедливы.
Аркадій ничего не отвѣчалъ и постучался въ дверь номера. Молодой слуга въ ливреѣ ввелъ обоихъ пріятелей въ большую комнату, меблированную дурно, какъ всѣ комнаты русскихъ гостинницъ, но уставленную цвѣтами. Скоро появилась сама Одинцова въ простомъ утреннемъ платьѣ. Она казалась еще моложе при свѣтѣ весенняго солнца. Аркадій представилъ ей Базарова, и съ тайнымъ удивленіемъ замѣтилъ, что онъ какъ будто сконфузился, между тѣмъ какъ Одинцова оставалась совершенно спокойною, по вчерашнему. Базаровъ самъ почувствовалъ, что сконфузился, и ему стало досадно. «Вотъ тебѣ разъ! — бабы испугался!» подумалъ онъ, и развалясь въ креслѣ, не хуже Ситникова, заговорилъ преувеличенно развязно, а Одинцова не спускала съ него своихъ ясныхъ глазъ.
Анна Сергѣевна Одинцова родилась отъ Сергѣя Николаевича Локтева, извѣстнаго красавца, афериста и игрока, который, продержавшись и прошумѣвъ лѣтъ пятнадцать въ Петербургѣ и въ Москвѣ, кончилъ тѣмъ, что проигрался въ прахъ и принужденъ былъ поселиться въ деревнѣ, гдѣ впрочемъ скоро умеръ, оставивъ крошечное состояніе двумъ своимъ дочерямъ, Аннѣ — двадцати и Катеринѣ — двѣнадцати лѣтъ. Мать ихъ, изъ обѣднѣвшаго рода князей X……ъ, скончалась въ Петербургѣ, когда мужъ ея находился еще въ полной силѣ. Положеніе Анны, послѣ смерти отца, было очень тяжело. Блестящее воспитаніе, полученное ею въ Петербургѣ, не подготовило ее къ перенесенію заботъ по хозяйству и по дому, — къ глухому деревенскому житью. Она не знала никого рѣшительно въ цѣломъ околоткѣ, и посовѣтоваться ей было не съ кѣмъ. Отецъ ея старался избѣгать сношеній съ сосѣдями; онъ ихъ презиралъ, и они его презирали, каждый по своему. Она однако не потеряла головы и немедленно выписала къ себѣ сестру своей матери, княжну Авдотью Степановну X……ю, злую и чванную старуху, которая, поселившись у племянницы въ домѣ, забрала себѣ всѣ лучшія комнаты, ворчала и брюзжала съ утра до вечера, и даже по саду гуляла не иначе, какъ въ сопровожденіи единственнаго своего крѣпостного человѣка, угрюмаго лакея въ изношенной гороховой ливреѣ съ голубымъ позументомъ и въ треуголкѣ. Анна терпѣливо выносила всѣ причуды тетки, исподволь занималась воспитаніемъ сестры и, казалось, уже примирилась съ мыслію увянуть въ глуши… Но судьба судила ей другое. Ее случайно увидѣлъ нѣкто Одинцовъ, очень богатый человѣкъ, лѣтъ сорока-шести, чудакъ, ипохондрикъ, пухлый, тяжелый и кислый, впрочемъ, не глупый и не злой; влюбился въ нее и предложилъ ей руку. Она согласилась быть его женой, — а онъ пожилъ съ ней лѣтъ шесть и, умирая, упрочилъ за ней все свое состояніе. Анна Сергѣевна около года послѣ его смерти не выѣзжала изъ деревни; потомъ отправилась вмѣстѣ съ сестрой за границу, по побывала только въ Германіи; соскучилась и вернулась на жительство въ свое любезное Никольское, отстоявшее верстъ сорокъ отъ города ***. Тамъ у ней былъ великолѣпный, отлично-убранный домъ, прекрасный садъ съ оранжереями: покойный Одинцовъ ни въ чемъ себѣ не отказывалъ. Въ городъ Анна Сергѣевна являлась очень рѣдко, большею частью по дѣламъ и то не на долго. Ея не любили въ губерніи, ужасно кричали по поводу ея брака съ Одинцовымъ, разсказывали про нее всевозможныя небылицы, увѣряли, что она помогала отцу въ его шулерскихъ продѣлкахъ, что и за границу она ѣздила недаромъ, а изъ необходимости скрыть несчастныя послѣдствія… «Вы понимаете чего?» договаривали негодующіе разскащики. — «Прошла черезъ огонь и воду», говорили о ней; а извѣстный губернскій острякъ обыкновенно прибавлялъ: «и черезъ мѣдныя трубы». Всѣ эти толки доходили до нея; но она пропускала ихъ мимо ушей: характеръ у нея былъ свободный и довольно рѣшительный.
Одинцова сидѣла, прислонясь къ спинкѣ креселъ и, положивъ руку на руку, слушала Базарова. Онъ говорилъ, противъ обыкновенія, довольно много и явно старался занять свою собесѣдницу, что̀ опять удивило Аркадія. Онъ не могъ рѣшить, достигалъ ли Базаровъ своей цѣли. По лицу Анны Сергѣевны трудно было догадаться, какія она испытывала впечатлѣнія: оно сохраняло одно и то же выраженіе, привѣтливое, тонкое; ея прекрасные глаза свѣтились вниманіемъ, но вниманіемъ безмятежнымъ. Ломаніе Базарова, въ первыя минуты посѣщенія, непріятно подѣйствовало на нее, какъ дурной запахъ или рѣзкій звукъ; но она тотчасъ же поняла, что онъ чувствовалъ смущеніе, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а въ пошлости никто бы не упрекнулъ Базарова. Аркадію пришлось въ тотъ день не переставать удивляться. Онъ ожидалъ, что Базаровъ заговоритъ съ Одинцовой, какъ съ женщиной умною, о своихъ убѣжденіяхъ и воззрѣніяхъ: она же сама изъявила желаніе послушать человѣка, «который имѣетъ смѣлость ничему не вѣрить», но вмѣсто того Базаровъ толковалъ о медицинѣ, о гомеопатіи, о ботаникѣ. Оказалось, что Одинцова не теряла времени въ уединеніи: она прочла нѣсколько хорошихъ книгъ и выражалась правильнымъ русскимъ языкомъ. Она навела рѣчь на музыку, но замѣтивъ, что Базаровъ не признаетъ искусства, потихоньку возвратилась къ ботаникѣ, хотя Аркадій и пустился было толковать о значеніи народныхъ мелодій. Одинцова продолжала обращаться съ нимъ какъ съ младшимъ братомъ: казалось, она цѣнила въ немъ доброту и простодушіе молодости — и только. Часа три слишкомъ длилась бесѣда неторопливая, разнообразная и живая.
Пріятели наконецъ поднялись и стали прощаться. Анна Сергѣевна ласково поглядѣла на нихъ, протянула обоимъ свою красивую, бѣлую руку и, подумавъ немного, съ нерѣшительною, но хорошею улыбкой проговорила:
— Если вы, господа, не боитесь скуки, пріѣзжайте ко мнѣ въ Никольское.
— Помилуйте, Анна Сергѣевна, — воскликнулъ Аркадій, — я за особенное счастье почту…
— А вы, мсьё Базаровъ?
Базаровъ только поклонился, — и Аркадію въ послѣдній разъ пришлось удивиться: онъ замѣтилъ, что пріятель его покраснѣлъ.
— Ну? — говорилъ онъ ему на улицѣ: — ты все того же мнѣнія, что она — ой, ой, ой?
— А кто ее знаетъ! Вишь, какъ она себя заморозила! — возразилъ Базаровъ и, помолчавъ немного, прибавилъ: — герцогиня, владѣтельная особа. Ей бы только шлейфъ сзади носить, да корону на головѣ.
— Наши герцогини такъ по-русски не говорятъ, — замѣтилъ Аркадій.
— Въ передѣлѣ была, братецъ ты мой, нашего хлѣба покушала.
— А все-таки она прелесть, — промолвилъ Аркадій.
— Этакое богатое тѣло! — продолжалъ Базаровъ: — хоть сейчасъ въ анатомическій театръ.
— Перестань ради Бога, Евгеній! это ни на что́ не похоже.
— Ну, не сердись, нѣженка. Сказано — первый сортъ. Надо будетъ поѣхать къ ней.
— Когда?
— Да хоть послѣ завтра. Что́ намъ здѣсь дѣлать-то! Шампанское съ Кукшиной пить? Родственника твоего, либеральнаго сановника, слушать?… Послѣ завтра же и махнемъ. Кстати — и моего отца усадьбишка оттуда не далеко. Вѣдь это Никольское по *** дорогѣ?
— Да.
— Optime. Нечего мѣшкать; мѣшкаютъ одни дураки — да умники. Я тебѣ говорю: богатое тѣло!
Три дня спустя, оба пріятеля катили по дорогѣ въ Никольское. День стоялъ свѣтлый и не слишкомъ жаркій, и ямскія сытыя лошадки дружно бѣжали, слегка помахивая своими закрученными и заплетенными хвостами. Аркадій глядѣлъ на дорогу и улыбался, самъ не зная чему.
— Поздравь меня, — воскликнулъ вдругъ Базаровъ, — сегодня 22-е іюня, день моего ангела. Посмотримъ, какъ-то онъ обо мнѣ печется. Сегодня меня дома ждутъ, — прибавилъ онъ, понизивъ голосъ… — Ну, подождутъ, что за важность!
ХѴІ.
Усадьба, въ которой жила Анна Сергѣевна, стояла на пологомъ, открытомъ холмѣ, въ недальнемъ разстояніи отъ желтой каменной церкви съ зеленою крышей, бѣлыми колоннами и живописью al fresco надъ главнымъ входомъ, представлявшею «Воскресеніе Христово» въ «итальянскомъ» вкусѣ. Особенно замѣчателенъ своими округленными контурами былъ распростертый на первомъ планѣ смуглый воинъ въ шишакѣ. За церковью тянулось въ два ряда длинное село съ кое-гдѣ мелькающими трубами надъ соломенными крышами. Господскій домъ былъ построенъ въ одномъ стилѣ съ церковью, въ томъ стилѣ, который извѣстенъ у насъ подъ именемъ Александровскаго; домъ этотъ былъ также выкрашенъ желтою краской, и крышу имѣлъ зеленую, и бѣлыя колонны, и фронтонъ съ гербомъ. Губернскій архитекторъ воздвигнулъ оба зданія съ одобренія покойнаго Одинцова, не терпѣвшаго никакихъ пустыхъ и самопроизвольныхъ, какъ онъ выражался, нововведеній. Къ дому съ обѣихъ сторонъ прилегали темныя деревья стариннаго сада, аллея стриженныхъ ёлокъ вела къ подъѣзду.
Пріятелей нашихъ встрѣтили въ передней два рослые лакея въ ливреѣ; одинъ изъ нихъ тотчасъ побѣжалъ за дворецкимъ. Дворецкій, толстый человѣкъ въ черномъ фракѣ, немедленно явился и направилъ гостей по устланной коврами лѣстницѣ въ особую комнату, гдѣ уже стояли двѣ кровати со всѣми принадлежностями туалета. Въ домѣ видимо царствовалъ порядокъ: все было чисто, всюду пахло какимъ-то приличнымъ запахомъ, точно въ министерскихъ пріемныхъ.
— Анна Сергѣевна просятъ васъ пожаловать къ нимъ черезъ полчаса, — доложилъ дворецкій; — не будетъ ли отъ васъ, покамѣстъ, какихъ приказаній?
— Никакихъ приказаній не будетъ, почтеннѣйшій, — отвѣтилъ Базаровъ: — развѣ рюмку водочки соблаговолите поднести.
— Слушаю-съ, — промолвилъ дворецкій не безъ недоумѣнья, и удалился, скрипя сапогами.
— Какой гранжанръ! — замѣтилъ Базаровъ: — кажется, это такъ по вашему называется? Герцогиня, да и полно.
— Хороша герцогиня, — возразилъ Аркадій, — съ перваго раза пригласила къ себѣ такихъ сильныхъ аристократовъ, каковы мы съ тобой.
— Особенно я, будущій лѣкарь, и лѣкарскій сынъ, и дьячковскій внукъ… Вѣдь ты знаешь, что я внукъ дьячка?…
— Какъ Сперанскій, — прибавилъ Базаровъ послѣ небольшого молчанія и скрививъ губы. — А все таки избаловала она себя; охъ, какъ избаловала себя эта барыня! Ужъ не фраки ли намъ надѣть?
Аркадіи только плечомъ пожалъ… но и онъ чувствовалъ небольшое смущеніе.
Полчаса спустя Базаровъ, съ Аркадіемъ сошли въ гостиную. Это была просторная, высокая комната, убранная довольно роскошно, но безъ особеннаго вкуса. Тяжелая, дорогая мебель стояла въ обычномъ чопорномъ порядкѣ вдоль стѣнъ, обитыхъ коричневыми обоями съ золотыми разводами; покойный Одинцовъ выписалъ ее изъ Москвы черезъ своего пріятеля и комиссіонера, виннаго торговца. Надъ среднимъ диваномъ висѣлъ портретъ обрюзглаго бѣлокураго мущины — и, казалось, недружелюбно глядѣлъ на гостей. «Должно быть самъ», шепнулъ Базаровъ Аркадію и, сморщивъ носъ, прибавилъ: «аль удрать?» Но въ это мгновенье вошла хозяйка. На ней было легкое барежевое платье; гладко зачесанные за уши волосы придавали дѣвическое выраженіе ея чистому и свѣжему лицу.
— Благодарствуйте, что сдержали слово, — начала она; — погостите у меня: здѣсь, право, недурно. Я васъ познакомлю съ моей сестрою, она хорошо играетъ на фортепіано. Вамъ, мсьё Базаровъ, это все равно; но вы, мсьё Кирсановъ, кажется, любите музыку; кромѣ сестры у меня живетъ старушка тетка, да сосѣдъ одинъ иногда наѣзжаетъ въ карты играть: вотъ и все наше общество. А теперь сядемъ.
Одинцова произнесла весь этотъ маленькій спичъ съ особенною отчетливостью, словно она наизусть его выучила; потомъ она обратилась къ Аркадію. Оказалось, что мать ея знавала Аркадіеву мать, и была даже повѣренною ея любви къ Николаю Петровичу. Аркадіи съ жаромъ заговорилъ о покойницѣ; а Базаровъ между тѣмъ принялся разсматривать альбомы. «Какой я смирненькій сталъ», думалъ онъ про себя.
Красивая борзая собака съ голубымъ ошейникомъ вбѣжала въ гостиную, стуча ногтями по полу, а вслѣдъ за нею вошла дѣвушка лѣтъ восемнадцати, черноволосая и смуглая, съ нѣсколько круглымъ, но пріятнымъ лицомъ, съ небольшими темными глазами. Она держала въ рукахъ корзину, наполненную цвѣтами. — «Вотъ вамъ и моя Катя», проговорила Одинцова, указавъ на нее движеніемъ головы.
Катя слегка присѣла, помѣстилась возлѣ сестры и принялась разбирать цвѣты. Борзая собака, имя которой было Фифи, подошла, махая хвостомъ, поочередно къ обоимъ гостямъ, и ткнула каждаго изъ нихъ своимъ холоднымъ носомъ въ руку.
— Это ты все сама нарвала? — спросила Одинцова.
— Сама, — отвѣчала Катя.
— А тетушка придетъ къ чаю?
— Придетъ.
Когда Катя говорила, она очень мило улыбалась, застѣнчиво и откровенно, и глядѣла, какъ-то забавно-сурово, снизу вверхъ. Все въ ней было еще молодо-зелено: и голосъ, и пушокъ на всемъ лицѣ, и розовыя руки съ бѣловатыми кружка́ми на ладоняхъ, и чуть чуть сжатыя плечи… Она безпрестанно краснѣла и быстро переводила духъ.
Одинцова обратилась къ Базарову.
— Вы изъ приличія разсматриваете картинки, Евгеній Васильичъ, — начала она. — Васъ это не занимаетъ. Подвиньтесь-ка лучше къ намъ, и давайте поспоримте о чемъ-нибудь.
Базаровъ приблизился.
— О чемъ прикажете-съ? — промолвилъ онъ.
— О чемъ хотите. Предупреждаю васъ, что я ужасная спорщица.
— Вы?
— Я. Васъ это какъ будто удивляетъ. Почему?
— Потому что, сколько я могу судить, у васъ нравъ спокойный и холодный, а для спора нужно увлеченіе.
— Какъ это вы успѣли меня узнать такъ скоро? Я, во-первыхъ, нетерпѣлива и настойчива, спросите лучше Катю; а во-вторыхъ, я очень легко увлекаюсь.
Базаровъ поглядѣлъ на Анну Сергѣевну.
— Можетъ-быть, вамъ лучше знать. Итакъ, вамъ угодно спорить, — извольте. Я разсматривалъ виды Саксонской Швейцаріи въ вашемъ альбомѣ, а вы мнѣ замѣтили, что это меня занять не можетъ. Вы это сказали оттого, что не предполагаете во мнѣ художественнаго смысла, — да, во мнѣ дѣйствительно его нѣтъ; но эти виды могли меня заинтересовать съ точки зрѣнія геологической, съ точки зрѣнія формаціи горъ, напримѣръ.
— Извините; какъ геологъ, вы скорѣе къ книгѣ прибѣгнете, къ спеціальному сочиненію, а не къ рисунку.
— Рисунокъ наглядно представитъ мнѣ то, что въ книгѣ изложено на цѣлыхъ десяти страницахъ.
Анна Сергѣевна помолчала.
— И такъ-таки у васъ ни капельки художественнаго смысла нѣтъ? — промолвила она, облокотясь на столъ, и этимъ самымъ движеніемъ приблизивъ свое лицо къ Базарову. — Какъ же вы это безъ него обходитесь?
— А на что̀ онъ нуженъ, позвольте спросить?
— Да хоть на то, чтобъ умѣть узнавать и изучать людей.
Базаровъ усмѣхнулся.
— Во-первыхъ, на это существуетъ жизненный опытъ; а, во-вторыхъ, доложу вамъ, изучать отдѣльныя личности не стоитъ труда. Всѣ люди другъ на друга похожи, какъ тѣломъ, такъ и душой; у каждаго изъ насъ мозгъ, селезенка, сердце, легкія одинаково устроены; и такъ-называемыя нравственныя качества одни и тѣ же у всѣхъ: небольшія видоизмѣненія ничего не значатъ. Достаточно одного человѣческаго экземпляра, чтобы судить обо всѣхъ другихъ. Люди, что̀ деревья въ лѣсу; ни одинъ ботаникъ не станетъ заниматься каждою отдѣльною березой.
Катя, которая, не спѣша, подбирала цвѣтокъ къ цвѣтку, съ недоумѣніемъ подняла глаза на Базарова, — и встрѣтивъ его быстрый и небрежный взглядъ, вспыхнула вся до ушей. Анна Сергѣевна покачала головой.
— Деревья въ лѣсу, — повторила она. — Стало-быть, по вашему нѣтъ разницы между глупымъ и умнымъ человѣкомъ, между добрымъ и злымъ?
— Нѣтъ, есть: какъ между больнымъ и здоровымъ. Легкія у чахоточнаго не въ томъ положеніи, какъ у насъ съ вами, хоть устроены одинаково. Мы приблизительно знаемъ, отчего происходятъ тѣлесные недуги; а нравственныя болѣзни происходятъ отъ дурного воспитанія, отъ всякихъ пустяковъ, которыми съизмала набиваютъ людскія головы, отъ безобразнаго состоянія общества, однимъ словомъ. Исправьте общество, и болѣзней не будетъ.
Базаровъ говорилъ все это съ такимъ видомъ, какъ будто въ то же время думалъ про себя: «вѣрь мнѣ, или не вѣрь, это мнѣ все едино!» Онъ медленно проводилъ своими длинными пальцами по бакенбардамъ, а глаза его бѣгали по угламъ.
— И вы полагаете, — промолвила Анна Сергѣевна, — что, когда общество исправится, уже не будетъ ни глупыхъ, ни злыхъ людей?
— По крайней мѣрѣ, при правильномъ устройствѣ общества, совершенно будетъ равно, глупъ ли человѣкъ или уменъ, золъ или добръ.
— Да, понимаю; у всѣхъ будетъ одна и та же селезенка.
— Именно такъ-съ, сударыня.
Одинцова обратилась къ Аркадію.
— А ваше какое мнѣніе, Аркадій Николаевичъ?
— Я согласенъ съ Евгеніемъ, — отвѣчалъ онъ.
Катя поглядѣла на него изподлобья.
— Вы меня удивляете, господа, — промолвила Одинцова; — но мы еще съ вами потолкуемъ. А теперь, я слышу, тетушка идетъ чай пить; мы должны пощадить ея уши.
Тетушка Анны Сергѣевны, княжна X……ая, худенькая и маленькая женщина съ сжатымъ въ кулачокъ лицомъ и неподвижными, злыми глазами подъ сѣдою накладкой, вошла и, едва поклонившись гостямъ, опустилась въ широкое бархатное кресло, на которое никто, кромѣ ея, не имѣлъ права садиться. Катя поставила ей скамейку подъ ноги; старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками подъ желтою шалью, покрывавшею почти все ея тщедушное тѣло. Княжна любила желтый цвѣтъ: у ней и на чепцѣ были яркожелтыя ленты.
— Какъ вы почивали, тетушка? — спросила Одинцова, возвысивъ голосъ.
— Опять эта собака здѣсь, — проворчала въ отвѣтъ старуха, и замѣтивъ, что Фифи сдѣлала два нерѣшительные шага въ ея направленіи, воскликнула: — брысь, брысь!
Катя позвала Фифи и отворила ей дверь.
Фифи радостно бросилась вонъ, въ надеждѣ, что ее поведутъ гулять, но, оставшись одна за дверью, начала скрестись и повизгивать. Княжна нахмурилась, Катя хотѣла было выйдти…
— Я думаю, чай готовъ? — промолвила Одинцова. — Господа, пойдемте; тетушка, пожалуйте чай кушать.
Княжна молча встала съ кресла, и первая вышла изъ гостиной. Всѣ отправились вслѣдъ за ней въ столовую. Казачокъ въ ливреѣ съ шумомъ отодвинулъ отъ стола обложенное подушками, также завѣтное, кресло, въ которое опустилась княжна; Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку съ раскрашеннымъ гербомъ. Старуха положила себѣ меду въ чашку (она находила, что пить чай съ сахаромъ и грѣшно, и дорого, хотя сама не тратила копѣйки ни на что̀), и вдругъ спросила хриплымъ голосомъ:
— А что пишетъ кнесь Иванъ?
Ей никто не отвѣчалъ. Базаровъ и Аркадій скоро догадались, что на нее не обращали вниманія, хотя обходились съ нею почтительно. «Для ради важности держатъ, потому что княжеское отродье», подумалъ Базаровъ… Послѣ чаю Анна Сергѣевна предложила пойдти гулять: но сталъ накрапывать дождикъ, и все общество, за исключеніемъ княжны, вернулось въ гостиную. Пріѣхалъ сосѣдъ, любитель карточной игры, по имени Порфирій Платонычъ, толстенькій, сѣденькій человѣкъ съ коротенькими, точно выточенными ножками, очень вѣжливый и смѣшливый. Анна Сергѣевна, которая разговаривала все больше съ Базаровымъ, спросила его — не хочетъ ли онъ сразиться съ ними по старомодному въ преферансъ. Базаровъ согласился, говоря, что ему надобно заранѣе приготовиться къ предстоящей ему должности уѣзднаго лѣкаря.
— Берегитесь, — замѣтила Анна Сергѣевна, — мы съ Порфиріемъ Платонычемъ васъ разобьемъ. А ты, Катя, — прибавила она, — сыграй что-нибудь Аркадію Николаевичу; онъ любитъ музыку, мы кстати послушаемъ.
Катя неохотно приблизилась къ фортепіано; и Аркадій, хотя точно любилъ музыку, неохотно пошелъ за ней: ему казалось, что Одинцова его отсылаетъ, — а у него на сердцѣ, какъ у всякаго молодого человѣка въ его годы, уже накипало какое-то смутное и томительное ощущеніе, похожее на предчувствіе любви. Катя подняла крышку фортепіано, и не глядя на Аркадія, промолвила вполголоса:
— Что̀ же вамъ сыграть?
— Что̀ хотите, — равнодушно отвѣтилъ Аркадій.
— Вы какую музыку больше любите? — повторила Катя, не перемѣняя положенія.
— Классическую, — тѣмъ же голосомъ отвѣтилъ Аркадій.
— Моцарта любите?
— Моцарта люблю.
Катя достала це-мольную сонату-фантазію Моцарта. Она играла очень хорошо, хотя не много строго и сухо. Не отводя глазъ отъ нотъ и крѣпко стиснувъ губы, сидѣла она неподвижно и прямо, и только къ концу сонаты лицо ея разгорѣлось, и маленькая прядь развившихся волосъ упала на темную бровь.
Аркадія въ особенности поразила послѣдняя часть сонаты, та часть, въ которой, посреди плѣнительной веселости безпечнаго напѣва, внезапно возникаютъ порывы такой горестной, почти трагической скорби… Но мысли, возбужденныя въ немъ звуками Моцарта, относились не къ Катѣ. Глядя на нее, онъ только подумалъ: «А вѣдь не дурно играетъ эта барышня, и сама она не дурна».
Кончивъ сонату, Катя, не принимая рукъ съ клавишей, спросила: «довольно?» Аркадій объявилъ, что не смѣетъ утруждать ее болѣе, и заговорилъ съ ней о Моцартѣ; спросилъ ее — сама ли она выбрала эту сонату или кто ей ее отрекомендовалъ? Но Катя отвѣчала ему односложно: она спряталась, ушла въ себя. Когда это съ ней случалось, она нескоро выходила наружу; самое лицо ея принимало тогда выраженіе упрямое, почти тупое. Она была не то что робка, а недовѣрчива и немного запугана воспитавшею ее сестрой, чего разумѣется та и не подозрѣвала. Аркадій кончилъ тѣмъ, что, подозвавъ возвратившуюся Фифи, сталъ для контенансу, съ благосклонною улыбкой, гладить ее по головѣ. Катя опять взялась за свои цвѣты.
А Базаровъ, между тѣмъ, ремизился да ремизился. Анна Сергѣевна играла мастерски въ карты, Порфирій Платонычъ тоже могъ постоять за себя. Базаровъ остался въ проигрышѣ, хотя незначительномъ, но все-таки не совсѣмъ для него пріятномъ. За ужиномъ Анна Сергѣевна снова завела рѣчь о ботаникѣ.
— Пойдемте гулять завтра поутру, — сказала она ему, — я хочу узнать отъ васъ латинскія названія полевыхъ растеній и ихъ свойства.
— На что́ вамъ латинскія названія? — спросилъ Базаровъ.
— Во всемъ нуженъ порядокъ, — отвѣчала она.
— Что за чудесная женщина Анна Сергѣевна, — воскликнулъ Аркадій, оставшись наединѣ съ своимъ другомъ въ отведенной имъ комнатѣ.
— Да, — отвѣчалъ Базаровъ, — баба съ мозгомъ. Ну, и видала же она виды.
— Въ какомъ смыслѣ ты это говоришь, Евгеній Васильичъ?
— Въ хорошемъ смыслѣ, въ хорошемъ, батюшка вы мой, Аркадій Николаичъ! Я увѣренъ, что она и своимъ имѣніемъ отлично распоряжается. Но чудо — не она, а ея сестра.
— Какъ? эта смугленькая?
— Да, эта смугленькая. Это вотъ свѣжо, и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и все что́ хочешь. Вотъ кѣмъ можно заняться. Изъ этой еще что́ вздумаешь, то и сдѣлаешь; а та — тертый калачъ.
Аркадій ничего не отвѣчалъ Базарову, и каждый изъ нихъ легъ спать съ особенными мыслями въ головѣ.
И Анна Сергѣевна въ тотъ вечеръ думала о своихъ гостяхъ. Базаровъ ей понравился — отсутствіемъ кокетства и самою рѣзкостью сужденій. Она видѣла въ немъ что-то новое, съ чѣмъ ей не случалось встрѣтиться, а она была любопытна.
Анна Сергѣевна была довольно странное существо. Не имѣя никакихъ предразсудковъ, не имѣя даже никакихъ сильныхъ вѣрованій, она ни передъ чѣмъ не уступала и никуда не шла. Она многое ясно видѣла, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ея вполнѣ; да она едва ли и желала полнаго удовлетворенія. Ея умъ былъ пытливъ и равнодушенъ въ одно и то же время: ея сомнѣнія не утихали никогда до забывчивости, и никогда не доростали до тревоги. Не будь она богата и независима, она быть-можетъ бросилась бы въ битву, узнала бы страсть… Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчасъ, и она продолжала провожать день за днемъ, не спѣша и лишь изрѣдка волнуясь. Радужныя краски загорались иногда и у ней передъ глазами, но она отдыхала, когда онѣ угасали, и не жалѣла о нихъ. Воображеніе ея уносилось даже за предѣлы того, что по законамъ обыкновенной морали считается дозволеннымъ; но и тогда кровь ея попрежнему тихо катилась въ ея обаятельно-стройномъ и спокойномъ тѣлѣ. Бывало, выйдя изъ благовонной ванны, вся теплая и разнѣженная, она замечтается о ничтожности жизни, объ ея горѣ, трудѣ и злѣ… Душа ея наполнится внезапною смѣлостію, закипитъ благороднымъ стремленіемъ; но сквозной вѣтеръ подуетъ изъ полузакрытаго окна, и Анна Сергѣевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей нужно въ это мгновеніе: чтобы не дулъ на нее этотъ гадкій вѣтеръ.
Какъ всѣ женщины, которымъ не удалось полюбить, она хотѣла чего-то, сама не зная чего именно. Собственно ей ничего не хотѣлось, хотя ей казалось, что ей хотѣлось всего. Покойнаго Одинцова она едва выносила (она вышла за него по разсчету, хотя она, вѣроятно, не согласилась бы сдѣлаться его женой, еслибъ она не считала его за добраго человѣка) и получила тайное отвращеніе ко всѣмъ мущинамъ, которыхъ представляла себѣ не иначе, какъ неопрятными, тяжелыми и вялыми, безсильно докучливыми существами. Разъ она гдѣ-то за границей встрѣтила молодого, красиваго шведа съ рыцарскимъ выраженіемъ лица, съ честными, голубыми глазами подъ открытымъ лбомъ; онъ произвелъ на нее сильное впечатлѣніе, но это не помѣшало ей вернуться въ Россію.
«Странный человѣкъ этотъ лѣкарь!» думала она, лежа въ своей великолѣпной постелѣ, на кружевныхъ подушкахъ, подъ легкимъ шелковымъ одѣяломъ… Анна Сергѣевна наслѣдовала отъ отца частицу его наклонности къ роскоши. Она очень любила своего грѣшнаго, но добраго отца, а онъ обожалъ ее, дружелюбно шутилъ съ ней, какъ съ ровней, и довѣрялся ей вполнѣ, совѣтовался съ ней. Мать свою она едва помнила.
«Странный этотъ лѣкарь!» повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потомъ пробѣжала глазами страницы двѣ глупаго французскаго романа, выронила книжку — и заснула, вся чистая и холодная, въ чистомъ и душистомъ бѣльѣ.
На слѣдующее утро Анна Сергѣевна, тотчасъ послѣ завтрака, отправилась ботанизировать съ Базаровымъ и возвратилась передъ самымъ обѣдомъ; Аркадій никуда не отлучался и провелъ около часа съ Катей. Ему не было скучно съ нею, она сама вызвалась повторить ему вчерашнюю сонату; но когда Одинцова возвратилась наконецъ, когда онъ увидалъ ее — сердце въ немъ мгновенно сжалось… Она шла по саду нѣсколько усталою походкой; щеки ея алѣли и глаза свѣтились ярче обыкновеннаго подъ соломенною круглою шляпой. Она вертѣла въ пальцахъ тонкій стебелекъ полевого цвѣтка, легкая мантилья спустилась ей на локти, и широкія, сѣрыя ленты шляпы прильнули къ ея груди. Базаровъ шелъ сзади ея, самоувѣренно и небрежно, какъ всегда, но выраженіе его лица, хотя веселое и даже ласковое, не понравилось Аркадію. Пробормотавъ сквозь зубы: «здравствуй!» — Базаровъ отправился къ себѣ въ комнату, а Одинцова разсѣянно пожала Аркадію руку и тоже прошла мимо него.
«Здравствуй», подумалъ Аркадій… «Развѣ мы не видѣлись сегодня?»
ХѴІІ.
Время (дѣло извѣстное) летитъ иногда птицей, иногда ползетъ червякомъ; но человѣку бываетъ особенно хорошо тогда, когда онъ даже не замѣчаетъ — скоро ли, тихо ли оно проходитъ. Аркадій и Базаровъ именно такимъ образомъ провели дней пятнадцать у Одинцовой. Этому отчасти способствовалъ порядокъ, который она завела у себя въ домѣ и въ жизни. Она строго его придерживалась и заставляла другихъ ему покоряться. Все въ теченіе дня совершалось въ извѣстную пору. Утромъ, ровно въ восемь часовъ, все общество собиралось къ чаю; отъ чая до завтрака всякій дѣлалъ что хотѣлъ, сама хозяйка занималась съ прикащикомъ (имѣніе было на оброкѣ), съ дворецкими, съ главною ключницей. Передъ обѣдомъ общество опять сходилось для бесѣды или для чтенія; вечеръ посвящался прогулкѣ, картамъ, музыкѣ; въ половинѣ одиннадцатаго Анна Сергѣевна уходила къ себѣ въ комнату, отдавала приказанія на слѣдующій день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размѣренная, нѣсколько торжественная правильность ежедневной жизни; «какъ по рельсамъ катишься», увѣрялъ онъ: ливрейные лакеи, чинные дворецкіе оскорбляли его демократическое чувство. Онъ находилъ, что ужъ если на то пошло, такъ обѣдать слѣдовало бы по-англійски, во фракахъ и въ бѣлыхъ галстухахъ. Онъ однажды объяснился объ этомъ съ Анной Сергѣевной. Она такъ себя держала, что каждый человѣкъ, не обинуясь, высказывалъ передъ ней свои мнѣнія. Она выслушала его и промолвила: «съ вашей точки зрѣнія вы правы — и, можетъ-быть въ этомъ случаѣ, я — барыня; но въ деревнѣ нельзя жить безпорядочно, скука одолѣетъ», — и продолжала дѣлать по своему. Базаровъ ворчалъ, но и ему, и Аркадію, оттого и жилось такъ легко у Одинцовой, что все въ ея домѣ «катилось какъ по рельсамъ». Со всѣмъ тѣмъ, въ обоихъ молодыхъ людяхъ, съ первыхъ же дней ихъ пребыванія въ Никольскомъ, произошла перемѣна. Въ Базаровѣ, къ которому Анна Сергѣевна очевидно благоволила, хотя рѣдко съ нимъ соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога: онъ легко раздражался, говорилъ нехотя, глядѣлъ сердито и не могъ усидѣть на мѣстѣ, словно что его подмывало; а Аркадій, который окончательно самъ съ собой рѣшилъ, что влюбленъ въ Одинцову, началъ предаваться тихому унынію. Впрочемъ, это уныніе не мѣшало ему сблизиться съ Катей; оно даже помогло ему войдти съ нею въ ласковыя, пріятельскія отношенія. «Меня она не цѣнитъ! Пусть!… А вотъ доброе существо меня не отвергаетъ», думалъ онъ, и сердце его снова вкушало сладость великодушныхъ ощущеній. Катя смутно понимала, что онъ искалъ какого-то утѣшенія въ ея обществѣ, и не отказывала ни ему, ни себѣ въ невинномъ удовольствіи полустыдливой, полудовѣрчивой дружбы. Въ присутствіи Анны Сергѣевны они не разговаривали между собою: Катя всегда сжималась подъ зоркимъ взглядомъ сестры, а Аркадіи, какъ оно и слѣдуетъ влюбленному человѣку, вблизи своего предмета уже не могъ обращать вниманіе ни на что другое; но хорошо ему было съ одной Катей. Онъ чувствовалъ, что не въ силахъ занять Одинцову; онъ робѣлъ, и терялся, когда оставался съ ней наединѣ; и она не знала что́ ему сказать: онъ былъ слишкомъ для нея молодъ. Напротивъ, съ Катей Аркадій былъ какъ дома; онъ обращался съ ней снисходительно, не мѣшалъ ей высказывать впечатлѣнія, возбужденныя въ ней музыкой, чтеніемъ повѣстей, стиховъ и прочими пустяками, самъ не замѣчая или не сознавая, что эти пустяки и его занимали. Съ своей стороны, Катя не мѣшала ему грустить. Аркадію было хорошо съ Катей, Одинцовой — съ Базаровымъ, а потому обыкновенно случалось такъ: обѣ парочки, побывъ немного вмѣстѣ, расходились каждая въ свою сторону, особенно во время прогулокъ. Катя обожала природу, и Аркадій ее любилъ, хоть и не смѣлъ признаться въ этомъ; Одинцова была къ ней довольно равнодушна, такъ же какъ и Базаровъ. Почти постоянное разъединеніе нашихъ пріятелей не осталось безъ послѣдствій: отношенія между ними стали мѣняться. Базаровъ пересталъ говорить съ Аркадіемъ объ Одинцовой, пересталъ даже бранить ея «аристократическія замашки»; правда, Катю онъ хвалилъ попрежнему и только совѣтовалъ умѣрять въ ней сантиментальныя наклонности, но похвалы его были торопливы, совѣты сухи, и вообще онъ съ Аркадіемъ бесѣдовалъ гораздо меньше прежняго… онъ какъ будто избѣгалъ, какъ будто стыдился его…
Аркадій все это замѣчалъ, но хранилъ про себя свои замѣчанія.
Настоящею причиной всей этой «новизны» было чувство, внушенное Базарову Одинцовой, чувство, которое его мучило и бѣсило, и отъ котораго онъ тотчасъ отказался бы съ презрительнымъ хохотомъ и циническою бранью, если-бы кто-нибудь, хотя отдаленно, намекнулъ ему на возможность того, что́ въ немъ происходило. Базаровъ былъ великій охотникъ до женщинъ и до женской красоты, но любовь въ смыслѣ идеальномъ или, какъ онъ выражался, романтическомъ, называлъ белибердой, непростительною дурью, считалъ рыцарскія чувства чѣмъ-то въ родѣ уродства или болѣзни, и не однажды выражалъ свое удивленіе, почему не посадили въ желтый домъ Гоггенбурга со всѣми миннезенгерами и трубадурами? — «Нравится тебѣ женщина», говаривалъ онъ, «старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клиномъ сошлась». Одинцова ему нравилась: распространенные слухи о ней, свобода и независимость ея мыслей, ея несомнѣнное расположеніе къ нему — все, казалось, говорило въ его пользу; но онъ скоро понялъ, что съ ней «не добьешься толку», а отвернуться отъ нея, онъ, къ изумленію своему, не имѣлъ силъ. Кровь его загоралась, какъ только онъ вспоминалъ о ней; онъ легко сладилъ бы съ своею кровью, но что-то другое въ него вселилось, чего онъ никакъ не допускалъ, надъ чѣмъ всегда трунилъ, что возмущало всю его гордость. Въ разговорахъ съ Анной Сергѣевной онъ еще больше прежняго высказывалъ свое равнодушное презрѣніе ко всему романтическому; а оставшись наединѣ, онъ съ негодованіемъ сознавалъ романтика въ самомъ себѣ. Тогда онъ отправлялся въ лѣсъ и ходилъ по немъ большими шагами, ломая попадавшіяся вѣтки, и браня въ полголоса и ее, и себя; или забирался на сѣновалъ, въ сарай, и упрямо закрывая глаза, заставлялъ себя спать, что ему, разумѣется, не всегда удавалось. Вдругъ ему представится, что эти цѣломудренныя руки когда-нибудь обовьются вокругъ его шеи, что эти гордыя губы отвѣтятъ на его поцѣлуи, что эти умные глаза съ нѣжностію — да, съ нѣжностію остановятся на его глазахъ, и голова его закружится и онъ забудется на мигъ, пока опять не вспыхнетъ въ немъ негодованіе. Онъ ловилъ самого себя на всякаго рода «постыдныхъ» мысляхъ, точно бѣсъ его дразнилъ. Ему казалось иногда, что и въ Одинцовой происходитъ перемѣна, что въ выраженіи ея лица проявлялось что-то особенное, что, можетъ быть… Но тутъ онъ обыкновенно топалъ ногою или скрежеталъ зубами и грозилъ себѣ кулакомъ.
А между тѣмъ Базаровъ не совсѣмъ ошибался. Онъ поразилъ воображеніе Одинцовой; онъ занималъ ее, она много о немъ думала. Въ его отсутствіи она не скучала, не ждала его, но его появленіе тотчасъ ее оживляло; она охотно оставалась съ нимъ наединѣ и охотно съ нимъ разговаривала, даже тогда, когда онъ ее сердилъ или оскорблялъ ея вкусъ, ея изящныя привычки. Она какъ будто хотѣла и его испытать и себя извѣдать.
Однажды онъ, гуляя съ ней по саду, внезапно промолвилъ угрюмымъ голосомъ, что намѣренъ скоро уѣхать въ деревню къ отцу… Она поблѣднѣла, словно ее что въ сердце кольнуло, да такъ кольнуло, что она удивилась и долго потомъ размышляла о томъ, что бы это значило. Базаровъ объявилъ ей о своемъ отъѣздѣ не съ мыслію испытать ее, посмотрѣть что́ изъ этого выйдетъ: онъ никогда не «сочинялъ». Утромъ того дня онъ видѣлся съ отцовскимъ прикащикомъ, бывшимъ своимъ дядькой, Тимоѳеичемъ. Этотъ Тимоѳеичъ, потертый и проворный старичокъ, съ выцвѣтшими желтыми волосами, вывѣтреннымъ краснымъ лицомъ и крошечными слезинками въ съеженныхъ глазахъ, неожиданно предсталъ передъ Базаровымъ въ своей коротенькой чуйкѣ изъ толстаго сѣросиневатаго сукна, подпоясанный ременнымъ обрывочкомъ и въ дегтярныхъ сапогахъ.
— А, старина, здравствуй! — воскликнулъ Базаровъ.
— Здравствуйте, батюшка Евгеній Васильичъ, — началъ старичокъ и радостно улыбнулся, отчего все лицо его вдругъ покрылось морщинами.
— Зачѣмъ пожаловалъ? За мной, что ль, прислали?
— Помилуйте, батюшка, какъ можно! — залепеталъ Тимоѳеичъ (онъ вспомнилъ строгій наказъ, полученный отъ барина, при отъѣздѣ). — Въ городъ по господскимъ дѣламъ ѣхали, да про вашу милость услыхали, такъ вотъ и завернули по пути, то-есть — посмотрѣть на вашу милость… а то какъ же можно безпокоить!
— Ну, не ври, — перебилъ его Базаровъ. — Въ городъ тебѣ развѣ здѣсь дорога? — Тимоѳеичъ помялся и ничего не отвѣчалъ. — Отецъ здоровъ?
— Слава Богу-съ.
— И мать?
— И Арина Васильевна, слава тебѣ Господи.
— Ждутъ меня небось?
Старичокъ склонилъ на бокъ свою крошечную головку.
— Ахъ, Евгеній Васильевичъ, какъ не ждать-то-съ! Вѣрите ли Богу, сердце изныло на родителей на вашихъ глядючи.
— Ну, хорошо, хорошо! не расписывай. Скажи имъ, что скоро буду.
— Слушаю-съ, — со вздохомъ отвѣчалъ Тимоѳеичъ.
Выйдя изъ дома, онъ обѣими руками нахлобучилъ себѣ картузъ на голову, взобрался на убогія бѣговыя дрожки, оставленныя имъ у воротъ, и поплелся рысцой, только не въ направленіи города.
Вечеромъ того же дня Одинцова сидѣла у себя въ комнатѣ съ Базаровымъ, а Аркадій расхаживалъ по залѣ и слушалъ игру Кати. Княжна ушла къ себѣ на верхъ; она вообще терпѣть не могла гостей, и въ особенности этихъ «новыхъ оголтѣлыхъ», какъ она ихъ называла. Въ парадныхъ комнатахъ она только дулась; зато у себя, передъ своею горничной, она разражалась иногда такою бранью, что чепецъ прыгалъ у ней на головѣ вмѣстѣ съ накладкой. Одинцова все это знала.
— Какъ же это вы ѣхать собираетесь, — начала она, — а обѣщаніе ваше?
Базаровъ встрепенулся.
— Какое-съ?
— Вы забыли? Вы хотѣли дать мнѣ нѣсколько уроковъ химіи.
— Что́ дѣлать-съ! Отецъ меня ждетъ; нельзя мнѣ больше мѣшкать. Впрочемъ, вы можете прочесть: Pelouse et Fremy, Notions générales de Chemie; книга хорошая и написана ясно. Вы въ ней найдете все, что́ нужно.
— А помните: вы меня увѣряли, что книга не можетъ замѣнить… я забыла какъ вы выразились, но вы знаете что̀ я хочу сказать… помните?
— Что́ дѣлать-съ! — повторилъ Базаровъ.
— Зачѣмъ ѣхать? — проговорила Одинцова, понизивъ голосъ.
Онъ взглянулъ на нее. Она закинула голову на спинку креселъ и скрестила на груди руки, обнаженныя до локтей. Она казалась блѣднѣй при свѣтѣ одинокой лампы, завѣшенной вырѣзною бумажною сѣткой. Широкое бѣлое платье покрывало ее всю своими мягкими складками; едва виднѣлись кончики ея ногъ, тоже скрещенныхъ.
— А зачѣмъ оставаться? — отвѣчалъ Базаровъ.
Одинцова слегка повернула голову.
— Какъ зачѣмъ? развѣ вамъ у меня не весело? Или вы думаете, что объ васъ здѣсь жалѣть не будутъ?
— Я въ этомъ убѣжденъ.
Одинцова помолчала.
— Напрасно вы это думаете. Впрочемъ, я вамъ не вѣрю. Вы не могли сказать это серьёзно. — Базаровъ продолжалъ сидѣть неподвижно. — Евгеній Васильевичъ, что же вы молчите?
— Да что̀ мнѣ сказать вамъ? О людяхъ вообще жалѣть не сто̀итъ, а обо мнѣ подавно.
— Это почему?
— Я человѣкъ положительный, неинтересный. Говорить не умѣю.
— Вы напрашиваетесь на любезность, Евгеній Васильевичъ.
— Это не въ моихъ привычкахъ. Развѣ вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мнѣ недоступна, та сторона, которою вы такъ дорожите?
Одинцова покусала уголъ носового платка.
— Думайте, что хотите, но мнѣ будетъ скучно, когда вы уѣдете.
— Аркадій останется, замѣтилъ Базаровъ.
Одинцова слегка пожала плечомъ.
— Мнѣ будетъ скучно, — повторила она.
— Въ самомъ дѣлѣ? Во всякомъ случаѣ долго вы скучать не будете.
— Отчего вы такъ полагаете?
— Оттого, что вы сами мнѣ сказали, что скучаете только тогда, когда вашъ порядокъ нарушается. Вы такъ непогрѣшительно-правильно устроили вашу жизнь, что въ ней не можетъ быть мѣста ни скукѣ, ни тоскѣ… никакимъ тяжелымъ чувствамъ.
— И вы находите, что я непогрѣшительна…то-есть, что я такъ правильно устроила свою жизнь?
— Еще бы! Да вотъ, напримѣръ: черезъ нѣсколько минутъ пробьетъ десять часовъ, и я уже напередъ знаю, что вы прогоните меня.
— Нѣтъ, не прогоню, Евгеній Васильичъ. Вы можете остаться. Отворите это окно… мнѣ что-то душно.
Базаровъ всталъ и толкнулъ окно. Оно разомъ со отзывомъ распахнулось… Онъ не ожидалъ, что оно такъ легко отворялось; притомъ его руки дрожали. Темная, мягкая ночь глянула въ комнату съ своимъ почти чернымъ небомъ, слабо шумѣвшими деревьями и свѣжимъ запахомъ вольнаго, чистаго воздуха.
— Спустите стору и сядьте, — промолвила Одинцова: — мнѣ хочется поболтать съ вами передъ вашимъ отъѣздомъ. Разскажите мнѣ что-нибудь о самомъ себѣ; вы никогда о себѣ не говорите.
— Я стараюсь бесѣдовать съ вами о предметахъ полезныхъ, Анна Сергѣевна.
— Вы очень скромны… Но мнѣ хотѣлось бы узнать что-нибудь о васъ, о вашемъ семействѣ, о вашемъ отцѣ, для котораго вы насъ покидаете.
«Зачѣмъ она говоритъ такія слова?» подумалъ Базаровъ.
— Все это нисколько не занимательно, — произнесъ онъ вслухъ: — особенно для васъ; мы люди темные…
— А я, по вашему, аристократка?
Базаровъ поднялъ глаза на Одинцову.
— Да, — промолвилъ онъ преувеличенно-рѣзко.
Она усмѣхнулась.
— Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и увѣряете, что всѣ люди другъ на друга похожи, и что ихъ изучать не сто́итъ. Я вамъ когда-нибудь разскажу свою жизнь… но вы мнѣ прежде разскажете свою.
— Я васъ знаю мало, — повторилъ Базаровъ. — Можетъ быть, вы правы; можетъ-быть, точно, всякій человѣкъ — загадка. Да хотя вы, напримѣръ: вы чуждаетесь общества, вы имъ тяготитесь, — и пригласили къ себѣ на жительство двухъ студентовъ. Зачѣмъ вы, съ вашимъ умомъ, съ вашей красотою, живете въ деревнѣ?
— Какъ? Какъ вы это сказали? — съ живостью подхватила Одинцова. — Съ моей… красотой?
Базаровъ нахмурился.
— Это все равно, — пробормоталъ онъ, — я хотѣлъ сказать, что не понимаю хорошенько, зачѣмъ вы поселились въ деревнѣ?
— Вы этого не понимаете… Однако, вы объясняете это себѣ какъ-нибудь?
— Да… я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одномъ мѣстѣ потому, что вы себя избаловали, потому что вы очень любите комфортъ, удобства, а ко всему остальному очень равнодушны.
Одинцова опять усмѣхнулась.
— Вы рѣшительно не хотите вѣрить, что я способна увлекаться?
Базаровъ изподлобья взглянулъ на нее.
— Любопытствомъ — пожалуй; но не иначе.
— Въ самомъ дѣлѣ? Ну теперь я понимаю, почему мы сошлись съ вами; вѣдь и вы такой же, какъ я.
— Мы сошлись… — глухо промолвилъ Базаровъ.
— Да!… вѣдь я забыла, что вы хотите уѣхать.
Базаровъ всталъ. Лампа тускло горѣла посреди потемнѣвшей, благовонной, уединенной комнаты; сквозь изрѣдка колыхавшуюся стору вливалась раздражительная свѣжесть ночи, слышалось ея таинственное шептаніе. Одинцова не шевелилась ни однимъ членомъ, но тайное волненіе охватывало ее понемногу… Оно сообщилось Базарову. Онъ вдругъ почувствовалъ себя наединѣ съ молодою, прекрасною женщиной…
— Куда вы? — медленно проговорила она.
Онъ ничего не отвѣчалъ и опустился на стулъ.
— Итакъ, вы считаете меня спокойнымъ, изнѣженнымъ, избалованнымъ существомъ, — продолжала она тѣмъ же голосомъ, не спуская глазъ съ окна. — А я такъ знаю о себѣ, что я очень несчастлива.
— Вы несчастливы! Отчего? Неужели вы можете придавать какое-нибудь значеніе дряннымъ сплетнямъ?
Одинцова нахмурилась. Ей стало досадно, что онъ такъ ее понялъ.
— Меня эти сплетни даже не смѣшатъ, Евгеній Васильевичъ, и я слишкомъ горда, чтобы позволить имъ меня безпокоить. Я несчастлива оттого… что нѣтъ во мнѣ желанія, охоты жить. Вы недовѣрчиво на меня смотрите, вы думаете: это говоритъ «аристократка», которая вся въ кружевахъ и сидитъ на бархатномъ креслѣ. Я и не скрываюсь: я люблю то, что вы называете комфортомъ, и въ то же время я мало желаю жить. Примирите это противорѣчіе какъ знаете. Впрочемъ, это все въ вашихъ глазахъ романтизмъ.
Базаровъ покачалъ головою.
— Вы здоровы, независимы, богаты; чего же еще? Чего вы хотите?
— Чего я хочу, — повторила Одинцова, и вздохнула. — Я очень устала, я стара, мнѣ кажется, я очень давно живу. Да, я стара, прибавила она, тихонько натягивая концы мантильи на свои обнаженныя руки. — Ея глаза встрѣтились съ глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснѣла. — Позади меня уже такъ много воспоминаній: жизнь въ Петербургѣ, богатство, потомъ бѣдность, потомъ смерть отца, замужество, потомъ заграничная поѣздка, какъ слѣдуетъ… Воспоминаній много, а вспомнить нечего, и впереди, передо мной — длинная, длинная дорога, а цѣли нѣтъ… Мнѣ и не хочется идти.
— Вы такъ разочарованы? — спросилъ Базаровъ.
— Нѣтъ, — промолвила съ разстановкой Одинцова, — но я неудовлетворена. Кажется, еслибъ я могла сильно привязаться къ чему нибудь…
— Вамъ хочется полюбить, — перебилъ ее Базаровъ, — а полюбить вы не можете: вотъ въ чемъ ваше несчастіе.
Одинцова принялась разсматривать рукава своей мантильи.
— Развѣ я не могу полюбить? — промолвила она.
— Едва ли! Только я напрасно назвалъ это несчастіемъ. Напротивъ, тотъ скорѣе достоинъ сожалѣнія, съ кѣмъ эта штука случается.
— Случается, что?
— Полюбить.
— А вы почемъ это знаете?
— По наслышкѣ, — сердито отвѣчалъ Базаровъ.
«Ты кокетничаешь», подумалъ онъ, «ты скучаешь и дразнишь меня отъ нечего дѣлать, а мнѣ…» Сердце у него, дѣйствительно, такъ и рвалось.
— Притомъ, вы, можетъ быть, слишкомъ требовательны, — промолвилъ онъ, наклонившись всѣмъ тѣломъ впередъ и играя бахромою кресла.
— Можетъ быть. По моему, или все или ничего. Жизнь за жизнь. Взялъ мою, отдай свою, и тогда уже безъ сожалѣнія и безъ возврата. А то лучше и не надо.
— Чтожъ? — замѣтилъ Базаровъ: — это условіе справедливое, и я удивляюсь, какъ вы до сихъ поръ… не нашли, чего желали.
— А вы думаете легко отдаться вполнѣ чему бы то ни было?
— Не легко, если станешь размышлять да выжидать, да самому себѣ придавать цѣну, дорожить собою, то-есть; а не размышляя, отдаться очень легко.
— Какъ же собою не дорожить? Если я не имѣю никакой цѣны, кому же нужна моя преданность?
— Это уже не мое дѣло; это дѣло другого разбирать, какая моя цѣна. Главное, надо умѣть отдаться.
Одинцова отдѣлилась отъ спинки кресла.
— Вы говорите такъ, — начала она, — какъ будто все это испытали.
— Къ слову пришлось, Анна Сергѣевна: это все, вы знаете, не по моей части.
— Но вы бы съумѣли отдаться?
— Не знаю, хвастаться не хочу.
Одинцова ничего не сказала, и Базаровъ умолкъ. Звуки фортепіано долетѣли до нихъ изъ гостиной.
— Что это Катя такъ поздно играетъ, — замѣтила Одинцова.
Базаровъ поднялся.
— Да, теперь точно поздно, вамъ пора почивать.
— Погодите, куда же вы спѣшите… мнѣ нужно сказать вамъ одно слово.
— Какое?
— Погодите, — шепнула Одинцова. Ея глаза остановились на Базаровѣ; казалось, она внимательно его разсматривала.
Онъ прошелся по комнатѣ, потомъ вдругъ приблизился къ ней, торопливо сказалъ «прощайте», стиснулъ ей руку такъ, что она чуть не вскрикнула, и вышелъ вонъ. Она поднесла свои склеившіеся пальцы къ губамъ, подула на нихъ, и внезапно, порывисто поднявшись съ кресла, направилась быстрыми шагами къ двери, какъ бы желая вернуть Базарова… Горничная вошла въ комнату съ графиномъ на серебряномъ подносѣ. Одинцова остановилась, велѣла ей уйти и сѣла опять, и опять задумалась. Коса ея развилась и темной змѣей упала къ ней на плечо. Лампа еще долго горѣла въ комнатѣ Анны Сергѣевны, и долго она оставалась неподвижною, лишь изрѣдка проводя пальцами по своимъ рукамъ, которыя слегка покусывалъ ночной холодъ.
А Базаровъ, часа два спустя, вернулся къ себѣ въ спальню съ мокрыми отъ росы сапогами, взъерошенный и угрюмый. Онъ засталъ Аркадія за письменнымъ столомъ, съ книгой въ рукахъ, въ застегнутомъ до верху сюртукѣ.
— Ты еще не ложился? — проговорилъ онъ какъ бы съ досадой.
— Ты долго сидѣлъ сегодня съ Анной Сергѣевной, — промолвилъ Аркадій, не отвѣчая на его вопросъ.
— Да, я съ ней сидѣлъ все время, пока вы съ Катериной Сергѣевной играли на фортепіано.
— Я не игралъ… — началъ-было Аркадій, и умолкъ. Онъ чувствовалъ, что слезы приступали къ его глазамъ, а ему не хотѣлось заплакать передъ своимъ насмѣшливымъ другомъ.
ХѴІІІ.
На слѣдующій день, когда Одинцова явилась къ чаю, Базаровъ долго сидѣлъ нагнувшись надъ своею чашкою, да вдругъ взглянулъ на нее… Она обернулась къ нему, какъ будто онъ ее толкнулъ, и ему показалось, что лицо ея слегка поблѣднѣло за ночь. Она скоро ушла къ себѣ въ комнату и появилась только къ завтраку. Съ утра погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Все общество собралось въ гостиную. Аркадій досталъ послѣдній нумеръ журнала, и началъ читать. Княжна, по обыкновенію своему, сперва выразила на лицѣ своемъ удивленіе, точно онъ затѣвалъ нѣчто неприличное, потомъ злобно уставилась на него; но онъ не обратилъ на нее вниманія.
— Евгеній Васильевичъ, — проговорила Анна Сергѣевна, — пойдемте ко мнѣ… Я хочу у васъ спросить… Вы назвали вчера одно руководство…
Она встала и направилась къ дверямъ. Княжна посмотрѣла вокругъ съ такимъ выраженіемъ, какъ бы желала сказать: «посмотрите, посмотрите, какъ я изумляюсь!» и опять уставилась на Аркадія, но онъ возвысилъ голосъ и, переглянувшись съ Катей, возлѣ которой сидѣлъ, продолжалъ чтеніе.
Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаровъ проворно слѣдовалъ за нею, не поднимая глазъ и только ловя слухомъ тонкій свистъ и шелестъ скользившаго передъ нимъ шелковаго платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на которомъ сидѣла наканунѣ, и Базаровъ занялъ вчерашнее свое мѣсто.
— Такъ какъ же называется эта книга? — начала она послѣ небольшого молчанія.
— Pelouse et Frémy, Notions générales… — отвѣчалъ Базаровъ. — Впрочемъ, можно вамъ также порекомендовать — Ganot, Traité élémentaire de physique expérimentale. Въ этомъ сочиненіи рисунки отчетливѣе и вообще этотъ учебникъ…
Одинцова протянула руку.
— Евгеній Васильичъ, извините меня, но я позвала васъ сюда не съ тѣмъ, чтобы разсуждать объ учебникахъ. Мнѣ хотѣлось возобновить нашъ вчерашній разговоръ. Вы ушли такъ внезапно… Вамъ не будетъ скучно?
— Я къ вашимъ услугамъ, Анна Сергѣевна. Но о чемъ, бишь, бесѣдовали мы вчера съ вами?
Одинцова бросила косвенный взглядъ на Базарова.
— Мы говорили съ вами, кажется, о счастіи. Я вамъ разсказывала о самой себѣ. Кстати вотъ, я упомянула слово «счастіе». Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, напримѣръ, музыкой, хорошимъ вечеромъ, разговоромъ съ симпатическими людьми, отчего все это кажется скорѣе намекомъ на какое-то безмѣрное, гдѣ-то существующее счастіе, чѣмъ дѣйствительнымъ счастіемъ, то-есть такимъ, которымъ мы сами обладаемъ? Отчего это? Или вы, можетъ-быть, ничего подобнаго не ощущаете?
— Вы знаете поговорку: «тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ», — возразилъ Базаровъ; — притомъ же вы сами сказали вчера, что вы неудовлетворены. А мнѣ въ голову, точно, такія мысли не приходятъ.
— Можетъ быть, онѣ кажутся вамъ смѣшными?
— Нѣтъ, но онѣ мнѣ не приходятъ въ голову.
— Въ самомъ дѣлѣ? Знаете, я бы очень желала знать, о чемъ вы думаете?
— Какъ? я васъ не понимаю.
— Послушайте, я давно хотѣла объясниться съ вами. Вамъ нечего говорить, — вамъ это самимъ извѣстно, — что вы человѣкъ не изъ числа обыкновенныхъ; — вы еще молоды — вся жизнь передъ вами. Къ чему вы себя готовите? какая будущность ожидаетъ васъ? я хочу сказать — какой цѣли вы хотите достигнуть, куда вы идете, что̀ у васъ на душѣ? словомъ, кто вы, что́ вы?
— Вы меня удивляете, Анна Сергѣевна. Вамъ извѣстно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я…
— Да, кто вы?
— Я уже докладывалъ вамъ, что я будущій уѣздный лѣкарь.
Анна Сергѣевна сдѣлала нетерпѣливое движеніе.
— Зачѣмъ вы это говорите? Вы этому сами не вѣрите. Аркадій могъ бы мнѣ отвѣчать такъ, а не вы.
— Да чѣмъ же Аркадій…
— Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою скромною дѣятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для васъ медицина не существуетъ. Вы — съ вашимъ самолюбіемъ — уѣздный лѣкарь! Вы мнѣ отвѣчаете такъ, чтобъ отдѣлаться отъ меня, потому что вы не имѣете никакого довѣрія ко мнѣ. А знаете ли, Евгеній Васильичъ, что я умѣла бы понять васъ: я сама была бѣдна и самолюбива, какъ вы; я прошла, можетъ быть, черезъ такія же испытанія, какъ и вы.
— Все это прекрасно, Анна Сергѣевна, но вы меня извините… я вообще не привыкъ высказываться, и между вами и мною такое разстояніе…
— Какое разстояніе? — Вы опять мнѣ скажете, что я аристократка? Полноте, Евгеній Васильичъ; я вамъ, кажется, доказала…
— Да и кромѣ того, — перебилъ Базаровъ, — что за охота говорить и думать о будущемъ, которое большею частью не отъ насъ зависитъ? Выйдетъ случай что-нибудь сдѣлать — прекрасно, а не выйдетъ — по крайней мѣрѣ тѣмъ будешь доволенъ, что заранѣе напрасно не болталъ.
— Вы называете дружескую бесѣду болтовней… Или, можетъ быть, вы меня, какъ женщину, не считаете достойною вашего довѣрія? — Вѣдь вы насъ всѣхъ презираете.
— Васъ я не презираю, Анна Сергѣевна, и вы это знаете.
— Нѣтъ, я ничего не знаю… но положимъ: я понимаю ваше нежеланіе говорить о будущей вашей дѣятельности; но то, что́ въ васъ теперь происходитъ…
— Происходитъ! — повторилъ Базаровъ: — точно я государство какое, или общество! Во всякомъ случаѣ, это вовсе нелюбопытно; и притомъ развѣ человѣкъ всегда можетъ громко сказать все, что́ въ немъ «происходитъ?»
— А я не вижу, почему нельзя высказать все, что имѣешь на душѣ.
— Вы можете? — спросилъ Базаровъ.
— Могу, — отвѣчала Анна Сергѣевна послѣ небольшого колебанія.
Базаровъ наклонилъ голову.
— Вы счастливѣе меня.
Анна Сергѣевна вопросительно посмотрѣла на него.
— Какъ хотите, — продолжала она, — а мнѣ все-таки что-то говоритъ, что мы сошлись не даромъ, что мы будемъ хорошими друзьями. Я увѣрена, что ваша эта, какъ бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнетъ наконецъ?
— А вы замѣтили во мнѣ сдержанность… какъ вы еще выразились… напряженность?
— Да.
Базаровъ всталъ и подошелъ къ окну.
— И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы знать, что̀ во мнѣ происходитъ?
— Да, — повторила Одинцова, съ какимъ-то, ей еще непонятнымъ, испугомъ.
— И вы не разсердитесь?
— Нѣтъ.
— Нѣтъ? — Базаровъ стоялъ къ ней спиною. — Такъ знайте же, что я люблю васъ глупо, безумно… Вотъ чего вы добились.
Одинцова протянула впередъ обѣ руки, а Базаровъ уперся лбомъ въ стекло окна. Онъ задыхался; все тѣло его видимо трепетало. Но это было не трепетаніе юношеской робости, не сладкій ужасъ перваго признанія овладѣлъ имъ: это страсть въ немъ билась, сильная и тяжелая — страсть, похожая на злобу и, быть-можетъ, сродни ей… Одинцовой стало и страшно, и жалко его.
— Евгеній Васильичъ, — проговорила она, и невольная нѣжность зазвенѣла въ ея голосѣ.
Онъ быстро обернулся, бросилъ на нее пожирающій взоръ, — и, схвативъ ея обѣ руки, внезапно привлекъ ее къ себѣ на грудь.
Она не тотчасъ освободилась изъ его объятій; но мгновенье спустя, она уже стояла далеко въ углу, и глядѣла оттуда на Базарова. Онъ рванулся къ ней…
— Вы меня не поняли, — прошептала она съ торопливымъ испугомъ. Казалось, шагни онъ еще разъ, она бы вскрикнула… Базаровъ закусилъ губы и вышелъ.
Полчаса спустя, служанка подала Аннѣ Сергѣевнѣ записку отъ Базарова; она состояла изъ одной только строчки: «долженъ ли я сегодня уѣхать — или могу остаться до завтра?» — «Зачѣмъ уѣзжать? Я васъ не понимала — вы меня не поняли», отвѣтила ему Анна Сергѣевна, а сама подумала: «я и себя не понимала».
Она до обѣда не показывалась, и все ходила взадъ и впередъ по своей комнатѣ, заложивъ руки назадъ, изрѣдка останавливаясь то передъ окномъ, то передъ зеркаломъ и медленно проводила платкомъ по шеѣ, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что́ заставляло ее «добиваться», по выраженію Базарова, его откровенности, и не подозрѣвала ли она чего-нибудь… «Я виновата», промолвила она вслухъ, «но я это не могла предвидѣть». Она задумывалась и краснѣла, вспоминая почти звѣрское лицо Базарова, когда онъ бросился къ ней…
«Или?» произнесла она вдругъ, и остановилась, и тряхнула кудрями… Она увидала себя въ зеркалѣ; ея назадъ закинутая голова съ таинственною улыбкой на полу-закрытыхъ, полу-раскрытыхъ глазахъ и губахъ, казалось, говорила ей въ этотъ мигъ что-то такое, отъ чего она сама смутилась…
«Нѣтъ», рѣшила она наконецъ, «Богъ знаетъ куда бы это повело, этимъ нельзя шутить, спокойствіе все-таки лучше всего на свѣтѣ».
Ея спокойствіе не было потрясено; но она опечалилась, и даже всплакнула разъ, сама не зная отчего, только не отъ нанесеннаго оскорбленія. Она не чувствовала себя оскорбленною: она скорѣе чувствовала себя виноватою. Подъ вліяніемъ различныхъ смутныхъ чувствъ, сознанія уходящей жизни, желанія новизны, она заставила себя дойти до извѣстной черты, заставила себя заглянуть за нее — и увидала за ней даже не бездну, а пустоту… или безобразіе.
ХІХ.
Какъ ни владѣла собою Одинцова, какъ ни стояла выше всякихъ предразсудковъ, но и ей было неловко, когда она явилась въ столовую, къ обѣду. Впрочемъ, онъ прошелъ довольно благополучно. Порфирій Платонычъ пріѣхалъ, разсказалъ разные анекдоты; онъ только-что вернулся изъ города. Между прочимъ, онъ сообщилъ, что губернаторъ, Бурдалу, приказалъ своимъ чиновинкамъ по особымъ порученіямъ носить шпоры, на случай, если онъ пошлетъ ихъ куда-нибудь, для скорости, верхомъ. Аркадій вполголоса разсуждалъ съ Катей и дипломатически прислуживался княжнѣ. Базаровъ упорно и угрюмо молчалъ. Одинцова раза два — прямо, не украдкой посмотрѣла на его лицо, строгое и желчное, съ опущенными глазами, съ отпечаткомъ презрительной рѣшимости въ каждой чертѣ, и подумала: — «нѣтъ… нѣтъ… нѣтъ…» Послѣ обѣда она со всѣмъ обществомъ отправилась въ садъ и, видя, что Базаровъ желаетъ заговорить съ нею, сдѣлала нѣсколько шаговъ въ сторону и остановилась. Онъ приблизился къ ней, но и тутъ не поднялъ глазъ и глухо промолвилъ:
— Я долженъ извиниться передъ вами, Анна Сергѣевна. Вы не можете не гнѣваться на меня.
— Нѣтъ, я на васъ не сержусь, Евгеній Васильичъ, — отвѣчала Одинцова, — но я огорчена.
— Тѣмъ хуже. Во всякомъ случаѣ, я довольно наказанъ. Мое положеніе, съ этимъ вы вѣроятно согласитесь, самое глупое. Вы мнѣ написали: зачѣмъ уѣзжать? А я не могу и не хочу остаться. Завтра меня здѣсь не будетъ.
— Евгеній Васильичъ, за чѣмъ вы…
— За чѣмъ я уѣзжаю?
— Нѣтъ, я не то хотѣла сказать.
— Прошедшаго не воротишь, Анна Сергѣевна… а рано или поздно это должно было случиться. Слѣдовательно, мнѣ надобно уѣхать. Я понимаю только одно условіе, при которомъ я бы могъ остаться; но этому условію не бывать никогда. Вѣдь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда?
Глаза Базарова сверкнули на мгновенье изъ-подъ темныхъ его бровей.
Анна Сергѣевна не отвѣчала ему. «Я боюсь этого человѣка», мелькнуло у ней въ головѣ.
— Прощайте-съ, — проговорилъ Базаровъ, какъ бы угадавъ ея мысль, и направился къ дому.
Анна Сергѣевна тихонько пошла вслѣдъ за нимъ, и подозвавъ Катю, взяла ее подъ руку. Она не разставалась съ ней до самаго вечера. Въ карты она играть не стала, и все больше посмѣивалась, что́ вовсе не шло къ ея поблѣднѣвшему и смущенному лицу. Аркадій недоумѣвалъ и наблюдалъ за нею, какъ молодые люди наблюдаютъ, то-есть постоянно вопрошалъ самого себя: что́, молъ, это значитъ? Базаровъ заперся у себя въ комнатѣ; къ чаю онъ однако вернулся. Аннѣ Сергѣевнѣ хотѣлось сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, какъ заговорить съ нимъ…
Неожиданный случай вывелъ ее изъ затрудненія: дворецкій доложилъ о пріѣздѣ Ситникова.
Трудно передать словами, какою перепелкой влетѣлъ въ комнату молодой прогрессистъ. Рѣшившись, съ свойственною ему назойливостью, поѣхать въ деревню къ женщинѣ, которую онъ едва зналъ, которая никогда его не приглашала, но у которой, по собраннымъ свѣдѣніямъ, гостили такіе умные и близкіе ему люди, онъ все-таки робѣлъ до мозга костей и вмѣсто того, чтобы произнести заранѣе затверженныя извиненія и привѣтствія, пробормоталъ какую-то дрянь, что Евдоксія, дескать, Кукшина прислала его узнать о здоровьѣ Анны Сергѣевны, и что Аркадій Николаевичъ, тоже, ему всегда отзывался съ величайшею похвалой… На этомъ словѣ онъ запнулся и потерялся до того, что сѣлъ на собственную шляпу. Однако, такъ какъ никто его не прогналъ и Анна Сергѣевна даже представила его теткѣ и сестрѣ, онъ скоро оправился и затрещалъ на славу. Появленіе пошлости бываетъ часто полезно въ жизни: оно ослабляетъ слишкомъ высоко настроенныя струны, отрезвляетъ самоувѣренныя или самозабывчивыя чувства, напоминая имъ свое близкое родство съ ними. Съ прибытіемъ Ситникова все стало какъ-то тупѣе — и проще; всѣ даже поужинали плотнѣй и разошлись спать получасомъ раньше обыкновеннаго.
— Я могу тебѣ теперь повторить, — говорилъ лежа въ постели, Аркадій Базарову, который тоже раздѣлся, — то, что ты мнѣ сказалъ однажды: «Отчего ты такъ грустенъ? вѣрно исполнилъ какой-нибудь священный долгъ?» — Между обоими молодыми людьми съ нѣкоторыхъ поръ установилось какое-то лжеразвязное подтруниваніе, что́ всегда служитъ признакомъ тайнаго неудовольствія или не высказанныхъ подозрѣній.
— Я завтра къ батькѣ уѣзжаю, — проговорилъ Базаровъ.
Аркадій приподнялся и оперся на локоть. Онъ и удивился, и почему-то обрадовался.
— А! — промолвилъ онъ. — И ты отъ этого грустенъ?
Базаровъ зѣвнулъ.
— Много будешь знать, состарѣешься.
— А какъ же Анна Сергѣевна? — продолжалъ Аркадій.
— Что́ такое Анна Сергѣевна?
— Я хочу сказать: развѣ она тебя отпуститъ?
— Я у ней не нанимался.
Аркадій задумался, а Базаровъ легъ и повернулся лицомъ къ стѣнѣ.
Прошло нѣсколько минутъ въ молчаніи.
— Евгеній! — воскликнулъ вдругъ Аркадій.
— Ну?
— Я завтра съ тобой уѣду тоже.
Базаровъ ничего не отвѣчалъ.
— Только я домой поѣду, — продолжалъ Аркадій. — Мы вмѣстѣ отправимся до Хохловскихъ выселковъ, а тамъ ты возьмешь у Ѳедота лошадей. Я бы съ удовольствіемъ познакомился съ твоими, да я боюсь и ихъ стѣснить, и тебя. Вѣдь ты потомъ опять пріѣдешь къ намъ?
— Я у васъ свои вещи оставилъ, — отозвался Базаровъ, не оборачиваясь.
«За чѣмъ же онъ меня не спрашиваетъ, почему я ѣду? и также внезапно, какъ и онъ?» подумалъ Аркадій. «Въ самомъ дѣлѣ, за чѣмъ я ѣду, и за чѣмъ онъ ѣдетъ?» продолжалъ онъ свои размышленія. Онъ не могъ отвѣчать удовлетворительно на собственный вопросъ, а сердце его наполнялось чѣмъ-то ѣдкимъ. Онъ чувствовалъ, что тяжело ему будетъ разстаться съ этою жизнью, къ которой онъ такъ привыкъ; но и оставаться одному было какъ-то странно. «Что-то у нихъ произошло», разсуждалъ онъ самъ съ собою, «зачѣмъ же я буду торчать передъ нею послѣ отъѣзда? я ей окончательно надоѣмъ; я и послѣднее потеряю». Онъ началъ представлять себѣ Анну Сергѣевну, потомъ другія черты по немногу проступили сквозь красивый обликъ молодой вдовы.
«Жаль и Кати!» шепнулъ Аркадій въ подушку, на которую уже капнула слеза… Онъ вдругъ вскинулъ волосами и громко промолвилъ:
— На какого чорта этотъ глупецъ Ситниковъ пожаловалъ?
Базаровъ сперва пошевелился на постели, а потомъ произнесъ слѣдующее:
— Ты, братъ, глупъ еще, я вижу. Ситниковы намъ необходимы. Мнѣ, пойми ты это — мнѣ нужны подобные олухи. Не богамъ же, въ самомъ дѣлѣ, горшки обжигать!…
«Эге, ге!…» подумалъ про себя Аркадій, и тутъ только открылась ему на мигъ вся бездонная пропасть Базаровскаго самолюбія. «Мы стало-быть съ тобой боги? то-есть — ты богъ, а олухъ ужъ не я ли?»
— Да, — повторилъ угрюмо Базаровъ, — ты еще глупъ.
Одинцова не изъявила особеннаго удивленія, когда, на другой день, Аркадій сказалъ ей, что уѣзжаетъ съ Базаровымъ; она казалась разсѣянною и усталою. Катя молча и серіозно посмотрѣла на него, княжна даже перекрестилась подъ своею шалью, такъ-что онъ не могъ этого не замѣтить; за то Ситниковъ совершенно переполошился. Онъ только что сошелъ къ завтраку въ новомъ щегольскомъ, на этотъ разъ не славянофильскомъ, нарядѣ; наканунѣ онъ удивилъ приставленнаго къ нему человѣка множествомъ навезеннаго имъ бѣлья, и вдругъ его товарищи его покидаютъ! — Онъ немножко посеменилъ ногами, пометался, какъ гонный заяцъ на опушкѣ лѣса, — и внезапно, почти съ испугомъ, почти съ крикомъ объявилъ, что и онъ намѣренъ уѣхать. Одинцова не стала его удерживать.
— У меня очень покойная коляска, — прибавилъ несчастный молодой человѣкъ, обращаясь къ Аркадію, — я могу васъ подвезти, а Евгеній Васильичъ можетъ взять вашъ тарантасъ, такъ оно даже удобнѣе будетъ.
— Да помилуйте, вамъ совсѣмъ не по дорогѣ, и до меня далеко.
— Это ничего, ничего; времени у меня много, притомъ у меня въ той сторонѣ дѣла есть.
— По откупамъ? — спросилъ Аркадій, уже слишкомъ презрительно.
Но Ситниковъ находился въ такомъ отчаяніи, что, противъ обыкновенія, даже не засмѣялся.
— Я васъ увѣряю, коляска чрезвычайно покойная, пробормоталъ онъ, — и всѣмъ мѣсто будетъ.
— Не огорчайте мсьё Ситникова отказомъ, — промолвила Анна Сергѣевна…
Аркадій взглянулъ на нее и значительно наклонилъ голову.
Гости уѣхали послѣ завтрака. Прощаясь съ Базаровымъ, Одинцова протянула ему руку и сказала:
— Мы еще увидимся, не правда ли?
— Какъ прикажете, — отвѣтилъ Базаровъ.
— Въ такомъ случаѣ, мы увидимся.
Аркадій первый вышелъ на крыльцо: онъ взобрался въ Ситниковскую коляску. Его почтительно подсаживалъ дворецкій, а онъ бы съ удовольствіемъ его побилъ или расплакался. Базаровъ помѣстился въ тарантасѣ. — Добравшись до Хохловскихъ выселковъ, Аркадій подождалъ пока Ѳедотъ, содержатель постоялаго двора, запрягъ лошадей, и, подойдя къ тарантасу, съ прежнею улыбкой сказалъ Базарову:
— Евгеній, возьми меня съ собой; я хочу къ тебѣ поѣхать.
— Садись, — произнесъ сквозь зубы Базаровъ.
Ситниковъ, который расхаживалъ, бойко посвистывая, вокругъ колесъ своего экипажа, только ротъ разинулъ, услышавъ эти слова, а Аркадій хладнокровно вынулъ свои вещи изъ его коляски, сѣлъ возлѣ Базарова — и, учтиво поклонившись своему бывшему спутнику, крикнулъ: «Трогай!» Тарантасъ покатилъ и скоро исчезъ изъ вида… Ситниковъ, окончательно сконфуженный, посмотрѣлъ на своего кучера, но тотъ игралъ кнутикомъ надъ хвостомъ пристяжной. Тогда Ситниковъ вскочилъ въ коляску — и, загремѣвъ на двухъ проходившихъ мужиковъ: «надѣньте шапки, дураки!» — потащился въ городъ, куда прибылъ очень поздно, и гдѣ, на слѣдующій день, у Кукшиной, сильно досталось двумъ «противнымъ гордецамъ и невѣжамъ».
Садясь въ тарантасъ къ Базарову, Аркадій крѣпко стиснулъ ему руку и долго ничего не говорилъ. Казалось, Базаровъ понялъ и оцѣнилъ и это пожатіе, и это молчаніе. Предшествовавшую ночь онъ всю не спалъ, и не курилъ, и почти ничего не ѣлъ уже нѣсколько дней. Сумрачно и рѣзко выдавался его похудалый профиль изъ-подъ нахлобученной фуражки.
— Что, братъ, — проговорилъ онъ наконецъ, — дай-ка сигарку… Да посмотри, чай, желтый у меня языкъ?
— Желтый, — отвѣчалъ Аркадій.
— Ну да… вотъ и сигарка невкусна. — Расклеилась машина.
— Ты, дѣйствительно, измѣнился въ это послѣднее время, — замѣтилъ Аркадій.
— Ничего! поправимся. Одно скучно, — мать у меня такая сердобольная: коли брюха не отростилъ, да не ѣшь десять разъ на день, она и убивается. Ну, отецъ ничего, тотъ самъ былъ вездѣ, и въ ситѣ, и въ рѣшетѣ. Нѣтъ, нельзя курить, — прибавилъ онъ, и швырнулъ сигарку въ пыль дороги.
— До твоего имѣнія двадцать пять верстъ? — спросилъ Аркадій.
— Двадцать пять. Да вотъ спроси у этого мудреца. — Онъ указалъ на сидѣвшаго на козлахъ мужика, Ѳедотова работника.
Но мудрецъ отвѣчалъ, что: «хтошь е знаетъ — версты тутотка не мѣряныя», и продолжалъ вполголоса бранить коренную за то, что она «головизной лягаетъ», то-есть дергаетъ головой.
— Да, да, — заговорилъ Базаровъ, — урокъ вамъ, юный другъ мой, поучительный нѣкій примѣръ. Чортъ знаетъ, что за вздоръ! Каждый человѣкъ на ниточкѣ виситъ, бездна ежеминутно подъ нимъ развернуться можетъ, а онъ еще самъ придумываетъ себѣ всякія непріятности, портитъ свою жизнь.
— Ты на что́ намекаешь? — спросилъ Аркадій.
— Я ни на что́ не намекаю, я прямо говорю, что мы оба съ тобою очень глупо себя вели. Что тутъ толковать! Но я уже въ клиникѣ замѣтилъ: кто злится на свою боль — тотъ непремѣнно ее побѣдитъ.
— Я тебя не совсѣмъ понимаю, — промолвилъ Аркадій, — кажется, тебѣ не на что было пожаловаться.
— А коли ты не совсѣмъ меня понимаешь, такъ я тебѣ доложу слѣдующее: по моему — лучше камни бить на мостовой, чѣмъ позволить женщинѣ завладѣть хотя бы кончикомъ пальца. Это все… — Базаровъ чуть было не произнесъ своего любимаго слова «романтизмъ», да удержался, и сказалъ: — вздоръ. Ты мнѣ теперь не повѣришь, но я тебѣ говорю: мы вотъ съ тобой попали въ женское общество, и намъ было пріятно; но бросить подобное общество — все равно, что въ жаркій день холодною водой окатиться. — Мущинѣ некогда заниматься такими пустяками; мущина долженъ быть свирѣпъ, гласитъ отличная испанская поговорка. Вѣдь вотъ ты, — прибавилъ онъ, обращаясь къ сидѣвшему на козлахъ мужику — ты, умница, есть у тебя жена?
Мужикъ показалъ обоимъ пріятелямъ свое плоское и подслѣповатое лицо.
— Жена-то? Есть. Какъ не быть женѣ?
— Ты ее бьешь?
— Жену-то? Всяко случается. Безъ причины не бьемъ.
— И прекрасно. Ну, а она тебя бьетъ?
Мужикъ задергалъ возжами.
— Эко слово ты сказалъ, баринъ. Тебѣ бы все шутить… — Онъ видимо обидѣлся.
— Слышишь, Аркадій Николаевичъ! А насъ съ вами прибили — вотъ оно что́ значитъ быть образованными людьми.
Аркадіи принужденно засмѣялся, а Базаровъ отвернулся и во всю дорогу уже не разѣвалъ рта.
Двадцать пять верстъ показались Аркадію за цѣлыхъ пятьдесятъ. Но вотъ на скатѣ пологаго холма открылась наконецъ небольшая деревушка, гдѣ жили родители Базарова. Рядомъ съ нею, въ молодой березовой рощицѣ, виднѣлся дворянскій домикъ подъ соломенною крышей. У первой избы стояли два мужика въ шапкахъ и бранились. «Большая ты свинья, говорилъ одинъ другому, а хуже малаго поросенка». — «А твоя жена — колдунья», возражалъ другой.
— По непринужденности обращенія, — замѣтилъ Аркадію Базаровъ, — и по игривости оборотовъ рѣчи, ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишкомъ притѣснены. Да вотъ и онъ самъ выходитъ на крыльцо своего жилища. Услыхалъ, знать, колокольчикъ. Онъ, онъ — узнаю его фигуру. Эге, ге! какъ онъ однако посѣдѣлъ, бѣдняга!
ХХ.
Базаровъ высунулся изъ тарантаса, а Аркадій вытянулъ голову изъ-за спины своего товарища, и увидалъ на крылечкѣ господскаго домика высокаго, худощаваго человѣка, съ взъерошенными волосами и тонкимъ орлинымъ носомъ, одѣтаго въ старый военный сюртукъ нараспашку. Онъ стоялъ, растопыривъ ноги, курилъ длинную трубку и щурился отъ солнца.
Лошади остановились.
— Наконецъ пожаловалъ, — проговорилъ отецъ Базарова, все продолжая курить, хотя чубукъ такъ и прыгалъ у него между пальцами. — Ну вылѣзай, вылѣзай, почеломкаемся.
Онъ сталъ обнимать сына… «Енюша, Енюша», раздался трепещущій женскій голосъ. Дверь распахнулась, и на порогѣ показалась кругленькая, низенькая старушка, въ бѣломъ чепцѣ и короткой пестрой кофточкѣ. Она ахнула, пошатнулась и навѣрно бы упала, еслибы Базаровъ не поддержалъ ея. Пухлыя ея ручки мгновенно обвились вокругъ его шеи, голова прижалась къ его груди, и все замолкло. Только слышались ея прерывистыя всхлипыванья.
Старикъ Базаровъ глубоко дышалъ и щурился пуще прежняго.
— Ну, полно, полно, Ариша! перестань, — заговорилъ онъ, помѣнявшись взглядомъ съ Аркадіемъ, который стоялъ неподвижно у тарантаса, между тѣмъ какъ мужикъ на козлахъ даже отвернулся: — это совсѣмъ не нужно! пожалуйста перестань.
— Ахъ, Василій Иванычъ, — пролепетала старушка, — въ кои-то вѣки батюшку-то моего, голубчика-то, Енюшеньку… и, не разжимая рукъ, она отодвинула отъ Базарова свое мокрое отъ слезъ, мятое и умиленное лицо, посмотрѣла на него какими-то блаженными и смѣшными глазами, и опять къ нему припала.
— Ну, да, конечно, это все въ натурѣ вещей, — промолвилъ Василій Иванычъ, — только лучше ужъ въ комнату пойдемъ. Съ Евгеніемъ вотъ гость пріѣхалъ. Извините, — прибавилъ онъ, обращаясь къ Аркадію и шаркнулъ слегка ногой, — вы понимаете, женская слабость; ну и сердце матери…
А у самого и губы, и брови дергало, и подбородокъ трясся — но онъ видимо желалъ побѣдить себя и казаться чуть не равнодушнымъ. Аркадій наклонился.
— Пойдемте, матушка, въ самомъ дѣлѣ, — промолвилъ Базаровъ и повелъ въ домъ ослабѣвшую старушку. Усадивъ ее въ покойное кресло, онъ еще разъ наскоро обнялся съ отцомъ и представилъ ему Аркадія.
— Душевно радъ знакомству, — проговорилъ Василій Ивановичъ, — только ужъ вы не взыщите: у меня здѣсь все по простотѣ, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, сдѣлай одолженіе: что за малодушіе? Господинъ гость долженъ осудить тебя.
— Батюшка, — сквозь слезы проговорила старушка, — имени и отчества не имѣю чести знать…
— Аркадій Николаичъ, съ важностію, вполголоса, подсказалъ Василій Иванычъ.
— Извините меня, глупую. — Старушка высморкалась и, нагиная голову то направо, то налѣво, тщательно утерла одинъ глазъ послѣ другого. — Извините вы меня. Вѣдь я такъ и думала, что умру, не дождусь моего го…о…о…лубчика.
— А вотъ и дождались, сударыня, — подхватилъ Василій Ивановичъ. — Танюшка, обратился онъ къ босоногой дѣвочкѣ лѣтъ тринадцати, въ яркокрасномъ ситцевомъ платьѣ, пугливо выглядывавшей изъ-за двери, — принеси барынѣ стаканъ воды — на подносѣ, слышишь? — а васъ, господа, прибавилъ онъ съ какою-то старомодною игривостью, — позвольте попросить въ кабинетъ къ отставному ветерану.
— Хоть еще разочекъ дай обнять себя, Енюшечка, — простонала Арина Власьевна. Базаровъ нагнулся къ ней. — Да какой же ты красавчикъ сталъ!
— Ну, красавчикъ не красавчикъ, — замѣтилъ Василій Ивановичъ, — а мужчина, какъ говорится: оммфе. А теперь, я надѣюсь, Арина Власьевна, что, насытивъ свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщеніи своихъ дорогихъ гостей, потому что, тебѣ извѣстно, соловья баснями кормить не слѣдуетъ.
Старушка привстала съ креселъ.
— Сію минуту, Василій Иванычъ, столъ накрытъ будетъ, сама въ кухню сбѣгаю и самоваръ поставить велю, все будетъ, все. Вѣдь три года его не видала, не кормила, не поила, легко-ли?
— Ну, смотри же, хозяюшка, хлопочи, не осрамись; а васъ, господа, прошу за мной пожаловать. Вотъ и Тимоѳеичъ явился къ тебѣ на поклонъ, Евгеній. И онъ, чай, обрадовался, старый барбосъ. Что? вѣдь обрадовался, старый барбосъ? Милости просимъ за мной.
И Василій Ивановичъ суетливо пошелъ впередъ, шаркая и шлепая стоптанными туфлями.
Весь его домикъ состоялъ изъ шести крошечныхъ комнатъ. Одна изъ нихъ, та, куда онъ привелъ нашихъ пріятелей, называлась кабинетомъ. Толстоногій столъ, заваленный почернѣвшими отъ старинной пыли, словно прокопченными бумагами, занималъ весь промежутокъ между двумя окнами; по стѣнамъ висѣли турецкія ружья, нагайки, сабля, двѣ ландкарты, какіе-то анатомическіе рисунки, портретъ Гуфеланда, вензель изъ волосъ въ черной рамкѣ и дипломъ подъ стекломъ; кожаный, кое-гдѣ продавленный и разорванный, диванъ помѣщался между двумя громадными шкапами изъ карельской березы; на полкахъ въ безпорядкѣ тѣснились книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки; въ одномъ углу стояла сломанная электрическая машина.
— Я васъ предупредилъ, любезный мой посѣтитель, — началъ Василій Иванычъ, — что мы живемъ здѣсь, такъ сказать, на бивуакахъ…
— Да перестань, что ты извиняешься! — перебилъ Базаровъ. Кирсановъ очень хорошо знаетъ, что мы съ тобой не Крезы, и что у тебя не дворецъ. Куда мы его помѣстимъ, вотъ вопросъ?
— Помилуй, Евгеній; тамъ у меня во флигелькѣ отличная комната: имъ тамъ очень хорошо будетъ.
— Такъ у тебя и флигелекъ завелся?
— Какъ же-съ; гдѣ баня-съ, — вмѣшался Тимоѳеичъ.
— То-есть рядомъ съ баней, — поспѣшно присовокупилъ Василій Ивановичъ. — Теперь же лѣто… Я сейчасъ сбѣгаю туда, распоряжусь; а ты бы, Тимоѳеичъ, пока ихъ вещи внесъ. Тебѣ, Евгеній, я разумѣется, предоставлю мой кабинетъ. Suum cuique.
— Вотъ тебѣ на! Презабавный старикашка и добрѣйшій, — прибавилъ Базаровъ, какъ только Василій Ивановичъ вышелъ. — Такой же чудакъ, какъ твой, только въ другомъ родѣ. Много ужъ очень болтаетъ.
— И мать твоя, кажется, прекрасная женщина, — замѣтилъ Аркадій.
— Да, она у меня безъ хитрости. Обѣдъ намъ, посмотри, какой задастъ.
— Сегодня васъ не ждали батюшка, говядинки не привезли, — промолвилъ Тимоѳеичъ, который только что втащилъ Базаровскій чемоданъ.
— И безъ говядинки обойдемся, на нѣтъ и суда нѣтъ. Бѣдность, говорятъ, не порокъ.
— Сколько у твоего отца душъ? — спросилъ вдругъ Аркадій.
— Имѣніе не его, а матери; душъ, помнится, пятнадцать.
— И всѣ двадцать двѣ, — съ неудовольствіемъ замѣтилъ Тимоѳеичъ.
Послышалось шлепаніе туфель и снова появился Василій Ивановичъ.
— Черезъ нѣсколько минутъ ваша комната будетъ готова принять васъ, воскликнулъ онъ съ торжественностію, — Аркадій… Николаичъ? такъ, кажется, вы изволите величаться? А вотъ вамъ и прислуга, — прибавилъ онъ, указывая на вошедшаго съ нимъ коротко-остриженнаго мальчика въ синемъ, на локтяхъ прорванномъ, кафтанѣ и въ чужихъ сапогахъ. — Зовутъ его Ѳедькой. Опять-таки повторяю, хоть сынъ и запрещаетъ, не взыщите. Впрочемъ, трубку набивать онъ умѣетъ. Вѣдь вы курите?
— Я курю больше сигары, — отвѣтилъ Аркадій.
— И весьма благоразумно поступаете. Я самъ отдаю преферансъ сигаркамъ, но въ нашихъ уединенныхъ краяхъ доставать ихъ чрезвычайно затруднительно.
— Да полно тебѣ Лазаря пѣть, — перебилъ опять Базаровъ. — Сядь лучше вотъ тутъ на диванъ, да дай на себя посмотрѣть.
Василій Ивановичъ засмѣялся и сѣлъ. Онъ очень походилъ лицомъ на своего сына, только лобъ у него былъ ниже и уже, и ротъ немного шире, и онъ безпрестанно двигался, поводилъ плечами, точно платье ему подъ мышками рѣзало, моргалъ, покашливалъ и шевелилъ пальцами, между тѣмъ какъ сынъ его отличался какою-то небрежною неподвижностію.
— Лазаря пѣть! — повторилъ Василій Ивановичъ. — Ты, Евгеній, не думай, что я хочу, такъ сказать, разжалобить гостя: вотъ, молъ, мы въ какомъ захолустьѣ живемъ. Я, напротивъ, того мнѣнія, что для человѣка мыслящаго нѣтъ захолустья. По крайней мѣрѣ, я стараюсь, по возможности, не зарости, какъ говорится, мохомъ, не отстать отъ вѣка.
Василій Ивановичъ вытащилъ изъ кармана новый желтый фуляръ, который успѣлъ захватить, бѣгая въ Аркадіеву комнату, и продолжалъ, помахивая имъ по воздуху:
— Я уже не говорю о томъ, что я, напримѣръ, не безъ чувствительныхъ для себя пожертвованій, посадилъ мужиковъ на оброкъ и отдалъ имъ свою землю изъ-полу. Я считалъ это своимъ долгомъ, самое благоразуміе въ этомъ случаѣ повелѣваетъ, хотя другіе владѣльцы даже не помышляютъ объ этомъ: я говорю о наукахъ, объ образованіи.
— Да; вотъ я вижу у тебя — Другъ здравія на 1855 годъ, — замѣтилъ Базаровъ.
— Мнѣ его по знакомству старый товарищъ высылаетъ, поспѣшно проговорилъ Василій Ивановичъ; но мы, напримѣръ, и о френологіи имѣемъ понятіе, прибавилъ онъ, обращаясь впрочемъ болѣе къ Аркадію и указывая на стоявшую на шкапѣ небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четыреугольники, — намъ и Шенлейнъ не остался безъивѣстенъ — и Радемахеръ.
— А въ Радемахера еще вѣрятъ въ *** губерніи? — спросилъ Базаровъ.
Василій Ивановичъ закашлялъ.
— Въ губерніи… Конечно, вамъ, господа, лучше знать; гдѣ жъ намъ за вами угоняться? Вѣдь вы немъ на смѣну пришли. И въ мое время какой-нибудь гуморалистъ Гоффманъ, какой-нибудь Броунъ съ его витализмомъ — казались очень смѣшны, а вѣдь тоже гремѣли когда-то. Кто-нибудь новый замѣнилъ у васъ Радемахера, вы ему поклоняетесь, а черезъ двадцать лѣтъ, пожалуй, и надъ тѣмъ смѣяться будутъ.
— Скажу тебѣ въ утѣшеніе, — промолвилъ Базаровъ: — что мы теперь вообще надъ медициной смѣемся и ни передъ кѣмъ не преклоняемся.
— Какъ же это такъ? Вѣдь ты докторомъ хочешь быть?
— Хочу, да одно другому не мѣшаетъ.
Василій Ивановичъ потыкалъ третьимъ пальцемъ въ трубку, гдѣ еще оставалось немного горячей золы.
— Ну, можетъ быть, можетъ быть — спорить не стану. Вѣдь я что́? — Отставной штабъ-лѣкарь, волату, теперь вотъ въ агрономы попалъ. — Я у вашего дѣдушки въ бригадѣ служилъ, обратился онъ опять къ Аркадію, — да-съ, да-съ; — много я на своемъ вѣку видалъ видовъ. И въ какихъ только обществахъ не бывалъ, съ кѣмъ не важивался! — Я, тотъ самый, я, котораго вы изволите видѣть теперь передъ собою, я у князя Витгенштейна и у Жуковскаго пульсъ щупалъ! Тѣхъ-то, въ южной-то арміи, по четырнадцатому, вы понимаете (и тутъ Василій Ивановичъ значительно сжалъ губы), всѣхъ зналъ наперечетъ. Ну да вѣдь мое дѣло — сторона; знай свой ланцетъ, и баста! А дѣдушка вашъ очень почтенный былъ человѣкъ, настоящій военный.
— Сознайся, дубина была порядочная, — лѣниво промолвилъ Базаровъ.
— Ахъ, Евгеній, какъ это ты выражаешься! помилосердуй… Конечно, генералъ Кирсановъ не принадлежалъ къ числу…
— Ну, брось его, — перебилъ Базаровъ. — Я, какъ подъѣзжалъ сюда, порадовался на твою березовую рощицу, славно вытянулась.
Василій Ивановичъ оживился.
— А ты посмотри, садикъ у меня теперь какой! Самъ каждое деревцо сажалъ. И фрукты есть и ягоды, и всякія медицинскія травы. Ужъ какъ вы тамъ ни хитрите, господа молодые, а все-таки старикъ Парацельсій святую правду изрекъ: in herbis, verbis et lapidibus… Вѣдь я, ты знаешь, отъ практики отказался, а раза два въ недѣлю приходится стариной тряхнуть. Идутъ за совѣтомъ — нельзя же гнать въ шею. Случается, бѣдные прибѣгаютъ къ помощи. Да и докторовъ здѣсь совсѣмъ нѣтъ. Одинъ здѣшній сосѣдъ, представь, отставной майоръ, тоже лѣчитъ. Я спрашиваю о немъ: учился ли онъ медицинѣ? Говорятъ мнѣ: нѣтъ, онъ не учился, онъ больше изъ филантропіи… Ха, ха, изъ филантропіи! а? каково? ха, ха! ха, ха!
— Ѳедька! набей мнѣ трубку! — сурово проговорилъ Базаровъ.
— А то здѣсь другой докторъ пріѣзжаетъ къ больному, — продолжалъ съ какимъ-то отчаяньемъ Василій Ивановичъ — а больной уже ad patres: человѣкъ и не пускаетъ доктора, говоритъ: теперь больше не надо. Тотъ этого не ожидалъ, сконфузился и спрашиваетъ: «что̀, баринъ, передъ смертью икалъ?» — «Икали-съ». — «И много икалъ?» — «Много». «А, ну — это хорошо» — да и верть назадъ. Ха, ха, ха!
Старикъ одинъ засмѣялся; Аркадій выразилъ улыбку на своемъ лицѣ. Базаровъ только затянулся. Бесѣда продолжалась такимъ образомъ около часа; Аркадій успѣлъ сходить въ свою комнату, которая оказалась предбанникомъ, но очень уютнымъ и чистымъ. Наконецъ вошла Танюша и доложила, что обѣдъ готовъ.
Василій Ивановичъ первый поднялся.
— Пойдемте, господа! Извините великодушно, коли наскучилъ. Авось хозяйка моя удовлетворитъ васъ болѣе моего.
Обѣдъ, хотя наскоро сготовленный, вышелъ очень хорошій, даже обильный; только вино немного, какъ говорится, подгуляло: почти черный хересъ, купленный Тимоѳеичемъ въ городѣ у знакомаго купца, отзывался не то мѣдью, не то канифолью; и мухи тоже мѣшали. Въ обыкновенное время дворовый мальчикъ отгонялъ ихъ большою зеленой вѣткой; но на этотъ разъ Василій Ивановичъ услалъ его изъ боязни осужденія съ стороны юнаго поколѣнія. Арина Власьевна успѣла принарядиться; надѣла высокій чепецъ съ шелковыми лентами и голубую шаль съ разводами. Она опять всплакнула, какъ только увидѣла своего Енюшу, но мужу не пришлось ее усовѣщевать: она сама поскорѣй утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль, ѣли одни молодые люди: хозяева давно пообѣдали. Прислуживалъ Ѳедька,видимо обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина съ мужественнымъ лицомъ и кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василій Ивановичъ во все время обѣда расхаживалъ по комнатѣ и съ совершенно счастливымъ и даже блаженнымъ видомъ говорилъ о тяжкихъ опасеніяхъ, внушаемыхъ ему Наполеоновскою политикой и запутанностью итальянскаго вопроса. Арина Власьевна не замѣчала Аркадія, не подчивала его; подперши кулачкомъ свое круглое лицо, которому одутловатыя, вишневаго цвѣта, губки и родинки на щекахъ и надъ бровями придавали выраженіе очень добродушное, она не сводила глазъ съ сына и все вздыхала; ей смертельно хотѣлось узнать, на сколько времени онъ пріѣхалъ, но спросить она его боялась. «Ну, какъ скажетъ на два дня», думала она, и сердце у ней замирало. Послѣ жаренаго Василій Ивановичъ исчезъ на мгновеніе и возвратился съ откупоренною полубутылкой шампанскаго. «Вотъ, воскликнулъ онъ, — хоть мы и въ глуши живемъ, а въ торжественныхъ случаяхъ имѣемъ чѣмъ себя повеселить!» — Онъ налилъ три бокала и рюмку, провозгласилъ здоровье «неоцѣненныхъ посѣтителей» и разомъ, по военному, хлопнулъ свой бокалъ, а Арину Власьевну заставилъ выпить рюмку до послѣдней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадій, не терпѣвшій ничего сладкаго, почелъ однако своею обязанностью отвѣдать отъ четырехъ различныхъ, только что сваренныхъ сортовъ, тѣмъ болѣе что Базаровъ отказался наотрѣзъ и тотчасъ закурилъ сигарку. Потомъ явился на сцену чай со сливками, съ масломъ и кренделями; потомъ Василій Ивановичъ повелъ всѣхъ въ садъ, для того чтобы полюбоваться красотою вечера. Проходя мимо скамейки, онъ шепнулъ Аркадію:
— На семъ мѣстѣ я люблю философствовать, глядя на захожденіе солнца: оно приличествуетъ пустыннику. А тамъ подальше я посадилъ нѣсколько деревьевъ, любимыхъ Гораціемъ.
— Что за деревья? — спросилъ, вслышавшись, Базаровъ.
— А какъ же… акаціи.
Базаровъ началъ зѣвать.
— Я полагаю, пора путешественникамъ въ объятія къ Морфею, — замѣтилъ Василій Ивановичъ.
— То-есть, пора спать, — подхватилъ Базаровъ. — Это сужденіе справедливое. Пора, точно.
Прощаясь съ матерью, онъ поцѣловалъ ее въ лобъ, — а она обняла его и за спиной, украдкой, его благословила трижды. Василій Иванычъ проводилъ Аркадія въ его комнату и пожелалъ ему «такого благодатнаго отдохновенія, какое и я вкушалъ въ наши счастливыя лѣта». И дѣйствительно, Аркадію отлично спалось въ своемъ предбанникѣ: въ немъ пахло мятой, и два сверчка въ перебивку усыпительно трещали за печкой. Василій Ивановичъ отправился отъ Аркадія въ свой кабинетъ, и прикорнувъ на диванѣ въ ногахъ у сына, собирался, было, поболтать съ нимъ; но Базаровъ тотчасъ его отослалъ, говоря, что ему спать хочется, а самъ не заснулъ до утра. Широко раскрывъ глаза, онъ злобно глядѣлъ въ темноту: воспоминанія дѣтства не имѣли власти надъ нимъ, да къ томужъ онъ еще не успѣлъ отдѣлаться отъ послѣднихъ горькихъ впечатлѣній. Арина Власьевна сперва помолилась въ сласть; потомъ долго, долго бесѣдовала съ Анфисушкой, которая, ставъ какъ вкопанная передъ барыней и вперевъ въ нее свой единственный глазъ, передавала ей таинственнымъ шопотомъ всѣ свои замѣчанія и соображенія на счетъ Евгенія Васильевича. У старушки отъ радости, отъ вина, отъ сигарочнаго дыма совсѣмъ закружилась голова; мужъ заговорилъ было съ ней, и махнулъ рукою.
Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежняго времени; ей бы слѣдовало жить лѣтъ за двѣсти, въ старо-московскія времена. Она была очень набожна и чувствительна, вѣрила во всевозможныя примѣты, гаданья, заговоры, сны; вѣрила въ юродивыхъ, въ домовыхъ, въ лѣшихъ, въ дурныя встрѣчи, въ порчу, въ народныя лѣкарства, въ четверговую соль, въ скорый конецъ свѣта; вѣрила, что если въ Свѣтлое Воскресеніе на всенощной не погаснутъ свѣчи, то гречиха хорошо уродится, и что грибъ больше не растетъ, если его человѣческій глазъ увидитъ; вѣрила, что чортъ любитъ быть тамъ, гдѣ вода, и что у каждаго жида на груди кровавое пятнышко; боялась мышей, ужей, лягушекъ, воробьевъ, піявокъ, грома, холодной воды, сквозного вѣтра, лошадей, козловъ, рыжихъ людей и черныхъ кошекъ, и почитала сверчковъ и собакъ нечистыми животными; не ѣла ни телятины, ни голубей, ни раковъ, ни сыру, ни спаржи, ни земляныхъ грушъ, ни зайца, ни арбузовъ, потому что взрѣзанный арбузъ напоминаетъ голову Іоанна Предтечи; а объ устрицахъ говорила не иначе, какъ съ содроганіемъ; любила покушать — и строго постилась; спала десять часовъ въ сутки — и не ложилась вовсе, если у Василія Ивановича заболѣвала голова; не прочла ни одной книги, кромѣ Алексиса или Хижины въ лѣсу, писала одно, много два письма въ годъ, а въ хозяйствѣ, сушеньи и вареньи знала толкъ, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась съ мѣста. Арина Власьевна была очень добра и, по своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свѣтѣ господа, которые должны приказывать, и простой народъ, который долженъ служить, — а потому не гнушалась ни подобострастіемъ, ни земными поклонами; но съ подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищаго не пропускала безъ подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчасъ. Въ молодости она была очень миловидна, играла на клавикордахъ и изъяснялась немного по-французски; но въ теченіи многолѣтнихъ странствій съ своимъ мужемъ, за котораго она вышла противъ воли, расплылась и позабыла музыку и французскій языкъ. Сына своего она любила и боялась несказанно; управленіе имѣніемъ предоставила Василію Ивановичу — и уже не входила ни во что: она охала, отмахивалась платкомъ и отъ испуга подымала брови все выше и выше, какъ только ея старикъ начиналъ толковать о предстоявшихъ преобразованіяхъ и о своихъ планахъ. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчасъ плакала, какъ только вспоминала о чемъ нибудь печальномъ… Подобныя женщины теперь уже переводятся. Богъ знаетъ — слѣдуетъ ли радоваться этому!
XXI.
Вставъ съ постели, Аркадій раскрылъ окно, — и первый предметъ, бросившійся ему въ глаза, былъ Василій Ивановичъ. Въ бухарскомъ шлафрокѣ, подпоясанный носовымъ платкомъ, старикъ усердно рылся въ огородѣ. Онъ замѣтилъ своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнулъ:
— Здравія желаемъ! Какъ почивать изволили?
— Прекрасно, — отвѣчалъ Аркадій.
— А я здѣсь, какъ видите, какъ нѣкій Цинциннатъ, грядку подъ позднюю рѣпу отбиваю. Теперь настало такое время, — да и слава Богу! — что каждый долженъ собственными руками пропитаніе себѣ доставать: на другихъ нечего надѣяться: надо трудиться самому. И выходитъ: что Жанъ-Жакъ Руссо правъ. Полчаса тому назадъ, сударь вы мой, вы бы увидали меня въ совершенно другой позиціи. Одной бабѣ, которая жаловалась на гнетку — это по ихнему, а по нашему — дизентерію, — я… какъ бы выразиться лучше… я вливалъ опіумъ; а другой я зубъ вырвалъ. Этой я предложилъ эфиризацію… только она не согласилась. Все это я дѣлаю gratis — анаматеръ. Впрочемъ, мнѣ не въ диво: я вѣдь плебей, homo novus — не изъ столбовыхъ, не то, что моя благовѣрная… А неугодно ли пожаловать сюда въ тѣнь, вдохнуть передъ чаемъ утреннюю свѣжесть?
Аркадій вышелъ къ нему.
— Добро пожаловать еще разъ! — промолвилъ Василій Ивановичъ, прикладывая по-военному руку къ засаленной ермолкѣ, прикрывавшей его голову. — Вы, я знаю, привыкли къ роскоши, къ удовольствіямъ, но и великіе міра сего не гнушаются провести короткое время подъ кровомъ хижины.
— Помилуйте, — возопилъ Аркадій, — какой же я великій міра сего? И къ роскоши я не привыкъ.
— Позвольте, позвольте, — возразилъ съ любезной ужимкой Василій Ивановичъ. — Я хоть теперь и сданъ въ архивъ, а тоже потерся въ свѣтѣ — узнаю птицу по полету. Я тоже психологъ по своему и физіогномистъ. Не имѣй я этого, смѣю сказать, дара — давно бы я пропалъ; затерли бы меня, маленькаго человѣка. Скажу вамъ безъ комплиментовъ: дружба, которую я замѣчаю между вами и моимъ сыномъ, меня искренно радуетъ. Я сейчасъ видѣлся съ нимъ; онъ, по обыкновенію своему, вѣроятно вамъ извѣстному, вскочилъ очень рано и побѣжалъ по окрестностямъ. Позвольте полюбопытствовать, — вы давно съ моимъ Евгеніемъ знакомы?
— Съ нынѣшней зимы.
— Такъ-съ. И позвольте васъ еще спросить, — но не присѣсть ли намъ? — Позвольте васъ спросить, какъ отцу, со всею откровенностью: какого вы мнѣнія о моемъ Евгеніѣ?
— Вашъ сынъ — одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей, съ которыми я когда либо встрѣчался, — съ живостью отвѣтилъ Аркадій.
Глаза Василія Ивановича внезапно раскрылись и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась изъ его рукъ.
— Итакъ, вы полагаете, началъ онъ…
— Я увѣренъ, — подхватилъ Аркадій, — что сына вашего ждетъ великая будущность, что онъ прославитъ ваше имя. Я убѣдился въ этомъ съ первой нашей встрѣчи.
— Какъ… какъ это было? — едва проговорилъ Василій Ивановичъ. Восторженная улыбка раздвинула его широкія губы, и уже не сходила съ нихъ.
— Вы хотите знать, какъ мы встрѣтились?
— Да… и вообще…
Аркадій началъ разсказывать и говорить о Базаровѣ еще съ большимъ жаромъ, съ бо̀льшимъ увлеченіемъ, чѣмъ въ тотъ вечеръ, когда онъ танцовалъ мазурку съ Одинцовой.
Василій Ивановичъ его слушалъ, слушалъ, сморкался, каталъ платокъ въ обѣихъ рукахъ, кашлялъ, ерошилъ свои волосы — и наконецъ не вытерпѣлъ: нагнулся къ Аркадію и поцѣловалъ его въ плечо.
— Вы меня совершенно осчастливили, — промолвилъ онъ, не переставая улыбаться, — я долженъ вамъ сказать, что я… боготворю моего сына; о моей старухѣ я уже не говорю: извѣстно — мать! — но я не смѣю при немъ выказывать свои чувства, потому что онъ этого не любитъ. Онъ врагъ всѣхъ изліяній; многіе его даже осуждаютъ за такую твердость его нрава и видятъ въ ней признакъ гордости или безчувствія; но подобныхъ ему людей не приходится мѣрить обыкновеннымъ аршиномъ, не правда-ли? Да вотъ напримѣръ: другой на его мѣстѣ тянулъ бы да тянулъ съ своихъ родителей; а у насъ, повѣрите ли? онъ отроду лишней копѣйки не взялъ, ей-Богу!
— Онъ безкорыстный, честный человѣкъ, — замѣтилъ Аркадій.
— Именно, безкорыстный. А я, Аркадій Николаичъ, не только боготворю его, я горжусь имъ, и все мое честолюбіе состоитъ въ томъ, чтобы со временемъ въ его біографіи стояли слѣдующія слова: «сынъ простого штабъ-лѣкаря, который, однако, рано умѣлъ разгадать его и ничего не жалѣлъ для его воспитанія…» — Голосъ старика перервался.
Аркадій стиснулъ ему руку.
— Какъ вы думаете, — спросилъ Василій Ивановичъ послѣ нѣкотораго молчанія, — вѣдь онъ не на медицинскомъ поприщѣ достигнетъ той извѣстности, которую вы ему пророчите?
— Разумѣется, не на медицинскомъ, хотя онъ и въ этомъ отношеніи будетъ изъ первыхъ ученыхъ.
— На какомъ же, Аркадій Николаичъ?
— Это трудно сказать теперь, но онъ будетъ знаменитъ.
— Онъ будетъ знаменитъ! — повторилъ старикъ и погрузился въ думу.
— Арина Власьевна приказали просить чай кушать, — проговорила Анфисушка, проходя мимо съ огромнымъ блюдомъ спѣлой малины.
Василій Ивановичъ встрепенулся.
— А холодныя сливки къ малинѣ будутъ?
— Будутъ-съ.
— Да холодныя, смотри! Не церемоньтесь, Аркадій Николаичъ, — берите больше. Чтожъ это, Евгеній не идетъ?
— Я здѣсь, — раздался голосъ Базарова изъ Аркадіевой комнаты.
Василій Ивановичъ быстро обернулся.
— Ага! ты захотѣлъ посѣтить своего пріятеля; но ты опоздалъ, amice, и мы имѣли уже съ нимъ продолжительную бесѣду. Теперь надо идти чай пить: мать зоветъ. Кстати, мнѣ нужно съ тобой поговорить.
— О чемъ?
— Здѣсь есть мужичекъ, онъ страдаетъ иктеромъ…
— То-есть желтухой?
— Да, хроническимъ и очень упорнымъ иктеромъ. Я прописывалъ ему золототысячникъ и звѣробой, морковь заставлялъ ѣсть, давалъ соду; но это все палліативныя средства; надо что нибудь порѣшительнѣй. Ты хоть и смѣешься надъ медициной, а я увѣренъ, можешь подать мнѣ дѣльный совѣтъ. Но объ этомъ рѣчь впереди. А теперь пойдемъ чай пить.
Василій Ивановичъ живо вскочилъ съ скамейки и запѣлъ изъ Роберта:
— Замѣчательная живучесть! — проговорилъ, отходя отъ окна, Базаровъ.
Насталъ полдень. Солнце жгло изъ-за тонкой завѣсы сплошныхъ, бѣловатыхъ облаковъ. Все молчало: одни пѣтухи задорно перекликались на деревнѣ, возбуждая въ каждомъ, кто ихъ слышалъ, странное ощущеніе дремоты и скуки; да гдѣ-то высоко въ верхушкѣ деревьевъ звенѣлъ плаксивымъ призывомъ немолчный пискъ молодого ястребка. Аркадій и Базаровъ лежали въ тѣни небольшого стога сѣна, подостлавши подъ себя охапки двѣ шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы.
— Та осина, — заговорилъ Базаровъ, — напоминаетъ мнѣ мое дѣтство; она растетъ на краю ямы, оставшейся отъ кирпичнаго сарая, и я въ то время былъ увѣренъ, что эта яма и осина обладали особеннымъ талисманомъ: я никогда не скучалъ возлѣ нихъ. Я не понималъ тогда, что я не скучалъ отъ того, что былъ ребенкомъ. Ну, теперь я взрослый, талисманъ не дѣйствуетъ.
— Сколько ты времени провелъ здѣсь всего? — спросилъ Аркадій.
— Года два сряду; потомъ мы наѣзжали. Мы вели бродячую жизнь; больше все по городамъ шлялись.
— А домъ этотъ давно стоитъ?
— Давно. Его еще дѣдъ построилъ, отецъ моей матери.
— Кто онъ былъ, твой дѣдъ?
— Чортъ его знаетъ. Секундъ-майоръ какой-то. При Суворовѣ служилъ, и все разсказывалъ о переходѣ черезъ Альпы. Вралъ, должно быть.
— То-то у васъ въ гостиной портретъ Суворова виситъ. А я люблю такіе домики, какъ вашъ, старенькіе да тепленькіе; и запахъ въ нихъ какой-то особенный.
— Лампаднымъ масломъ отзываетъ да донникомъ, — произнесъ, зѣвая, Базаровъ. — А что́ мухъ въ этихъ милыхъ домикахъ… Фа!
— Скажи, — началъ Аркадій послѣ небольшого молчанія, — тебя въ дѣтствѣ не притѣсняли?
— Ты видишь, какіе у меня родители. — Народъ нестрогій.
— Ты ихъ любишь, Евгеній?
— Люблю, Аркадій!
— Они тебя такъ любятъ!
Базаровъ помолчалъ.
— Знаешь ли ты, о чемъ я думаю? — промолвилъ онъ наконецъ, закидывая руки за голову.
— Не знаю. О чемъ?
— Я думаю: хорошо моимъ родителямъ жить на свѣтѣ! Отецъ въ шестьдесятъ лѣтъ хлопочетъ, толкуетъ о «палліативныхъ» средствахъ, лѣчитъ людей, великодушничаетъ съ крестьянами, — кутитъ, однимъ словомъ; и матери моей хорошо: день ея до того напичканъ всякими занятіями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я…
— А ты?
— А я думаю: я вотъ лежу здѣсь подъ стогомъ… Узенькое мѣстечко, которое я занимаю, до того крохотно въ сравненіи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ и гдѣ дѣла до меня нѣтъ; и часть времени, которую мнѣ удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностію, гдѣ меня не было и не будетъ… А въ этомъ атомѣ, въ этой математической точкѣ, кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочетъ тоже… Что́ за безобразіе! Что за пустяки!
— Позволь тебѣ замѣтить: то, что̀ ты говоришь, примѣняется вообще ко всѣмъ людямъ…
— Ты правъ, — подхватилъ Базаровъ. — Я хотѣлъ сказать, что они вотъ, мои родители то-есть, заняты и не безпокоятся о собственномъ ничтожествѣ, оно имъ не смердитъ… а я… я чувствую только скуку да злость.
— Злость? почему же злость?
— Почему? Какъ почему? Да развѣ ты забылъ?
— Я помню все, но все-таки я не признаю за тобою права злиться. Ты несчастливъ, я согласенъ, но…
— Э! да ты, я вижу, Аркадій Николаевичъ, понимаешь любовь, какъ всѣ новѣйшіе молодые люди: цыпъ, цыпъ, цыпъ, курочка, а какъ только курочка начинаетъ приближаться, давай Богъ ноги! — Я не таковъ. Но довольно объ этомъ. Чему помочь нельзя, о томъ и говорить стыдно. — Онъ повернулся на бокъ. — Эге! вонъ молодецъ муравей тащитъ полумертвую муху. Тащи ее, братъ, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тѣмъ, что ты, въ качествѣ животнаго, имѣешь право не признавать чувства состраданія, не то, что нашъ братъ, самоломанный!
— Не ты бы говорилъ Евгеній! — Когда ты себя ломалъ?
Базаровъ приподнялъ голову.
— Я только этимъ и горжусь. Самъ себя не сломалъ, такъ и бабенка меня не сломаетъ. Аминь! Кончено! Сло́ва объ этомъ больше отъ меня не услышишь.
Оба пріятеля полежали нѣкоторое время въ молчаніи.
— Да, — началъ Базаровъ, — странное существо человѣкъ. Какъ посмотришь этакъ съ боку да издали на глухую жизнь, какую ведутъ здѣсь «отцы», кажется: чего лучше? Ѣшь, пей, и знай, что поступаешь самымъ правильнымъ, самымъ разумнымъ манеромъ. Анъ нѣтъ; тоска одолѣетъ. Хочется съ людьми возиться, хоть ругать ихъ, да возиться съ ними.
— Надо бы такъ устроить жизнь, чтобы каждое мгновеніе въ ней было значительно, — произнесъ задумчиво Аркадій.
— Кто говоритъ! Значительное, хоть и ложно бываетъ, да сладко, но и съ незначительнымъ помириться можно… а вотъ — дрязги, дрязги… это бѣда.
— Дрязги не существуютъ для человѣка, если онъ только не захочетъ ихъ признать.
— Гмъ… это ты сказалъ противоположное общее мѣсто.
— Что? — Что̀ ты называешь этимъ именемъ?
— А вотъ что̀: сказать, напримѣръ, что просвѣщеніе полезно, это общее мѣсто; а сказать, что просвѣщеніе вредно, это противоположное общее мѣсто. Оно какъ будто щеголеватѣе, а въ сущности одно и тоже.
— Да правда-то гдѣ, на какой сторонѣ?
— Гдѣ? Я тебѣ отвѣчу, какъ эхо: гдѣ?
— Ты въ меланхолическомъ настроеніи сегодня, Евгеній.
— Въ самомъ дѣлѣ? Солнце меня, должно быть, распарило, да и малины нельзя такъ много ѣсть.
— Въ такомъ случаѣ не худо вздремнуть, — замѣтилъ Аркадій.
— Пожалуй; только ты не смотри на меня: всякаго человѣка лицо глупо, когда онъ спитъ.
— А тебѣ не все равно, что̀ о тебѣ думаютъ?
— Не знаю что̀ тебѣ сказать. Настоящій человѣкъ объ этомъ не долженъ заботиться; настоящій человѣкъ тотъ, о которомъ думать нечего, а котораго надобно слушаться или ненавидѣть.
— Странно! я никого не ненавижу, — промолвилъ, подумавши, Аркадіи.
— А я такъ многихъ. Ты нѣжная душа, размазня, гдѣ тебѣ ненавидѣть!… Ты робѣешь, мало на себя надѣешься…
— А ты, — перебилъ Аркадій, — на себя надѣешься? Ты высокаго мнѣнія о самомъ себѣ?
Базаровъ помолчалъ.
— Когда я встрѣчу человѣка, который не спасовалъ бы передо мною, — проговорилъ онъ съ разстановкой, — тогда я измѣню свое мнѣніе о самомъ себѣ. — Ненавидѣть! Да вотъ, напримѣръ, ты сегодня сказалъ проходя мимо избы вашего старосты Филиппа — она такая славная, бѣлая — вотъ, сказалъ ты, Россія тогда достигнетъ совершенства, когда у послѣдняго мужика будетъ такое же помѣщеніе, и всякій изъ насъ долженъ этому способствовать… А я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть, и который мнѣ даже спасибо не скажетъ… да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ; — ну, а дальше?
— По́лно, Евгеній… послушать тебя сегодня, поневолѣ согласишься съ тѣми, которые упрекаютъ насъ въ отсутствіи принциповъ.
— Ты говоришь, какъ твой дядя. Принциповъ вообще нѣтъ — ты объ этомъ не догадался до сихъ поръ! а есть ощущенія. Все отъ нихъ зависитъ.
— Какъ такъ?
— Да такъ же. — Напримѣръ, я: я придерживаюсь отрицательнаго направленія — въ силу ощущенія. Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ — и баста! Отчего мнѣ нравится химія? Отчего ты любишь яблоки? — тоже въ силу ощущенія. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнутъ. Не всякій тебѣ это скажетъ, да и я въ другой разъ тебѣ этого не скажу.
— Что жъ? и честность — ощущеніе?
— Еще бы!
— Евгеній! — началъ печальнымъ голосомъ Аркадій…
— А? что? не по вкусу? — перебилъ Базаровъ. — Нѣтъ, братъ! Рѣшился все косить — валяй и себя по ногамъ!… Однако мы довольно философствовали. «Природа навѣваетъ молчаніе сна», сказалъ Пушкинъ.
— Никогда онъ ничего подобнаго не сказалъ, — промолвилъ Аркадій.
— Ну, не сказалъ, такъ могъ и долженъ былъ сказать, въ качествѣ поэта. Кстати, онъ должно-быть въ военной службѣ служилъ.
— Пушкинъ никогда не былъ военнымъ!
— Помилуй, у него на каждой страницѣ: — На бой, на бой! за честь Россіи!
— Что ты это за небылицы выдумываешь! Вѣдь это клевета наконецъ.
— Клевета? Эка важность! Вотъ вздумалъ какимъ словомъ испугать! Какую клевету ни взведи на человѣка, онъ въ сущности заслуживаетъ въ двадцать разъ хуже того.
— Давай лучше спать! — съ досадой проговорилъ Аркадіи.
— Съ величайшимъ удовольствіемъ, — отвѣтилъ Базаровъ. Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоихъ молодыхъ людей. Минутъ пять спустя, они открыли глаза и переглянулись молча.
— Посмотри, сказалъ вдругъ Аркадій, сухой, кленовый листъ оторвался и падаетъ на землю; его движенія совершенно сходны съ полетомъ бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое — сходно съ самымъ веселымъ и живымъ.
— О, другъ мой Аркадій Николаичъ! — воскликнулъ Базаровъ; — объ одномъ прошу тебя: не говори красиво.
— Я говорю, какъ умѣю… Да и наконецъ это деспотизмъ. Мнѣ пришла мысль въ голову; отчего ея не высказать?
— Такъ; но почему же и мнѣ не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво — неприлично.
— Что́ же прилично? Ругаться?
— Э, э! да ты я вижу точно намѣренъ пойдти по стопамъ дядюшки. Какъ бы этотъ идіотъ порадовался, еслибъ услышалъ тебя?
— Какъ ты назвалъ Павла Петровича?
— Я его назвалъ, какъ слѣдуетъ, — идіотомъ.
— Это однако нестерпимо! — воскликнулъ Аркадій.
— Ага! родственное чувство заговорило, спокойно промолвилъ Базаровъ. — Я замѣтилъ: оно очень упорно держится въ людяхъ. Отъ всего готовъ отказаться человѣкъ, со всякимъ предразсудкомъ разстанется; но сознаться, что, напримѣръ, братъ, который чужіе платки крадетъ, воръ — это свыше его силъ. Да и въ самомъ дѣлѣ: мой братъ, мой — и не геній… возможно ли это?
— Во мнѣ простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное, — возразилъ запальчиво Аркадій. — Но такъ какъ ты этого чувства не понимаешь, у тебя нѣтъ этого ощущенія, то ты и не можешь судить о немъ.
— Другими словами: Аркадій Кирсановъ слишкомъ возвышенъ для моего пониманія, преклоняюсь и умолкаю.
— Полно, пожалуйста, Евгеній; мы наконецъ поссоримся.
— Ахъ, Аркадій! сдѣлай одолженіе, поссоримся разъ хорошенько — до положенія ризъ, до истребленія.
— Но вѣдь этакъ, пожалуй, мы кончимъ тѣмъ…
— Что подеремся? — подхватилъ Базаровъ. — Что жъ? Здѣсь на сѣнѣ, въ такой идиллической обстановкѣ, вдали отъ свѣта и людскихъ взоровъ — ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчасъ схвачу за горло…
Базаровъ растопырилъ свои длинные и жесткіе пальцы… Аркадій повернулся и приготовился, какъ бы шутя, сопротивляться… Но лицо его друга показалось ему такимъ зловѣщимъ, такая нешуточная угроза почудилась ему въ кривой усмѣшкѣ его губъ, въ загорѣвшихся глазахъ, — что онъ почувствовалъ невольную робость…
— А! вотъ вы куда забрались! — раздался въ это мгновеніе голосъ Василія Ивановича, и старый штабъ-лѣкарь предсталъ передъ молодыми людьми, облеченный въ домодѣланный полотняный пиджакъ и съ соломенною тоже домодѣланною шляпой на головѣ. — Я васъ искалъ, искалъ… Но вы отличное выбрали мѣсто и прекрасному предаетесь занятію. Лежа на «землѣ», глядѣть въ «небо»… Знаете ли — въ этомъ есть какое-то особое значеніе!
— Я гляжу въ небо только тогда, когда хочу чихнуть, — проворчалъ Базаровъ и, обратившись къ Аркадію, прибавилъ вполголоса: — Жаль, что помѣшалъ.
— Ну полно, — шепнулъ Аркадій и пожалъ украдкой своему другу руку. — Но никакая дружба долго не выдержитъ такихъ столкновеній.
— Смотрю я на васъ, мои юные собесѣдники, — говорилъ между тѣмъ Василій Ивановичъ, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственнаго издѣлія, съ фигурой турка вмѣсто набалдашника, — смотрю, и не могу не любоваться. Сколько въ васъ силы, молодости самой цвѣтущей, способностей, талантовъ! Просто… Касторъ и Поллуксъ!
— Вонъ куда — въ миѳологію метнулъ! — промолвилъ Базаровъ. — Сейчасъ видно, что въ свое время сильный былъ латинистъ! Вѣдь ты, помнится, серебряной медали за сочиненіе удостоился, — а?
— Діоскуры, Діоскуры! — повторялъ Василіи Ивановичъ.
— Однако полно, отецъ, — не нѣжничай.
— Въ кои-то вѣки разикъ можно, — пробормоталъ старикъ. — Впрочемъ, я васъ, господа, отыскалъ не съ тѣмъ, чтобы говорить вамъ комплименты; но съ тѣмъ, чтобы, вопервыхъ, доложить вамъ, что мы скоро обѣдать будемъ; а вовторыхъ — мнѣ хотѣлось предварить тебя, Евгеній… Ты умный человѣкъ, ты знаешь людей, и женщинъ знаешь, и слѣдовательно извинишь… Твоя матушка молебенъ отслужить хотѣла, по случаю твоего пріѣзда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этомъ молебнѣ: ужъ онъ конченъ; но отецъ Алексѣй…
— Попъ?
— Ну да, священникъ; онъ у насъ… кушать будетъ… Я этого не ожидалъ и даже не совѣтовалъ… но какъ-то такъ вышло… онъ меня не понялъ… Ну, и Арина Власьевна… Притомъ же, онъ у насъ очень хорошій и разсудительный человѣкъ.
— Вѣдь онъ моей порціи за обѣдомъ не съѣстъ? — спросилъ Базаровъ.
Василій Ивановичъ засмѣялся.
— Помилуй, что́ ты!
— А больше я ничего не требую. Я со всякимъ человѣкомъ готовъ за столъ сѣсть.
Василій Ивановичъ поправилъ свою шляпу.
— Я былъ напередъ увѣренъ, — промолвилъ онъ, — что ты выше всякихъ предразсудковъ. На что́ вотъ я — старикъ, шестьдесятъ-второй годъ живу, а и я ихъ не имѣю. (Василій Ивановичъ не смѣлъ сознаться, что онъ самъ пожелалъ молебна — Набоженъ онъ былъ не менѣе своей жены). А отцу Алексѣю очень хотѣлось съ тобой познакомиться. Онъ тебѣ понравится, ты увидишь. Онъ и въ карточки не прочь поиграть, и даже… но это между нами… трубочку куритъ.
— Что же? Мы послѣ обѣда засядемъ въ ералашъ, и я его обыграю.
— Хе-хе-хе, посмотримъ! Бабушка надвое сказала.
— А что̀? развѣ стариной тряхнешь? — промолвилъ съ особеннымъ удареніемъ Базаровъ.
Бронзовыя щеки Василія Ивановича смутно покраснѣли.
— Какъ тебѣ не стыдно, Евгеній… Что было, то прошло. Ну да я готовъ вотъ передъ ними признаться, имѣлъ я эту страсть въ молодости — точно; да и поплатился же я за нее! — Однако, какъ жарко. Позвольте подсѣсть къ вамъ. Вѣдь я не мѣшаю?
— Нисколько, — отвѣтилъ Аркадій.
Василій Ивановичъ кряхтя опустился па сѣно.
— Напоминаетъ мнѣ ваше теперешнее ложе, государи мои, — началъ онъ, — мою военную, бивуачную жизнь, перевязочные пункты, тоже гдѣ-нибудь этакъ возлѣ стога, и то еще слава Богу. — Онъ вздохнулъ. — Много, много испыталъ я на своемъ вѣку. Вотъ напримѣръ, если позволите, я вамъ разскажу любопытный эпизодъ чумы въ Бессарабіи.
— За который ты получилъ Владиміра? — подхватилъ Базаровъ. — Знаемъ, знаемъ… Кстати, отчего ты его не носишь?
— Вѣдь я тебѣ говорилъ, что я не имѣю предразсудковъ, — пробормоталъ Василій Ивановичъ (онъ только наканунѣ велѣлъ спороть красную ленточку съ сюртука), и принялся разсказывать эпизодъ чумы. — А вѣдь онъ заснулъ, — шепнулъ онъ вдругъ Аркадію, указывая на Базарова и добродушно подмигнувъ. — Евгеній! вставай, прибавилъ онъ громко. — Пойдемъ обѣдать…
Отецъ Алексѣй, мущина видный и полный, съ густыми, тщательно разчесанными волосами, съ вышитымъ поясомъ на лиловой шелковой рясѣ, оказался человѣкомъ очень ловкимъ и находчивымъ. Онъ первый поспѣшилъ пожать руку Аркадію и Базарову, какъ бы понимая заранѣе, что они не нуждаются въ его благословеніи, и вообще держалъ себя непринужденно. И себя онъ не выдалъ, и другихъ не задѣлъ; кстати посмѣялся надъ семинарскою латынью, и заступился за своего архіерея; двѣ рюмки вина выпилъ, а отъ третьей отказался; принялъ отъ Аркадія сигару, но курить ее не сталъ, говоря, что повезетъ ее домой. Не совсѣмъ пріятно было въ немъ только то, что онъ то-и-дѣло медленно и осторожно заносилъ руку, чтобы ловить мухъ у себя на лицѣ, и при этомъ иногда давилъ ихъ. Онъ сѣлъ за зеленый столъ съ умѣреннымъ изъявленіемъ удовольствія и кончилъ тѣмъ, что обыгралъ Базарова на 2 руб. 50 коп. ассигнаціями: въ домѣ Арины Власьевны и понятія не имѣли о счетѣ на серебро… Она по прежнему сидѣла возлѣ сына (въ карты она не играла), по прежнему подпирая щеку кулачкомъ, и вставала только затѣмъ, чтобы велѣть подать какое-нибудь новое яство. Она боялась ласкать Базарова, и онъ не ободрялъ ея, не вызывалъ ея на ласки; притомъ же и Василій Ивановичъ присовѣтовалъ ей не очень его «безпокоить». — «Молодые люди до этого не охотники», твердилъ онъ ей; (нечего говорить, каковъ былъ въ тотъ день обѣдъ: Тимоѳеичъ собственною персоной скакалъ на утренней зарѣ за какою-то особенною черкасскою говядиной; староста ѣздилъ въ другую сторону за налимами, ершами и раками; за одни грибы бабы получили 42 копѣйки мѣдью); но глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нѣжность: въ нихъ виднѣлась и грусть, смѣшанная съ любопытствомъ и страхомъ, виднѣлся какой-то смиренный укоръ.
Впрочемъ, Базарову было не до того, чтобы разбирать, что̀ именно выражали глаза его матери; онъ рѣдко обращался къ ней, и то съ коротенькимъ вопросомъ. Разъ онъ попросилъ у ней руку «на счастье»; она тихонько положила свою мягкую ручку на его жесткую и широкую ладонь.
— Что̀, — спросила она, погодя немного, — не помогло?
— Еще хуже пошло, — отвѣчалъ онъ съ небрежною усмѣшкой.
— Очинно они уже рискуютъ, — какъ бы съ сожалѣніемъ произнесъ отецъ Алексѣй, и погладилъ свою красивую бороду.
— Наполеоновское правило, батюшка, наполеоновское, — подхватилъ Василій Ивановичъ, — и пошелъ съ туза.
— Оно же и довело его до острова святыя Елены, промолвилъ отецъ Алексѣй, и покрылъ его туза козыремъ.
— Не желаешь ли смородинной воды, Енюшечка? — спросила Арина Власьевна.
Базаровъ только плечами пожалъ.
— Нѣтъ! — говорилъ онъ на слѣдующій день Аркадію, — уѣду отсюда завтра. Скучно; работать хочется, а здѣсь нельзя. Отправлюсь опять къ вамъ въ деревню; я же тамъ всѣ свои препараты оставилъ. У васъ, по крайней мѣрѣ, запереться можно. А то здѣсь отецъ мнѣ твердитъ: «мой кабинетъ къ твоимъ услугамъ — никто тебѣ мѣшать не будетъ»; а самъ отъ меня ни на шагъ. Да и совѣстно какъ-то отъ него запираться. Ну и мать тоже. Я слышу, какъ она вздыхаетъ за стѣной, а выйдешь къ ней — и сказать ей нечего.
— Очень она огорчится, — промолвилъ Аркадій, — да и онъ тоже.
— Я къ нимъ еще вернусь.
— Когда?
— Да вотъ какъ въ Петербургъ поѣду.
— Мнѣ твою мать особенно жалко.
— Что̀ такъ? Ягодами, что̀ ли, она тебѣ угодила?
Аркадій опустилъ глаза.
— Ты матери своей не знаешь, Евгеній. Она не только отличная женщина, она очень умна, право. Сегодня утромъ она со мной съ полчаса бесѣдовала, и такъ дѣльно, интересно.
— Вѣрно обо мнѣ все распространялась?
— Не о тебѣ одномъ была рѣчь.
— Можетъ-быть; тебѣ со стороны виднѣй. Коли можетъ женщина получасовую бесѣду поддержать, это ужъ знакъ хорошій. А я все-таки уѣду.
— Тебѣ не легко будетъ сообщить имъ это извѣстіе. Они все разсуждаютъ о томъ, что̀ мы черезъ двѣ недѣли дѣлать будемъ.
— Не легко. Чортъ меня дернулъ сегодня подразнить отца: онъ на дняхъ велѣлъ высѣчь одного своего оброчнаго мужика — и очень хорошо сдѣлалъ; да, да не гляди на меня съ такимъ ужасомъ — очень хорошо сдѣлалъ, потому что воръ и пьяница онъ страшнѣйшій; только отецъ никакъ не ожидалъ, что я объ этомъ, какъ говорится, извѣстенъ сталъ. Онъ очень сконфузился, а теперь мнѣ придется въ добавокъ его огорчить… Ничего! До свадьбы заживетъ.
Базаровъ сказалъ: «ничего!» но цѣлый день прошелъ, прежде чѣмъ онъ рѣшился увѣдомить Василія Ивановича о своемъ намѣреніи. Наконецъ, уже прощаясь съ нимъ въ кабинетѣ, онъ проговорилъ съ натянутымъ зѣвкомъ:
— Да… чуть было не забылъ тебѣ сказать… Вели-ка завтра нашихъ лошадей къ Ѳедоту выслать на подставу.
Василій Ивановичъ изумился.
— Развѣ г-нъ Кирсановъ отъ насъ уѣзжаетъ?
— Да; и я съ нимъ уѣзжаю.
Василій Ивановичъ перевернулся на мѣстѣ.
— Ты уѣзжаешь?
— Да… мнѣ нужно. Распорядись, пожалуйста, на счетъ лошадей.
— Хорошо… — залепеталъ старикъ: — на подставу… хорошо… только… только… Какъ же это?
— Мнѣ нужно съѣздить къ нему на короткое время. Я потомъ опять сюда вернусь.
— Да! На короткое время… Хорошо. — Василій Ивановичъ вынулъ платокъ и, сморкаясь, наклонился чуть не до земли. — Что жъ? это… все будетъ. Я было думалъ, что ты у насъ… подольше. Три дня… Это, это, послѣ трехъ лѣтъ, маловато; маловато, Евгеній!
— Да я жъ тебѣ говорю, что я скоро вернусь. Мнѣ необходимо.
— Необходимо… Что жъ? Прежде всего надо долгъ исполнять… Такъ выслать лошадей? Хорошо. Мы, конечно, съ Ариной этого не ожидали. Она вотъ цвѣтовъ выпросила у сосѣдки, хотѣла комнату тебѣ убрать. (Василій Ивановичъ уже не упомянулъ о томъ, что каждое утро, чуть свѣтъ, стоя о босу ногу въ туфляхъ, онъ совѣщался съ Тимоѳеичемъ и, доставая дрожащими пальцами одну изорванную ассигнацію за другою, поручалъ ему разныя закупки, особенно налегая на съѣстные припасы и на красное вино, которое, сколько можно было замѣтить, очень понравилось молодымъ людямъ.) Главное — свобода; — это мое правило… не надо стѣснять… не…
Онъ вдругъ умолкъ и направился къ двери.
— Мы скоро увидимся, отецъ, право.
Но Василій Ивановичъ, не оборачиваясь, только рукой махнулъ и вышелъ. Возвратясь въ спальню, онъ засталъ свою жену въ постели и началъ молиться шопотомъ, чтобы ея не разбудить. Однако она проснулась.
— Это ты, Василій Иванычъ? — спросила она.
— Я, матушка!
— Ты отъ Енюши? Знаешь ли, я боюсь: покойно ли ему спать на диванѣ? Я Анфисушкѣ велѣла положить ему твой походный матрасикъ и новыя подушки, я бы нашъ пуховикъ ему дала; да онъ, помнится, не любитъ мягко спать.
— Ничего, матушка, не безпокойся. Ему хорошо. Господи, помилуй насъ грѣшныхъ, продолжалъ онъ вполголоса свою молитву. Василій Ивановичъ пожалѣлъ свою старушку; онъ не захотѣлъ сказать ей на ночь, какое горе ее ожидало.
Базаровъ съ Аркадіемъ уѣхали на другой день. Съ утра уже все пріуныло въ домѣ; у Анфисушки посуда изъ рукъ валилась; даже Ѳедька недоумѣвалъ, и кончилъ тѣмъ, что снялъ сапоги. Василій Ивановичъ суетился больше чѣмъ когда-либо: онъ видимо храбрился, громко говорилъ и стучалъ ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно скользили мимо сына. Арина Власьевна тихо плакала; она совсѣмъ бы растерялась и не совладѣла бы съ собой, еслибы мужъ рано утромъ цѣлые два часа ея не уговаривалъ. Когда же Базаровъ, послѣ неоднократныхъ обѣщаніи вернуться никакъ не позже мѣсяца, вырвался наконецъ изъ удерживавшихъ его объятій, и сѣлъ въ тарантасъ; когда лошади тронулись, и колокольчикъ зазвенѣлъ, и колеса завертѣлись, — и вотъ уже глядѣть вслѣдъ было незачѣмъ, и пыль улеглась, и Тимоѳеичъ, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назадъ въ свою каморку; когда старички остались одни въ своемъ, тоже какъ будто внезапно съежившемся и подряхлѣвшемъ домѣ: Василій Ивановичъ, еще за нѣсколько мгновеній молодцовато махавшій платкомъ на крыльцѣ, опустился на стулъ и уронилъ голову на грудь. «Бросилъ, бросилъ насъ»: залепеталъ онъ: — «бросилъ; скучно ему стало съ нами. Одинъ, какъ перстъ теперь, одинъ!» повторилъ онъ нѣсколько разъ, и каждый разъ выносилъ впередъ свою руку съ отдѣленнымъ указательнымъ пальцемъ. Тогда Арина Власьевна приблизилась къ нему и, прислонивъ свою сѣдую голову къ его сѣдой головѣ, сказала: «Что́ дѣлать, Вася! Сынъ отрѣзанный ломоть. Онъ, что соколъ: захотѣлъ — прилетѣлъ, захотѣлъ — улетѣлъ; а мы съ тобой какъ опенки на дуплѣ, сидимъ рядкомъ, и ни съ мѣста. Только я останусь для тебя навѣкъ неизмѣнно, какъ и ты для меня».
Василій Ивановичъ принялъ отъ лица руки и обнялъ свою жену, свою подругу, такъ крѣпко, какъ и въ молодости ея не обнималъ: она утѣшила его въ его печали.
ХХІІ.
Молча, лишь изрѣдка мѣняясь незначительными словами, доѣхали наши пріятели до Ѳедота. Базаровъ былъ не совсѣмъ собою доволенъ. Аркадій былъ недоволенъ имъ. Къ тому же онъ чувствовалъ на сердцѣ ту безпричинную грусть, которая знакома только однимъ очень молодымъ людямъ. Кучеръ перепрягъ лошадей и, взобравшись на козлы, спросилъ: направо, аль налѣво?
Аркадій дрогнулъ. Дорога направо вела въ городъ, а оттуда домой; дорога налѣво вела къ Одинцовой.
Онъ взглянулъ на Базарова.
— Евгеній, — спросилъ онъ, — налѣво?
Базаровъ отвернулся.
— Это что̀ за глупость? — пробормоталъ онъ.
— Я знаю, что глупость, отвѣтилъ Аркадій… Да что за бѣда? Развѣ намъ въ первый разъ?
Базаровъ надвинулъ картузъ себѣ на лобъ.
— Какъ знаешь, — проговорилъ онъ наконецъ.
— Пошелъ налѣво, — крикнулъ Аркадій.
Тарантасъ покатилъ въ направленіи къ Никольскому. Но рѣшившись на глупость, пріятели еще упорнѣе прежняго молчали, и даже казались сердитыми.
Уже потому, ка̀къ ихъ встрѣтилъ дворецкій на крыльцѣ Одинцовскаго дома, пріятели могли догадаться, что они поступили неблагоразумно, поддавшись внезапно пришедшей имъ фантазіи. Ихъ очевидно не ожидали. Они просидѣли довольно долго и съ довольно-глупыми физіономіями въ гостиной. Одинцова вышла къ нимъ наконецъ. Она привѣтствовала ихъ съ обыкновенною своей любезностью, но удивилась ихъ скорому возвращенію и, сколько можно было судить по медлительности ея движеній и рѣчей, не слишкомъ ему обрадовалась. Они поспѣшили объявить, что заѣхали только по дорогѣ, и часа черезъ четыре отправятся дальше, въ городъ. Она ограничилась легкимъ восклицаніемъ, попросила Аркадія поклониться отцу отъ ея имени, и послала за своею теткой. Княжна явилась вся заспанная, что придавало еще болѣе злобы выраженію ея сморщеннаго, стараго лица. Катѣ не здоровилось, она не выходила изъ своей комнаты. Аркадій вдругъ почувствовалъ, что онъ по крайней мѣрѣ столько же желалъ видѣть Катю, сколько и самоё Анну Сергѣевну. Четыре часа прошло въ незначительныхъ толкахъ о томъ, о семъ; Анна Сергѣевна и слушала и говорила безъ улыбки. Только при самомъ прощаніи прежнее дружелюбіе какъ будто шевельнулось въ ея душѣ.
— На меня теперь нашла хандра, — сказала она, — но вы не обращайте на это вниманія и пріѣзжайте опять, я вамъ это обоимъ говорю, черезъ нѣсколько времени.
И Базаровъ, и Аркадій отвѣтили ей безмолвнымъ поклономъ, сѣли въ экипажъ и, уже нигдѣ не останавливаясь, отправились домой, въ Марьино, куда и прибыли благополучно на слѣдующій день вечеромъ. Въ продолженіе всей, дороги ни тотъ, ни другой не упомянулъ даже имени Одинцовой; Базаровъ, въ особенности, почти не раскрывалъ рта, и все глядѣлъ въ сторону, прочь отъ дороги, съ какимъ-то ожесточеннымъ напряженіемъ.
Въ Марьинѣ имъ всѣ чрезвычайно обрадовались. Продолжительное отсутствіе сына начинало безпокоить Николая Петровича; онъ вскрикнулъ, заболталъ ногами и подпрыгнулъ на диванѣ, когда Ѳеничка вбѣжала къ нему съ сіяющими глазами и объявила о пріѣздѣ «молодыхъ господъ»; самъ Павелъ Петровичъ почувствовалъ нѣкоторое пріятное волненіе и снисходительно улыбался, потрясая руки возвратившихся странниковъ. Пошли толки, разспросы; говорилъ больше Аркадій, особенно за ужиномъ, который продолжался далеко за полночь. Николай Петровичъ велѣлъ подать нѣсколько бутылокъ портера, только-что привезеннаго изъ Москвы, и самъ разкутился до того, что щеки у него сдѣлались малиновыя, и онъ все смѣялся какимъ-то не то дѣтскимъ, не то нервическимъ смѣхомъ. Всеобщее одушевленіе распространилось и на прислугу. Дуняша бѣгала взадъ и впередъ какъ угорѣлая, и то и дѣло хлопала дверями; а Петръ даже въ третьемъ часу ночи все еще пытался сыграть на гитарѣ вальсъ-казакъ. Струны жалобно и пріятно звучали въ неподвижномъ воздухѣ, но за исключеніемъ небольшой первоначальной фіоритуры ничего не выходило у образованнаго камердинера: природа отказала ему въ музыкальной способности, какъ и во всѣхъ другихъ.
А между тѣмъ жизнь не слишкомъ красиво складывалась въ Марьинѣ, и бѣдному Николаю Петровичу приходилось плохо. Хлопоты но фермѣ росли съ каждымъ днемъ — хлопоты безотрадныя, безтолковыя. Возня съ наемными работниками становилась невыносимою. Одни требовали разсчета или прибавки, другіе уходили, забравши задатокъ; лошади заболѣвали; збруя горѣла какъ на огнѣ; работы исполнялись небрежно; выписанная изъ Москвы молотильная машина оказалась негодною по своей тяжести; другую съ перваго разу испортили; половина скотнаго двора сгорѣла, оттого что слѣпая старуха изъ дворовыхъ въ вѣтряную погоду пошла съ головешкой окуривать свою корову… правда, по увѣренію той же старухи, вся бѣда произошла оттого, что барину вздумалось заводить какіе-то небывалые сыры и молочные скопы. Управляющій вдругъ облѣнился и даже началъ толстѣть, какъ толстѣетъ всякій русскій человѣкъ попавшій на «вольные хлѣба́». Завидя издали Николая Петровича, онъ, чтобы заявить свое рвеніе, бросалъ щепкой въ пробѣгавшаго мимо поросенка или грозился полунагому мальчишкѣ, а впрочемъ больше все спалъ. Посаженные на оброкъ мужики не взносили денегъ въ срокъ, крали лѣсъ; почти каждую ночь сторожи ловили, а иногда съ бою забирали крестьянскихъ лошадей на лугахъ «фермы». Николай Петровичъ опредѣлилъ было денежный штрафъ за потраву, но дѣло обыкновенно кончалось тѣмъ, что, постоявъ день или два на господскомъ кормѣ, лошади возвращались къ своимъ владѣльцамъ. Къ довершенію всего, мужики начали между собою ссориться: братья требовали раздѣла, жены ихъ не могли ужиться въ одномъ домѣ; внезапно закипала драка, и все вдругъ поднималось на ноги, какъ по командѣ, все сбѣгалось передъ крылечко конторы, лѣзло къ барину, часто съ избитыми рожами, въ пьяномъ видѣ, и требовало суда и расправы; возникалъ шумъ, вопль, бабій хныкающій визгъ въ перемежку съ мужскою бранью. Нужно было разбирать враждующія стороны, кричать самому до хрипоты, зная напередъ, что къ правильному рѣшенію все-таки придти невозможно. Не хватало рукъ для жатвы: сосѣдній однодворецъ, съ самымъ благообразнымъ лицомъ, подрядился доставить жнецовъ по два рубля съ десятины, и надулъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ; свои бабы заламывали цѣны неслыханныя, а хлѣбъ между тѣмъ осыпался, а тутъ съ косьбой не совладѣли, а тутъ Опекунскій Совѣтъ грозится и требуетъ немедленной и безнедоимочной уплаты процентовъ…
— Силъ моихъ нѣтъ! — не разъ съ отчаяніемъ восклицалъ Николай Петровичъ. — Самому драться невозможно, посылать за становымъ — не позволяютъ принципы, а безъ страха наказанія ничего не подѣлаешь!
— Du calme, du calme, — замѣчалъ на это Павелъ Петровичъ, а самъ мурлыкалъ, хмурился и подергивалъ усы.
Базаровъ держался въ отдаленіи отъ этихъ «дрязговъ», да ему, какъ гостю, не приходилось и вмѣшиваться въ чужія дѣла. На другой день послѣ пріѣзда въ Марьино, онъ принялся за своихъ лягушекъ, за инфузорій, за химическіе составы, и все возился съ ними. Аркадій, напротивъ, почелъ своею обязанностію если не помогать отцу, то по крайней мѣрѣ показать видъ, что онъ готовъ ему помочь. Онъ терпѣливо его выслушивалъ и однажды подалъ какой-то совѣтъ, не для того чтобъ ему послѣдовали, а чтобы заявить свое участіе. Хозяйничанье не возбуждало въ немъ отвращенія: онъ даже съ удовольствіемъ мечталъ объ агрономической дѣятельности, но у него въ ту пору другія мысли зароились въ головѣ. Аркадій, къ собственному изумленію, безпрестанно думалъ о Никольскомъ; прежде онъ бы только плечами пожалъ, если-бы кто-нибудь сказалъ ему, что онъ можетъ соскучиться подъ однимъ кровомъ съ Базаровымъ, и еще подъ какимъ! — подъ родительскимъ кровомъ; а ему точно было скучно, и тянуло его вонъ. Онъ вздумалъ гулять до усталости, но и это не помогло. Разговаривая однажды съ отцомъ, онъ узналъ, что у Николая Петровича находилось нѣсколько писемъ, довольно интересныхъ, писанныхъ нѣкогда матерью Одинцовой къ покойной его женѣ, и не отсталъ отъ него до тѣхъ поръ, пока не получилъ этихъ писемъ, за которыми Николай Петровичъ принужденъ былъ рыться въ двадцати различныхъ ящикахъ и сундукахъ. Вступивъ въ обладаніе этими полуистлѣвшими бумажками, Аркадій какъ будто успокоился, точно онъ увидѣлъ передъ собою цѣль, къ которой ему слѣдовало идти. «Я вамъ это обоимъ говорю», безпрестанно шепталъ онъ, — сама прибавила! «Поѣду, поѣду, чортъ возьми!» Но онъ вспомнилъ послѣднее посѣщеніе, холодный пріемъ и прежнюю неловкость, и робость овладѣвала имъ. «Авось» молодости, тайное желаніе извѣдать свое счастіе, испытать свои силы въ одиночку, безъ чьего бы то ни было покровительства — одолѣли наконецъ. Десяти дней не прошло со времени его возвращенія въ Марьино, какъ уже онъ опять, подъ предлогомъ изученія механизма воскресныхъ школъ, скакалъ въ городъ, а оттуда въ Никольское. Безпрерывно погоняя ямщика, несся онъ туда, какъ молодой офицеръ на сраженье: и страшно ему было, и весело, нетерпѣніе его душило. «Главное — не надо думать», твердилъ онъ самому себѣ. Ямщикъ ему попался лихой; онъ останавливался передъ каждымъ кабакомъ, приговаривая: «чкнуть?» или: «аль чкнуть?» но за то, чкнувши, не жалѣлъ лошадей. Вотъ, наконецъ, показалась высокая крыша знакомаго дома… «Что̀ я дѣлаю?» мелькнуло вдругъ въ головѣ Аркадія. «Да, вѣдь не вернуться же!» Тройка дружно мчалась; ямщикъ гикалъ и свисталъ. Вотъ уже мостикъ загремѣлъ подъ копытами и колесами, вотъ уже подвинулась аллея стриженныхъ елокъ… Розовое женское платье мелькнуло въ темной зелени, молодое лицо выглянуло изъ-подъ легкой бахромы зонтика… Онъ узналъ Катю, и она его узнала. Аркадій приказалъ ямщику остановить разскакавшихся лошадей, выпрыгнулъ изъ экипажа и подошелъ къ ней. «Это вы!» промолвила она, и понемножку вся покраснѣла: «пойдемте къ сестрѣ, она тутъ въ саду; ей будетъ пріятно васъ видѣть».
Катя повела Аркадія въ садъ. Встрѣча съ нею показалась ему особенно счастливымъ предзнаменованіемъ; онъ обрадовался ей, словно родной. Все такъ отлично устроилось: ни дворецкаго, ни доклада. На поворотѣ дорожки онъ увидѣлъ Анну Сергѣевну. Она стояла къ нему спиной. Услышавъ шаги, она тихонько обернулась.
Аркадій смутился было снова, но первыя слова, ею произнесенныя, успокоили его тотчасъ. «Здравствуйте, бѣглецъ!» проговорила она своимъ ровнымъ, ласковымъ голосомъ, и пошла къ нему на встрѣчу, улыбаясь и щурясь отъ солнца и вѣтра: «гдѣ ты его нашла, Катя?»
— Я вамъ, Анна Сергѣевна, — началъ онъ, — привезъ нѣчто такое, чего вы никакъ не ожидаете…
— Вы себя привезли; это лучше всего.
ХХІІІ.
Проводивъ Аркадія съ насмѣшливымъ сожалѣніемъ и давъ ему понять, что онъ нисколько не обманывается на счетъ настоящей цѣли его поѣздки, Базаровъ уединился окончательно: на него нашла лихорадка работы. Съ Павломъ Петровичемъ онъ уже не спорилъ, тѣмъ болѣе, что тотъ въ его присутствіи принималъ черезчуръ аристократическій видъ и выражалъ свои мнѣнія болѣе звуками, чѣмъ словами. Только однажды Павелъ Петровичъ пустился было въ состязаніе съ нигилистомъ по поводу моднаго въ то время вопроса о правахъ остзейскихъ дворянъ, но самъ вдругъ остановился, промолвивъ съ холодною вѣжливостью:
— Впрочемъ, мы другъ друга понять не можемъ; я, по крайней мѣрѣ, не имѣю чести васъ понимать.
— Еще бы! — воскликнулъ Базаровъ. — Человѣкъ все въ состояніи понять — и ка̀къ трепещетъ эфиръ, и что̀ на солнцѣ происходитъ; а ка̀къ другой человѣкъ можетъ иначе сморкаться, чѣмъ онъ самъ сморкается, этого онъ понять не въ состояніи.
— Что̀, это остроумно? — проговорилъ вопросительно Павелъ Петровичъ, и отошелъ въ сторону.
Впрочемъ, онъ иногда просилъ позволенія присутствовать при опытахъ Базарова, а разъ даже приблизилъ свое раздушенное и вымытое отличнымъ снадобьемъ лицо къ микроскопу, для того чтобы посмотрѣть, какъ прозрачная инфузорія глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней въ горлѣ. Гораздо чаще своего брата посѣщалъ Базарова Николай Петровичъ; онъ бы каждый день приходилъ, какъ онъ выражался, «учиться», еслибы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Онъ не стѣснялъ молодого естествоиспытателя: садился гдѣ нибудь въ уголокъ комнаты и глядѣлъ внимательно, изрѣдка позволяя себѣ осторожный вопросъ. Во время обѣдовъ и ужиновъ, онъ старался направлять рѣчь на физику, геологію или химію, такъ какъ всѣ другіе предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политическихъ, могли повести если не къ столкновеніямъ, то ко взаимному неудовольствію. Николай Петровичъ догадывался, что ненависть его брата къ Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими, подтвердилъ его догадки. Холера стала появляться кое-гдѣ по окрестностямъ и даже «выдернула» двухъ людей изъ самого Марьина. Ночью съ Павломъ Петровичемъ случился довольно сильный припадокъ. Онъ промучился до утра, но не прибѣгъ къ искусству Базарова — и увидѣвшись съ нимъ на слѣдующій день, на его вопросъ: «зачѣмъ онъ не послалъ за нимъ?» — отвѣчалъ, весь еще блѣдный, но уже тщательно разчесанный и выбритый: — «вѣдь вы, помнится, сами говорили, что не вѣрите въ медицину?» Такъ проходили дни. Базаровъ работалъ упорно и угрюмо… а между тѣмъ въ домѣ Николая Петровича находилось существо, съ которымъ онъ не то чтобы отводилъ душу, а охотно бесѣдовалъ… Это существо была Ѳеничка.
Онъ встрѣчался съ ней большей частью по утрамъ рано, въ саду или на дворѣ; въ комнату къ ней онъ не захаживалъ, и она всего разъ подошла къ его двери, чтобы спросить его — купать ли ей Митю или нѣтъ? Она не только довѣрялась ему, не только его не боялась, она при немъ держалась вольнѣе и развязнѣе, чѣмъ при самомъ Николаѣ Петровичѣ. Трудно сказать, отчего это происходило; можетъ быть оттого, что она безсознательно чувствовала въ Базаровѣ отсутствіе всего дворянскаго, всего того высшаго, что и привлекаетъ, и пугаетъ. Въ ея глазахъ онъ и докторъ былъ отличный, и человѣкъ простой. Не стѣсняясь его присутствіемъ, она возилась съ своимъ ребенкомъ, и однажды, когда у ней вдругъ закружилась и заболѣла голова — изъ его рукъ приняла ложку лѣкарства. При Николаѣ Петровичѣ она какъ будто чуждалась Базарова: она это дѣлала не изъ хитрости, а изъ какого-то чувства приличія. Павла Петровича она боялась больше чѣмъ когда-либо; онъ съ нѣкоторыхъ поръ сталъ наблюдать за нею, и неожиданно появлялся, словно изъ земли выросталъ за ея спиною въ своемъ сьютѣ, съ неподвижнымъ зоркимъ лицомъ и руками въ карманахъ. — «Такъ тебя холодомъ и обдастъ», жаловалась Ѳеничка Дуняшѣ, а та въ отвѣтъ ей вздыхала и думала о другомъ «безчувственномъ» человѣкѣ. Базаровъ, самъ того не подозрѣвая, сдѣлался жестокимъ тираномъ ея души.
Ѳеничкѣ нравился Базаровъ; но и она ему нравилась. Даже лицо его измѣнялось, когда онъ съ ней разговаривалъ: оно принимало выраженіе ясное, почти доброе, и къ обычной его небрежности примѣшивалась какая-то шутливая внимательность. Ѳеничка хорошѣла съ каждымъ днемъ. Бываетъ эпоха въ жизни молодыхъ женщинъ, когда онѣ вдругъ начинаютъ расцвѣтать и распускаться, какъ лѣтнія розы; такая эпоха наступила для Ѳенички. Все къ тому способствовало, даже іюльскій зной, который стоялъ тогда. Одѣтая въ легкое, бѣлое платье, она сама казалась бѣлѣе и легче: загаръ не приставалъ къ ней, а жара, отъ которой она не могла уберечься, слегка румянила ея щеки да уши, и вливая тихую лѣнь во все ея тѣло, отражалась дремотною томностью въ ея хорошенькихъ глазкахъ. Она почти не могла работать; руки у ней такъ и скользили на колѣни. Она едва ходила, и все охала да жаловалась съ забавнымъ безсиліемъ.
— Ты бы чаще купалась, — говорилъ ей Николай Петровичъ. Онъ устроилъ большую, полотномъ покрытую, купальню въ томъ изъ своихъ прудовъ, который еще не-совсѣмъ ушелъ.
— Охъ, Николай Петровичъ! Да пока до пруда дойдешь — умрешь, и назадъ пойдешь — умрешь. Вѣдь тѣни-то въ саду нѣту.
— Это точно, что тѣни нѣту, — отвѣчалъ Николай Петровичъ, и потиралъ себѣ брови.
Однажды, часу въ седьмомъ утра, Базаровъ, возвращаясь съ прогулки, засталъ въ давно-отцвѣтшей, но еще густой и зеленой сиреневой бесѣдкѣ Ѳеничку. Она сидѣла на скамейкѣ, накинувъ по обыкновенію бѣлый платокъ на голову; подлѣ нея лежалъ цѣлый пукъ еще мокрыхъ отъ росы красныхъ и бѣлыхъ розъ. Онъ поздоровался съ нею.
— А! Евгеній Васильичъ! — проговорила она, и приподняла немного край платка, чтобы взглянуть на него, причемъ ея рука обнажилась до локтя.
— Что̀ вы это тутъ дѣлаете? — промолвилъ Базаровъ, садясь возлѣ нея. — Букетъ вяжете?
— Да; на столъ къ завтраку. Николай Петровичъ это любитъ.
— Но до завтрака еще далеко. Экая пропасть цвѣтовъ!
— Я ихъ теперь нарвала, а то станетъ жарко, и выйдти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсѣмъ я разслабѣла отъ этого жару. Ужъ я боюсь, не заболѣю ли я?
— Это что́ за фантазія! Дайте-ка вашъ пульсъ пощупать. — Базаровъ взялъ ея руку, отыскалъ ровно бившуюся жилку, и даже не сталъ считать ея ударовъ. — Сто лѣтъ проживете, промолвилъ онъ, выпуская ея руку.
— Ахъ, сохрани Богъ! — воскликнула она.
— А что́? Развѣ вамъ не хочется долго пожить?
— Да вѣдь сто лѣтъ! У насъ бабушка была восьмидесяти-пяти лѣтъ — такъ ужъ что же это была за мученица! Черная, глухая, горбатая, все кашляла; себѣ только въ тягость. Какая ужъ это жизнь!
— Такъ лучше быть молодою?
— А то какъ же?
— Да чѣмъ же оно лучше? Скажите мнѣ!
— Какъ чѣмъ? Да вотъ я теперь, молодая, все могу сдѣлать, — и пойду, и приду, и принесу, и никого мнѣ просить не нужно… Чего лучше?
— А вотъ мнѣ все равно: молодъ ли я или старъ.
— Какъ это вы говорите — все равно? это невозможно, что́ вы говорите.
— Да вы сами посудите, Ѳедосья Николаевна, на что мнѣ моя молодость? Живу я одинъ, бобылемъ…
— Это отъ васъ всегда зависитъ.
— То-то что не отъ меня! Хоть бы кто-нибудь надо мною сжалился.
Ѳеничка сбоку посмотрѣла на Базарова, но ничего не сказала.
— Это что́ у васъ за книга? — спросила она, погодя немного.
— Эта-то? Это ученая книга, мудреная.
— А вы все учитесь? И не скучно вамъ? Вы ужъ и такъ, я чай, все знаете.
— Видно не все. Попробуйте-ка вы прочесть немного.
— Да я ничего тутъ не пойму. Она у васъ русская? — спросила Ѳеничка, принимая въ обѣ руки тяжело переплетенный томъ. — Какая толстая!
— Русская.
— Все равно, я ничего не пойму.
— Да я и не съ тѣмъ, чтобы вы поняли. Мнѣ хочется посмотрѣть на васъ, какъ вы читать будете. У васъ, когда вы читаете, кончикъ носика очень мило двигается.
Ѳеничка, которая принялась было разбирать вполголоса попавшуюся ей статью «о креозотѣ», засмѣялась и бросила книгу… она скользнула со скамейки на землю.
— Я люблю тоже, когда вы смѣетесь, промолвилъ Базаровъ.
— Полноте!
— Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеекъ журчитъ.
Ѳсничка отворотила голову.
— Какой вы! — промолвила она, перебирая пальцами по цвѣтамъ. — И что вамъ меня слушать? Вы съ такими умными дамами разговоръ имѣли.
— Эхъ, Ѳедосья Николаевна! повѣрьте мнѣ: всѣ умныя дамы на свѣтѣ не стоятъ вашего локотка.
— Ну, вотъ еще что́ выдумали! — шепнула Ѳеничка, и поджала руки.
Базаровъ поднялъ съ земли книгу.
— Это лѣкарская книга, зачѣмъ вы ее бросаете?
— Лѣкарская? — повторила Ѳеничка, и повернулась къ нему. — А знаете что́? Вѣдь съ тѣхъ поръ, какъ вы мнѣ тѣ капельки дали, помните? ужъ какъ Митя спитъ хорошо! Я ужъ и не придумаю, какъ мнѣ васъ благодарить; такой вы добрый, право.
— А по настоящему надо лѣкарямъ платить, — замѣтилъ съ усмѣшкой Базаровъ. — Лѣкари, вы сами знаете, люди корыстные.
Ѳеничка подняла на Базарова свои глаза, казавшіеся еще темнѣе отъ бѣловатаго отблеска, падавшаго на верхнюю часть ея лица. Она не знала — шутитъ ли онъ, или нѣтъ.
— Если вамъ угодно, мы съ удовольствіемъ… Надо будетъ у Николая Петровича спросить…
— Да вы думаете, я денегъ хочу? — перебилъ ее Базаровъ. — Нѣтъ, мнѣ отъ васъ не деньги нужны.
— Что́ же? — проговорила Ѳеничка.
— Что? — повторилъ Базаровъ. — Угадайте.
— Что я за отгадчица!
— Такъ я вамъ скажу; мнѣ нужно… одну изъ этихъ розъ.
Ѳеничка опять засмѣялась и даже руками всплеснула, до того ей показалось забавнымъ желаніе Базарова. Она смѣялась, и въ то же время чувствовала себя польщенною. Базаровъ пристально смотрѣлъ на нее.
— Извольте, извольте, — промолвила она наконецъ, и, нагнувшись къ скамейкѣ, принялась перебирать розы. — Какую вамъ, красную или бѣлую?
— Красную, и не слишкомъ большую.
Она выпрямилась.
— Вотъ возьмите, — сказала она, но тотчасъ же отдернула протянутую руку, и закусивъ губы, глянула на входъ бесѣдки, потомъ приникла ухомъ.
— Что такое? — спросилъ Базаровъ. — Николай Петровичъ?
— Нѣтъ… Они въ поле уѣхали… да я и не боюсь ихъ… а вотъ Павелъ Петровичъ… Мнѣ показалось…
— Что́?
— Мнѣ показалось, что они тутъ ходятъ. Нѣтъ… никого нѣтъ. Возьмите. — Ѳеничка отдала Базарову розу.
— Съ какой стати вы Павла Петровича боитесь?
— Они меня все пугаютъ. Говорить — не говорятъ, а такъ смотрятъ мудрено. Да вѣдь и вы его не любите. Помните, прежде вы все съ нимъ спорили. Я и не знаю, о чемъ у васъ споръ идетъ, а вижу, что вы его и такъ вертите, и такъ…
Ѳеничка показала руками какъ, по ея мнѣнію, Базаровъ вертѣлъ Павла Петровича.
Базаровъ улыбнулся.
— А еслибъ онъ меня побѣждать сталъ, — спросилъ онъ, — вы бы за меня заступились?
— Гдѣ жъ мнѣ за васъ заступаться? да нѣтъ, съ вами не сладишь.
— Вы думаете? А я знаю руку, которая захочетъ, и пальцемъ меня сшибетъ.
— Какая такая рука?
— А вы, небось, не знаете? Понюхайте, какъ славно пахнетъ роза, что́ вы мнѣ дали.
Ѳеничка вытянула шейку и приблизила лицо къ цвѣтку… Платокъ скатился съ ея головы на плечи; показалась мягкая масса черныхъ, блестящихъ, слегка растрепанныхъ волосъ.
— Постойте, я хочу понюхать съ вами, — промолвилъ Базаровъ, нагнулся, и крѣпко поцѣловалъ ее въ раскрытыя губы.
Она дрогнула, уперлась обѣими руками въ его грудь, но уперлась слабо, и онъ могъ возобновить, и продлить свой поцѣлуй.
Сухой кашель раздался за сиренями. Ѳеничка мгновенно отодвинулась на другой конецъ скамейки. Павелъ Петровичъ показался, слегка поклонился и, проговорилъ съ какою-то злобною унылостью: «вы здѣсь» — удалился. Ѳеничка тотчасъ подобрала всѣ розы и вышла вонъ изъ бесѣдки. «Грѣшно вамъ, Евгеній Васильевичъ», шепнула она, уходя. Неподдѣльный упрекъ слышался въ ея шопотѣ.
Базаровъ вспомнилъ другую недавнюю сцену, и совѣстно ему стало, и презрительно досадно. Но онъ тотчасъ же встряхнулъ головой, иронически поздравилъ себя «съ формальнымъ поступленіемъ въ селадоны», и отправился къ себѣ въ комнату.
А Павелъ Петровичъ вышелъ изъ саду, и медленно шагая, добрался до лѣса. Онъ остался тамъ довольно долго, и когда онъ вернулся къ завтраку, Николай Петровичъ заботливо спросилъ у него, здоровъ ли онъ? до того лицо его потемнѣло.
— Ты знаешь, я иногда страдаю разлитіемъ желчи, — спокойно отвѣчалъ ему Павелъ Петровичъ.
ХХІѴ.
Часа два спустя, онъ стучался въ дверь къ Базарову.
— Я долженъ извиниться, что мѣшаю вамъ въ вашихъ ученыхъ занятіяхъ, — началъ онъ, усаживаясь на стулѣ у окна и опираясь обѣими руками на красивую трость съ набалдашникомъ изъ слоновой кости (онъ обыкновенно хаживалъ безъ трости), — но я принужденъ просить васъ удѣлить мнѣ пять минутъ вашего времени… не болѣе.
— Все мое время къ вашимъ услугахъ, — отвѣтилъ Базаровъ, у котораго что-то пробѣжало по лицу, какъ только Павелъ Петровичъ переступилъ порогъ двери.
— Съ меня пяти минутъ довольно. Я пришелъ предложить вамъ одинъ вопросъ.
— Вопросъ? О чемъ это?
— А вотъ извольте выслушать. Въ началѣ вашего пребыванія въ домѣ моего брата, когда я еще не отказывалъ себѣ въ удовольствіи бесѣдовать съ вами, мнѣ случалось слышать ваши сужденія о многихъ предметахъ; но сколько мнѣ помнится, ни между нами, ни въ моемъ присутствіи, рѣчь никогда не заходила о поединкахъ, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнѣніе объ этомъ предметѣ?
Базаровъ, который всталъ было на встрѣчу Павлу Петровичу, присѣлъ на край стола и скрестилъ руки.
— Вотъ мое мнѣніе, — сказалъ онъ: — съ теоретической точки зрѣнія дуэль — нелѣпость; ну, а съ практической точки зрѣнія — это дѣло другое.
— То-есть, вы хотите сказать, если я только васъ понялъ, что какое бы ни было ваше теоретическое воззрѣніе на дуэль, на практикѣ вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовавъ удовлетворенія?
— Вы вполнѣ отгадали мою мысль.
— Очень хорошо-съ. Мнѣ очень пріятно это слышать отъ васъ. Ваши слова выводятъ меня изъ неизвѣстности…
— Изъ нерѣшимости, хотите вы сказать.
— Это все равно-съ; я выражаюсь такъ, чтобы меня поняли; я… не семинарская крыса. Ваши слова избавляютъ меня отъ нѣкоторой печальной необходимости. Я рѣшился драться съ вами.
Базаровъ вытаращилъ глаза.
— Со мной?
— Непремѣнно съ вами.
— Да за что? помилуйте.
— Я бы могъ объяснить вамъ причину, — началъ Павелъ Петровичъ. — Но я предпочитаю умолчать о ней. Вы на мой вкусъ здѣсь лишній; я васъ терпѣть не могу, я васъ презираю, и если вамъ этого недовольно…
Глаза Павла Петровича засверкали… Они вспыхнули и у Базарова.
— Очень хорошо-съ, — проговорилъ онъ. — Дальнѣйшихъ объясненій не нужно. Вамъ пришла фантазія испытать на мнѣ свой рыцарскій духъ. Я бы могъ отказать вамъ въ этомъ удовольствіи, да ужъ куда не шло!
— Чувствительно вамъ обязанъ, — отвѣтилъ Павелъ Петровичъ, — и могу теперь надѣяться, что вы примете мой вызовъ, не заставивъ меня прибѣгнуть къ насильственнымъ мѣрамъ.
— То-есть, говоря безъ аллегорій, къ этой палкѣ? — хладнокровно замѣтилъ Базаровъ. — Это совершенно справедливо. Вамъ нисколько не нужно оскорблять меня. Оно же и не совсѣмъ безопасно. Вы можете остаться джентльменомъ… Принимаю вашъ вызовъ тоже по-джентльменски.
— Прекрасно, — промолвилъ Павелъ Петровичъ, и поставилъ трость въ уголъ. — Мы сейчасъ скажемъ нѣсколько словъ объ условіяхъ нашей дуэли; но я сперва желалъ бы узнать, считаете ли вы нужнымъ прибѣгнуть къ формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогомъ моему вызову?
— Нѣтъ, лучше безъ формальностей.
— Я самъ такъ думаю. Полагаю также неумѣстнымъ вникать въ настоящія причины нашего столкновенія. Мы другъ друга терпѣть не можемъ. Чего больше?
— Чего же больше? — повторилъ иронически Базаровъ.
— Что же касается до самыхъ условій поединка, то такъ какъ у насъ секундантовъ не будетъ, — ибо гдѣ жъ ихъ взять?
— Именно гдѣ ихъ взять?
— То я имѣю честь предложить вамъ слѣдующее: драться завтра рано, положимъ, въ шесть часовъ, за рощей, на пистолетахъ; баррьеръ въ десяти шагахъ…
— Въ десяти шагахъ? это такъ; мы на это разстояніе ненавидимъ другъ друга.
— Можно и восемь, замѣтилъ Павелъ Петровичъ.
— Можно; отчего же!
— Стрѣлять два раза; а на всякій случай каждому положить себѣ въ карманъ письмецо, въ которомъ онъ самъ обвинитъ себя въ своей кончинѣ.
— Вотъ съ этимъ я не совсѣмъ согласенъ, — промолвилъ Базаровъ. — Немножко на французскій романъ сбивается, неправдоподобно что-то.
— Быть можетъ. Однако согласитесь, что непріятно подвергнуться подозрѣнію въ убійствѣ?
— Соглашаюсь. Но есть средство избѣгнуть этого грустнаго нареканія. Секундантовъ у насъ не будетъ, но можетъ быть свидѣтель.
— Кто именно, позвольте узнать?
— Да Петръ.
— Какой Петръ?
— Камердинеръ вашего брата. Онъ человѣкъ, стоящій на высотѣ современнаго образованія, и исполнитъ свою роль со всѣмъ необходимымъ въ подобныхъ случаяхъ комильфо.
— Мнѣ кажется, вы шутите, милостивый государь.
— Нисколько. Обсудивши мое предложеніе, вы убѣдитесь, что оно исполнено здраваго смысла и простоты. Шила въ мѣшкѣ не утаишь, а Петра я берусь подготовить надлежащимъ образомъ и привести на мѣсто побоища.
— Вы продолжаете шутить, — произнесъ, вставая со стула, Павелъ Петровичъ. — Но послѣ любезной готовности, оказанной вами, я не имѣю права быть на васъ въ претензіи… Итакъ, все устроено… Кстати, пистолетовъ у васъ нѣтъ?
— Откуда будутъ у меня пистолеты, Павелъ Петровичъ? Я не воинъ.
— Въ такомъ случаѣ предлагаю вамъ мои. Вы можете быть увѣрены, что вотъ уже пять лѣтъ какъ я не стрѣлялъ изъ нихъ.
— Это очень утѣшительное извѣстіе.
Павелъ Петровичъ досталъ свою трость…
— За симъ, милостивый государь, мнѣ остается только благодарить васъ и возвратить васъ вашимъ занятіямъ. Честь имѣю кланяться.
— До пріятнаго свиданія, милостивый государь мой, промолвилъ Базаровъ, провожая гостя.
Павелъ Петровичъ вышелъ, а Базаровъ постоялъ передъ дверью и вдругъ воскликнулъ: «Фу ты, чортъ! какъ красиво, и какъ глупо! Экую мы комедію отломали! Ученыя собаки такъ на заднихъ лапахъ танцуютъ. А отказать было невозможно; вѣдь онъ меня, чего добраго, ударилъ бы, и тогда… (Базаровъ поблѣднѣлъ при одной этой мысли; вся его гордость такъ и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы задушить его, какъ котенка». Онъ возвратился къ своему микроскопу, но сердце у него разшевелилось и спокойствіе, необходимое для наблюденій, изчезло. «Онъ насъ увидѣлъ сегодня», думалъ онъ, «но неужели жъ это онъ за брата такъ вступился? Да и что за важность, поцѣлуй? Тутъ что-нибудь другое есть. Ба! да не влюбленъ ли онъ самъ? Разумѣется, влюбленъ; это ясно какъ день. Какой переплетъ, подумаешь!… Скверно!» рѣшилъ онъ наконецъ: — «скверно, съ какой стороны ни посмотри. Во-первыхъ, надо будетъ подставлять лобъ, и во всякомъ случаѣ уѣхать; а тутъ Аркадій… и эта божья коровка, Николай Петровичъ. Скверно, скверно».
День прошелъ какъ-то особенно тихо и вяло. Ѳенички словно на свѣтѣ не бывало; она сидѣла въ своей комнаткѣ, какъ мышенокъ въ норкѣ. Николай Петровичъ имѣлъ видъ озабоченный. Ему донесли, что въ его пшеницѣ, на которую онъ особенно надѣялся, показалась головня. Павелъ Петровичъ подавлялъ всѣхъ, даже Прокофьича, своею леденящею вѣжливостью. Базаровъ началъ-было письмо къ отцу, да разорвалъ его и бросилъ подъ столъ. «Умру», подумалъ онъ, «узнаютъ; да я не умру. Нѣтъ, я еще долго на свѣтѣ маячить буду». Онъ велѣлъ Петру придти къ нему на слѣдующій день чуть свѣтъ, для важнаго дѣла; Петръ вообразилъ, что онъ хочетъ взять его съ собой въ Петербургъ. Базаровъ легъ поздно, и всю ночь его мучили безпорядочные сны… «Одинцова кружилась передъ нимъ, она же была его мать, за ней ходила кошечка съ черными усиками, и эта кошечка была Ѳеничка; а Павелъ Петровичъ представлялся ему большимъ лѣсомъ, съ которымъ онъ все-таки долженъ былъ драться». Петръ разбудилъ его въ четыре часа; онъ тотчасъ одѣлся и вышелъ съ нимъ.
Утро было славное, свѣжее; маленькія, пестрыя тучки стояли барашками на блѣдно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьяхъ и травахъ, блистала серебромъ на паутинкахъ; влажная, темная земля, казалось, еще хранила румяный слѣдъ зари; со всего неба сыпались пѣсни жаворонковъ. Базаровъ дошелъ до рощи, присѣлъ въ тѣни на опушку, и только тогда открылъ Петру, какой онъ ждалъ отъ него услуги. Образованный лакей перепугался на-смерть; но Базаровъ успокоилъ его увѣреніемъ, что ему другого нечего будетъ дѣлать, какъ только стоять въ отдаленіи да глядѣть, и что отвѣтственности онъ не подвергается никакой — «А между тѣмъ», прибавилъ онъ, «подумай, какая предстоитъ тебѣ важная роль!» Петръ развелъ руками, потупился, и весь зеленый, прислонился къ березѣ.
Дорога изъ Марьина огибала лѣсокъ; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашняго дня ни колесомъ, ни ногою. Базаровъ невольно посматривалъ вдоль той дороги, рвалъ и кусалъ траву, а самъ все твердилъ про себя: «Экая глупость!» Утренній холодокъ заставилъ его раза два вздрогнуть… Петръ уныло взглянулъ на него, но Базаровъ только усмѣхнулся: онъ не трусилъ.
Раздался топотъ конскихъ ногъ по дорогѣ… Мужикъ показался изъ-за деревьевъ. Онъ гналъ двухъ спутанныхъ лошадей передъ собою и, проходя мимо Базарова, посмотрѣлъ на него какъ-то странно, не ломая шапки, что видимо смутило Петра, какъ недоброе предзнаменованіе. «Вотъ этотъ тоже рано всталъ», подумалъ Базаровъ, «да по крайней мѣрѣ за дѣломъ, а мы?»…
— Кажись, они идутъ-съ, — шепнулъ вдругъ Петръ.
Базаровъ поднялъ голову и увидалъ Павла Петровича.
Одѣтый въ легкій клѣтчатый пиджакъ и бѣлые, какъ снѣгъ, панталоны, онъ быстро шелъ по дорогѣ; подъ мышкой онъ несъ ящикъ, завернутый въ зеленое сукно.
— Извините, я, кажется, заставилъ васъ ждать, — промолвилъ онъ, кланяясь сперва Базарову, потомъ Петру, въ которомъ онъ въ это мгновеніе уважалъ нѣчто въ родѣ секунданта. — Я не хотѣлъ будить моего камердинера.
— Ничего-съ, — отвѣтилъ Базаровъ, — мы сами только-что пришли.
— А! тѣмъ лучше! — Павелъ Петровичъ оглянулся кругомъ. — Никого не видать, никто не помѣшаетъ… Мы можемъ приступить?
— Приступимъ.
— Новыхъ объясненій вы, я полагаю, не требуете?
— Не требую.
— Угодно вамъ заряжать? — спросилъ Павелъ Петровичъ, вынимая изъ ящика пистолеты.
— Нѣтъ; заряжайте вы, а я шаги отмѣривать стану. Ноги у меня длиннѣе, — прибавилъ Базаровъ съ усмѣшкой. — Разъ, два, три…
— Евгеній Васильичъ, — съ трудомъ пролепеталъ Петръ (онъ дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ), воля ваша, я отойду.
— Четыре… пять… Отойди, братецъ, отойди; можешь даже за дерево стать и уши заткнуть, только глазъ не закрывай; а повалится кто, бѣги подымать. Шесть… семь… восемь… — Базаровъ остановился. — Довольно? — промолвилъ онъ, обращаясь къ Павлу Петровичу; — или еще два шага накинуть?
— Какъ угодно, — проговорилъ тотъ, заколачивая вторую пулю.
— Ну, накинемъ еще два шага. — Базаровъ провелъ носкомъ сапога черту по землѣ. — Вотъ и баррьеръ. А кстати: на сколько шаговъ каждому изъ насъ отъ баррьера отойдти? Это тоже важный вопросъ. Вчера объ этомъ не было дискуссіи.
— Я полагаю, на десять, — отвѣтилъ Павелъ Петровичъ, подавая Базарову оба пистолета. — Соблаговолите выбрать.
— Соблаговоляю. А согласитесь, Павелъ Петровичъ, что поединокъ нашъ необычаенъ до смѣшного. Вы посмотрите только на физіономію нашего секунданта.
— Вамъ все желательно шутить, — отвѣтилъ Павелъ Петровичъ. — Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю долгомъ предупредить васъ, что я намѣренъ драться серіозно. A bon entendeur? salut!
— О! я не сомнѣваюсь въ томъ, что мы рѣшились истреблять другъ друга; но почему же не посмѣяться и не соединить utile dulci? Такъ-то: вы мнѣ по-французски, а я вамъ по-латыни.
— Я буду драться серіозно, — повторилъ Павелъ Петровичъ, и отправился на свое мѣсто. Базаровъ съ своей стороны отсчиталъ десять шаговъ отъ баррьера и остановился.
— Вы готовы? — спросилъ Павелъ Петровичъ.
— Совершенно.
— Можемъ сходиться.
Базаровъ тихонько двинулся впередъ, и Павелъ Петровичъ пошелъ на него, заложивъ лѣвую руку въ карманъ и постепенно поднимая дуло пистолета… «Онъ мнѣ прямо въ носъ цѣлитъ», подумалъ Базаровъ, «и какъ щурится старательно, разбойникъ! Однако это непріятное ощущеніе. Стану смотрѣть на цѣпочку его часовъ…»
Что-то рѣзко зыкнуло около самаго уха Базарова, и въ тоже мгновенье раздался выстрѣлъ. — «Слышалъ, стало-быть ничего», успѣло мелькнуть въ его головѣ. Онъ ступилъ еще разъ и, не цѣлясь, подавилъ пружинку.
Павелъ Петровичъ дрогнулъ слегка и хватился рукою за ляжку. — Струйка крови потекла по его бѣлымъ панталонамъ.
Базаровъ бросилъ пистолетъ въ сторону и приблизился къ своему противнику.
— Вы ранены? — промолвилъ онъ.
— Вы имѣли право подозвать меня къ баррьеру, проговорилъ Павелъ Петровичъ, — а это пустяки. По условію, каждый имѣетъ еще по одному выстрѣлу.
— Ну, извините, это до другого раза, — отвѣчалъ Базаровъ и обхватилъ Павла Петровича, который начиналъ блѣднѣть. — Теперь я уже не дуэлистъ, а докторъ, и прежде всего долженъ осмотрѣть вашу рану. Петръ! поди сюда, Петръ! куда ты спрятался?
— Все это вздоръ… Я не нуждаюсь ни въ чьей помощи, — промолвилъ съ разстановкой Павелъ Петровичъ, и… надо… опять… — Онъ хотѣлъ было дернуть себя за усъ, по рука его ослабѣла, глаза закатились, и онъ лишился чувствъ.
— Вотъ новость! Обморокъ! Съ чего бы! — невольно воскликнулъ Базаровъ, опуская Павла Петровича на траву. — Посмотримъ, что за штука? — Онъ вынулъ платокъ, отеръ кровь, пощупалъ вокругъ раны… «Кость цѣла», бормоталъ онъ сквозь зубы, «пуля прошла неглубоко насквозь, одинъ мускулъ, vastus externus, задѣтъ. Хоть пляши черезъ три недѣли!… А, обморокъ! Охъ, ужъ эти мнѣ нервные люди! Вишь, кожа-то какая тонкая».
— Убиты-съ? — прошелестилъ за его спиной трепетный голосъ Петра.
Базаровъ оглянулся.
— Ступай за водой поскорѣе, братецъ, а онъ насъ съ тобой еще переживетъ.
Но усовершенствованный слуга, казалось, не понималъ его словъ и не двигался съ мѣста. Павелъ Петровичъ медленно открылъ глаза. «Кончается!» шепнулъ Петръ и началъ креститься.
— Вы правы… Экая глупая физіономія! — проговорилъ съ насильственною улыбкой раненый джентльменъ.
— Да ступай же за водой, чортъ! — крикнулъ Базаровъ.
— Не нужно… Это былъ минутный vertige… Помогите мнѣ сѣсть… вотъ такъ… Эту царапину стоитъ только чѣмъ-нибудь прихватить, и я дойду домой пѣшкомъ, а не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вамъ угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно… сегодня, сегодня — замѣтьте.
— О прошломъ вспоминать незачѣмъ, — возразилъ Базаровъ, — а что касается до будущаго, то о немъ тоже не стоитъ голову ломать, потому что я намѣренъ немедленно улизнуть. Дайте, я вамъ перевяжу теперь ногу; рана ваша — не опасная, а все лучше остановить кровь. Но сперва необходимо этого смертнаго привести въ чувство.
Базаровъ встряхнулъ Петра за воротъ и послалъ его за дрожками.
— Смотри, брата не испугай, — сказалъ ему Павелъ Петровичъ, — не вздумай ему докладывать.
Петръ помчался; а пока онъ бѣгалъ за дрожками, оба противника сидѣли на землѣ и молчали. Павелъ Петровичъ старался не глядѣть на Базарова; помириться съ нимъ онъ все-таки не хотѣлъ; онъ стыдился своей заносчивости, своей неудачи, стыдился всего затѣяннаго имъ дѣла, хотя и чувствовалъ, что болѣе благопріятнымъ образомъ оно кончиться не могло. «Не будетъ по крайней мѣрѣ здѣсь торчать», успокоивалъ онъ себя: — «и на томъ спасибо». Молчаніе длилось, тяжелое и неловкое. Обоимъ было не хорошо. Каждый изъ нихъ сознавалъ, что другой его понимаетъ. Друзьямъ это сознаніе пріятно, и весьма непріятно недругамъ, особенно когда нельзя ни объясниться, не разойдтись.
— Не туго ли я завязалъ вамъ ногу? — спросилъ наконецъ Базаровъ.
— Нѣтъ, ничего, прекрасно, — отвѣчалъ Павелъ Петровичъ и, погодя немного, прибавилъ: — брата не обманешь, надо будетъ сказать ему, что мы повздорили изъ-за политики.
— Очень хорошо, — промолвилъ Базаровъ. — Вы можете сказать, что я бранилъ всѣхъ англомановъ.
— И прекрасно. Какъ вы полагаете, что думаетъ теперь о насъ этотъ человѣкъ? — продолжалъ Павелъ Петровичъ, указывая на того самаго мужика, который за нѣсколько минутъ до дуэли прогналъ мимо Базарова спутанныхъ лошадей и возвращаясь назадъ по дорогѣ, «забочилъ» и снялъ шапку при видѣ «господъ».
— Кто жъ его знаетъ! — отвѣтилъ Базаровъ: — всего вѣроятнѣе, что ничего не думаетъ. Русскій мужикъ — это тотъ самый таинственный незнакомецъ, о которомъ нѣкогда такъ много толковала госпожа Ратклиффъ. Кто его пойметъ? Онъ самъ себя не понимаетъ.
— А! вотъ вы какъ! — началъ было Павелъ Петровичъ, и вдругъ воскликнулъ: — посмотрите, что̀ вашъ глупецъ Петръ надѣлалъ! Вѣдь братъ сюда скачетъ!
Базаровъ обернулся и увидалъ блѣдное лицо Николая Петровича, сидѣвшаго на дрожкахъ. Онъ соскочилъ съ нихъ, прежде нежели онѣ остановились, и бросился къ брату.
— Что̀ это значитъ? — проговорилъ онъ взволнованнымъ голосомъ: — Евгеній Васильичъ, помилуйте, что̀ это такое?
— Ничего, — отвѣчалъ Павелъ Петровичъ, — напрасно тебя потревожили. Мы немножко повздорили съ господиномъ Базаровымъ, и я за это немножко поплатился.
— Да изъ-за чего все вышло, ради Бога?
— Какъ тебѣ сказать? Господинъ Базаровъ непочтительно отозвался о сэръ Робертѣ Пилѣ. Спѣшу прибавить, что во всемъ этомъ виноватъ одинъ я, а господинъ Базаровъ велъ себя отлично. Я его вызвалъ.
— Да у тебя кровь, помилуй!
— А ты полагалъ, у меня вода въ жилахъ? Но мнѣ это кровопусканіе даже полезно. Не правда ли, докторъ? Помоги мнѣ сѣсть на дрожки, и не предавайся меланхоліи. Завтра я буду здоровъ. Вотъ такъ; прекрасно. Трогай, кучеръ.
Николай Петровичъ пошелъ за дрожками; Базаровъ остался-было назади…
— Я долженъ васъ просить заняться братомъ, — сказалъ ему Николай Петровичъ, — пока намъ изъ города привезутъ другого врача.
Базаровъ молча наклонилъ голову.
Часъ спустя, Павелъ Петровичъ уже лежалъ въ постелѣ съ искусно забинтованною ногой. Весь домъ переполошился: Ѳеничкѣ сдѣлалось дурно. Николай Петровичъ втихомолку ломалъ себѣ руки, а Павелъ Петровичъ смѣялся, шутилъ, особенно съ Базаровымъ; надѣлъ тонкую батистовую рубашку, щегольскую утреннюю курточку и феску, не позволилъ опускать шторы оконъ, и забавно жаловался на необходимость воздержаться отъ пищи.
Къ ночи съ нимъ однако сдѣлался жаръ; голова у него заболѣла. Явился докторъ изъ города. (Николай Петровичъ не послушался брата, да и самъ Базаровъ этого не желалъ; онъ цѣлый день сидѣлъ у себя въ комнатѣ, весь желтый и злой, и только на самое короткое время забѣгалъ къ больному; раза два ему случилось встрѣтиться съ Ѳеничкой, но она съ ужасомъ отъ него отскакивала). Новый докторъ посовѣтовалъ прохладительныя питья, а впрочемъ подтвердилъ увѣренія Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петровичъ сказалъ ему, что братъ самъ себя поранилъ по неосторожности, на что̀ докторъ отвѣчалъ: «гм»! — но получивъ тутъ же въ руку 25 рублей серебромъ, промолвилъ: «Скажите! это часто случается, точно».
Никто въ домѣ не ложился и не раздѣвался. Николай Петровичъ то-и-дѣло входилъ на цыпочкахъ къ брату, и на цыпочкахъ выходилъ отъ него: тотъ забывался, слегка охалъ, говорилъ ему по-французски: «couchez-vous», — и просилъ пить. Николай Петровичъ заставилъ разъ Ѳеничку поднести ему стаканъ лимонаду; Павелъ Петровичъ посмотрѣлъ на нее пристально, и выпилъ стаканъ до дна. Къ утру жаръ немного усилился, показался легкій бредъ. Сперва Павелъ Петровичъ произносилъ несвязныя слова; потомъ онъ вдругъ открылъ глаза и, увидавъ возлѣ своей постели брата, заботливо наклонившагося надъ нимъ, промолвилъ:
— А не правда ли, Николай, въ Ѳеничкѣ есть что-то общее съ Нелли?
— Съ какою Нелли, Паша?
— Какъ это ты спрашиваешь? Съ княгинею Р…… Особенно въ верхней части лица. C’est de la mê̂me famille.
Николай Петровичъ ничего не отвѣчалъ, а самъ про себя подивился живучести старыхъ чувствъ въ человѣкѣ. «Вотъ когда всплыло», подумалъ онъ.
— Ахъ, какъ я люблю это пустое существо! — простоналъ Павелъ Петровичъ, тоскливо закидывая руки за голову. — Я не потерплю, чтобы какой нибудь наглецъ посмѣлъ коснуться… лепеталъ онъ нѣсколько мгновеній спустя.
Николай Петровичъ только вздохнулъ; онъ и не подозрѣвалъ, къ кому относились эти слова.
Базаровъ явился къ нему на другой день, часовъ въ восемь. Онъ успѣлъ уже уложиться и выпустить на волю всѣхъ своихъ лягушекъ, насѣкомыхъ и птицъ.
— Вы пришли со мной проститься? — проговорилъ Николай Петровичъ, поднимаясь ему на встрѣчу.
— Точно такъ-съ.
— Я васъ понимаю, и одобряю васъ вполнѣ. Мой бѣдный братъ, конечно, виноватъ: за то онъ и наказанъ. Онъ мнѣ самъ сказалъ, что поставилъ васъ въ невозможность иначе дѣйствовать. Я вѣрю, что вамъ нельзя было избѣгнуть этого поединка, который… который до нѣкоторой степени объясняется однимъ лишь постояннымъ антагонизмомъ вашихъ взаимныхъ воззрѣній. (Николай Петровичъ путался въ своихъ словахъ.) Мой братъ — человѣкъ прежняго закала, вспыльчивый и упрямый… Слава Богу, что еще такъ кончилось. Я принялъ всѣ нужныя мѣры къ избѣжанію огласки…
— Я вамъ оставлю свой адресъ на случай, если выйдетъ исторія, замѣтилъ небрежно Базаровъ.
— Я надѣюсь, что никакой исторіи не выйдетъ, Евгеній Васильичъ… Мнѣ очень жаль, что ваше пребываніе въ моемъ домѣ получило такое… такой конецъ. Мнѣ это тѣмъ огорчительнѣе, что Аркадій…
— Я, должно быть, съ нимъ увижусь, — возразилъ Базаровъ, въ которомъ всякаго рода «объясненія» и «изъявленія» постоянно возбуждали нетерпѣливое чувство: — въ противномъ случаѣ, прошу васъ поклониться ему отъ меня и принять выраженіе моего сожалѣнія.
— И я прошу… — отвѣтилъ съ поклономъ Николай Петровичъ. Но Базаровъ не дождался конца его фразы и вышелъ.
Узнавъ объ отъѣздѣ Базарова, Павелъ Петровичъ пожелалъ его видѣть и пожалъ ему руку. Но Базаровъ и тутъ остался холоденъ какъ ледъ; онъ понималъ, что Павлу Петровичу хотѣлось повеликодушничать. Съ Ѳеничкой ему не удалось проститься: онъ только переглянулся съ нею изъ окна. Ея лицо показалось ему печальнымъ. «Пропадетъ, пожалуй!» сказалъ онъ про себя… «Ну, выдерется какъ нибудь!» — За то Петръ расчувствовался до того, что плакалъ у него на плечѣ, пока Базаровъ не охладилъ его вопросомъ: «Не на мокромъ ли мѣстѣ у него глаза?» а Дуняша принуждена была убѣжать въ рощу, чтобы скрыть свое волненіе. Виновникъ всего этого горя взобрался на телѣгу, закурилъ сигару, и когда на четвертой верстѣ, при поворотѣ дороги, въ послѣдній разъ предстала его глазамъ развернутая въ одну линію Кирсановская усадьба съ своимъ новымъ господскимъ домомъ, онъ только сплюнулъ, и пробормотавъ: «барчуки проклятые», плотнѣе завернулся въ шинель.
Павлу Петровичу скоро полегчало; но въ постели пришлось ему пролежать около недѣли. Онъ переносилъ свой, какъ онъ выражался, плѣнъ довольно терпѣливо, только ужъ очень возился съ туалетомъ и все приказывалъ курить одеколономъ. Николай Петровичъ читалъ ему журналы, Ѳеничка ему прислуживала попрежнему, приносила бульонъ, лимонадъ, яйца въ смятку, чай; но тайный ужасъ овладѣвалъ ею каждый разъ, когда она входила въ его комнату. Неожиданный поступокъ Павла Петровича запугалъ всѣхъ людей въ домѣ, а ее больше всѣхъ; одинъ Прокофьичъ не смутился и толковалъ, что и въ его время господа дирывались, «только благородные господа между собою, а этакихъ прощалыгъ они бы за грубость на конюшнѣ отодрать велѣли».
Совѣсть почти не упрекала Ѳеничку; но мысль о настоящей причинѣ ссоры мучила ее по временамъ; да и Павелъ Петровичъ глядѣлъ на нее такъ странно…такъ, что она, даже обернувшись къ нему спиною, чувствовала на себѣ его глаза. Она похудѣла отъ непрестанной внутренней тревоги и, какъ водится, стала еще милѣй.
Однажды — дѣло было утромъ — Павелъ Петровичъ хорошо себя чувствовалъ и перешелъ съ постели на диванъ, а Николай Петровичъ, освѣдомившись объ его здоровьѣ, отлучился на гумно. Ѳеничка принесла чашку чаю и, поставивъ ее на столикъ, хотѣла было удалиться. Павелъ Петровичъ ее удержалъ.
— Куда вы такъ спѣшите, Ѳедосья Николаевна, — началъ онъ, — развѣ у васъ дѣло есть.
— Нѣтъ-съ… Нужно тамъ чай разливать.
— Дуняша это безъ васъ сдѣлаетъ; посидите немножко съ больнымъ человѣкомъ. Кстати, мнѣ нужно поговорить съ вами.
Ѳеничка молча присѣла на край кресла.
— Послушайте, — промолвилъ Павелъ Петровичъ, и подергалъ свои усы, — я давно хотѣлъ у васъ спросить: вы какъ будто меня боитесь?
— Я-съ?…
— Да, вы. Вы на меня никогда не смотрите, точно у васъ совѣсть не чиста.
Ѳеничка покраснѣла, но взглянула на Павла Петровича. Онъ показался ей какимъ-то страннымъ, и сердце у ней тихонько задрожало.
— Вѣдь у васъ совѣсть чиста? — спросилъ онъ ее.
— Отчего же ей не быть чистою? — шепнула она.
— Мало ли отчего! Впрочемъ передъ кѣмъ можете вы быть виноватою? Передо мной? Это не вѣроятно. Передъ другими лицами здѣсь въ домѣ? Это тоже дѣло несбыточное. Развѣ передъ братомъ? Но вѣдь вы его любите?
— Люблю.
— Всей душой, всѣмъ сердцемъ?
— Я Николая Петровича всѣмъ сердцемъ люблю.
— Право? Посмотрите-ка на меня, Ѳеничка (онъ въ первый разъ такъ называлъ ее…) Вы знаете — большой грѣхъ лгать!
— Я не лгу, Павелъ Петровичъ. Мнѣ Николая Петровича не любить, да послѣ этого мнѣ и жить не надо.
— И ни на кого вы его не промѣняете?
— На кого жъ могу я его промѣнять?
— Мало ли на кого! Да вотъ хоть бы на этого господина, что̀ отсюда уѣхалъ.
Ѳеничка встала.
— Господи Боже мой, Павелъ Петровичъ, за что̀ вы меня мучите? Что я вамъ сдѣлала? Какъ это можно такое говорить?…
— Ѳеничка, — промолвилъ печальнымъ голосомъ Павелъ Петровичъ: — вѣдь я видѣлъ…
— Что вы видѣли-съ?
— Да тамъ… въ бесѣдкѣ.
Ѳеничка зардѣлась вся до волосъ и до ушей.
— А чѣмъ же я тутъ виновата? — произнесла она съ трудомъ.
Павелъ Петровичъ приподнялся.
— Вы не виноваты? Нѣтъ? Нисколько?
— Я Николая Петровича одного на свѣтѣ люблю, и вѣкъ любить буду! — проговорила съ внезапною силой Ѳеничка, между тѣмъ какъ рыданья такъ и поднимали ея горло: — а что вы видѣли, такъ я на страшномъ судѣ скажу, что вины моей въ томъ нѣтъ, и не было, и ужъ лучше мнѣ умереть сейчасъ, коли меня въ такомъ дѣлѣ подозрѣвать могутъ, что я передъ моимъ благодѣтелемъ, Николаемъ Петровичемъ…
Но тутъ голосъ измѣнилъ ей, и въ тоже время она почувствовала, что Павелъ Петровичъ ухватилъ и стиснулъ ея руку… Она посмотрѣла на него, и такъ и окаменѣла. Онъ сталъ еще блѣднѣе прежняго; глаза его блистали, и что̀ всего было удивительнѣе, тяжелая, одинокая слеза катилась по его щекѣ.
— Ѳеиичка! — сказалъ онъ какимъ-то чуднымъ шопотомъ: — любите, любите, моего брата! Онъ такой добрый, хорошій человѣкъ! Не измѣняйте ему ни для кого на свѣтѣ, не слушайте ничьихъ рѣчей! Подумайте, что̀ можетъ быть ужаснѣе, какъ любить и не быть любимымъ! Не покидайте никогда моего бѣднаго Николая!
Глаза высохли у Ѳенички, и страхъ ея прошелъ, — до того велико было ея изумленіе. Но что́ сталось съ ней, когда Павелъ Петровичъ, самъ Павелъ Петровичъ прижалъ ея руку къ своимъ губамъ, и такъ и приникъ къ ней, не цѣлуя ея и только изрѣдка судорожно вздыхая…
«Господи», подумала она, «ужъ не припадокъ ли съ нимъ»?…
А въ это мгновеніе цѣлая погибшая жизнь въ немъ трепетала.
Лѣстница заскрипѣла подъ быстрыми шагами… Онъ оттолкнулъ ее отъ себя прочь, и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась, — и веселый, свѣжій, румяный, появился Николай Петровичъ. Митя, такой же свѣжій и румяный какъ и отецъ, подпрыгивалъ въ одной рубашечкѣ на его груди, цѣпляясь голыми ножками за большія пуговицы его деревенскаго пальто.
Ѳеничка такъ и бросилась къ нему и, обвивъ руками и его, и сына, припала головой къ его плечу. Николай Петровичъ удивился: Ѳеничка, застѣнчивая и скромная, никогда не ласкалась къ нему въ присутствіи третьяго лица.
— Что́ съ тобой? — промолвилъ онъ и, глянувъ на брата, передалъ ей Митю. — Ты не хуже себя чувствуешь? спросилъ онъ, подходя къ Павлу Петровичу.
Тотъ уткнулъ лицо въ батистовый платокъ.
— Нѣтъ… такъ… ничего… Напротивъ, мнѣ гораздо лучше.
— Ты напрасно поспѣшилъ перейдти на диванъ. Ты куда? — прибавилъ Николай Петровичъ, оборачиваясь къ Ѳеничкѣ; но та уже захлопнула за собою дверь. — Я было принесъ показать тебѣ моего богатыря; онъ соскучился по своемъ дядѣ. Зачѣмъ это она унесла его? Однако, что́ съ тобой? Произошло у васъ тутъ что нибудь, что́ ли?
— Братъ! — торжественно проговорилъ Павелъ Петровичъ.
Николай Петровичъ дрогнулъ. Ему стало жутко, онъ самъ не понималъ — почему.
— Братъ, — повторилъ Павелъ Петровичъ, — дай мнѣ слово исполнить одну мою просьбу.
— Какую просьбу? Говори.
— Она очень важна; отъ нея, по моимъ понятіямъ, зависитъ все счастье твоей жизни. Я все это время много размышлялъ о томъ, что я хочу теперь сказать тебѣ… Братъ, исполни обязанность твою, обязанность честнаго и благороднаго человѣка, прекрати соблазнъ и дурной примѣръ, который подается тобою, лучшимъ изъ людей!
— Что́ ты хочешь сказать Павелъ?
— Женись на Ѳеничкѣ… Она тебя любитъ; она — мать твоего сына.
Николай Петровичъ отступилъ на шагъ и всплеснулъ руками.
— Ты это говоришь, Павелъ? ты, котораго я считалъ всегда самымъ непреклоннымъ противникомъ подобныхъ браковъ! Ты это говоришь! Но развѣ ты не знаешь, что единственно изъ уваженія къ тебѣ я не исполнилъ того, что́ ты такъ справедливо назвалъ моимъ долгомъ!
— Напрасно жъ ты уважалъ меня въ этомъ случаѣ, возразилъ съ унылою улыбкою Павелъ Петровичъ. — Я начинаю думать, что Базаровъ былъ правъ, когда упрекалъ меня въ аристократизмѣ. Нѣтъ, милый братъ, полно намъ ломаться и думать о свѣтѣ: мы люди уже старые и смирные; пора намъ отложить въ сторону всякую суету. Именно, какъ ты говоришь, станемъ исполнять нашъ долгъ; и посмотри, мы еще и счастье получимъ въ придачу.
Николай Петровичъ бросился обнимать своего брата.
— Ты мнѣ окончательно открылъ глаза! — воскликнулъ онъ. — Я не даромъ всегда утверждалъ, что ты самый добрый и умный человѣкъ въ мірѣ; а теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, какъ и великодушный.
— Тише, тише, — перебилъ его Павелъ Петровичъ. — Не разбереди ногу твоего благоразумнаго брата, который подъ пятьдесятъ лѣтъ дрался на дуэли, какъ прапорщикъ. Итакъ, это дѣло рѣшеное: Ѳеничка будетъ моею… belle soeur.
— Дорого̀й мой Павелъ! Но что́ скажетъ Аркадій?
— Аркадій? онъ восторжествуетъ, помилуй! Бракъ не въ его принсипахъ, за то чувство равенства будетъ въ немъ польщено. Да и дѣйствительно, что̀ за касты au dix-neuvième siècle?
— Ахъ, Павелъ, Павелъ! дай мнѣ еще разъ тебя поцѣловать. Не бойся, я осторожно.
Братья обнялись.
— Какъ ты полагаешь, не объявить ли ей твое намѣреніе теперь же? — спросилъ Павелъ Петровичъ.
— Къ чему спѣшить? — возразилъ Николай Петровичъ. — Развѣ у васъ былъ разговоръ?
— Разговоръ у насъ? Quelle idée!
— Ну, и прекрасно. Прежде всего выздоравливай, а это отъ насъ не уйдетъ, надо подумать хорошенько, сообразить…
— Но вѣдь ты рѣшился?
— Конечно рѣшился, и благодарю тебя отъ души. Я теперь тебя оставлю; тебѣ надо отдохнуть; всякое волненіе тебѣ вредно… Но мы еще потолкуемъ. Засни, душа моя, и дай Богъ тебѣ здоровья!
«За что онъ меня такъ благодаритъ?» подумалъ Павелъ Петровичъ, оставшись одинъ. «Какъ будто это не отъ него зависѣло! А я, какъ только онъ женится, уѣду куда-нибудь подальше, въ Дрезденъ или во Флоренцію, и буду тамъ жить, пока околѣю».
Павелъ Петровичъ помочилъ себѣ лобъ одеколономъ и закрылъ глаза. Освѣщенная яркимъ дневнымъ свѣтомъ, его красивая, исхудалая голова лежала на бѣлой подушкѣ, какъ голова мертвеца… Да онъ и былъ мертвецъ.
ХХѴ.
Въ Никольскомъ, въ саду, въ тѣни высокаго ясеня, сидѣли на дерновой скамейкѣ Катя съ Аркадіемъ; на землѣ, возлѣ нихъ помѣстилась Фифи, придавъ своему длинному тѣлу тотъ изящный поворотъ, который у охотниковъ слыветъ «русачьей полежкой». И Аркадій, и Катя молчали; онъ держалъ въ рукахъ полураскрытую книгу, а она выбирала изъ корзинки оставшіяся въ ней крошки бѣлаго хлѣба, и бросала ихъ небольшой семейкѣ воробьевъ, которые, съ свойственной имъ трусливою дерзостью, прыгали и чирикали у самыхъ ея ногъ. Слабый вѣтеръ, шевеля въ листьяхъ ясеня, тихонько двигалъ взадъ и впередъ, и по темной дорожкѣ, и по желтой спинѣ Фифи, блѣднозолотыя пятна свѣта; ровная тѣнь обливала Аркадія и Катю; только изрѣдка въ ея волосахъ зажигалась яркая полоска. Они молчали оба; но именно въ томъ, какъ они молчали, какъ они сидѣли рядомъ, сказывалось довѣрчивое сближеніе: каждый изъ нихъ какъ будто и не думалъ о своемъ сосѣдѣ, а втайнѣ радовался его близости. И лица ихъ измѣнились съ тѣхъ поръ, какъ мы ихъ видѣли въ послѣдній разъ: Аркадій казался спокойнѣе, Катя оживленнѣе, смѣлѣй.
— Не находите ли вы, — началъ Аркадій, — что ясень по-русски очень хорошо названъ: ни одно дерево такъ легко и ясно не сквозитъ на воздухѣ, какъ онъ.
Катя подняла глаза кверху и промолвила: «да», а Аркадій подумалъ: «вотъ эта не упрекаетъ меня за то, что я красиво выражаюсь».
— Я не люблю Гейне, — заговорила Катя, указывая глазами на книгу, которую Аркадій держалъ въ рукахъ: — ни когда онъ смѣется, ни когда онъ плачетъ: я его люблю, когда онъ задумчивъ и груститъ.
— А мнѣ нравится, когда онъ смѣется, — замѣтилъ Аркадій.
— Это въ васъ еще старые слѣды вашего сатирическаго направленія… (Старые слѣды! подумалъ Аркадій — еслибъ Базаровъ это слышалъ!) Погодите, мы васъ передѣлаемъ.
— Кто меня передѣлаетъ? Вы?
— Кто? — сестра; Порфирій Платоновичъ, съ которымъ вы уже не ссоритесь; тетушка, которую вы третьяго дня проводили въ церковь.
— Не могъ же я отказаться! А что́ касается до Анны Сергѣевны, она сама, вы помните, во многомъ соглашалась съ Евгеніемъ.
— Сестра находилась тогда подъ его вліяніемъ, также какъ и вы.
— Какъ и я! Развѣ вы замѣчаете, что я уже освободился изъ-подъ его вліянія?
Катя промолчала.
— Я знаю, — продолжалъ Аркадій, — онъ вамъ никогда не нравился.
— Я не могу судить о немъ.
— Знаете ли что́, Катерина Сергѣевна? Всякій разъ, когда я слышу этотъ отвѣтъ, я ему не вѣрю… Нѣтъ такого человѣка, о которомъ каждый изъ насъ не могъ бы судить! Это просто отговорка.
— Ну, такъ я вамъ скажу, что онъ… не то, что мнѣ не нравится, а я чувствую, что и онъ мнѣ чужой, и я ему чужая… да и вы ему чужой.
— Это почему?
— Какъ вамъ сказать… Онъ хищный, а мы съ вами ручные.
— И я ручной?
Катя кивнула головой.
Аркадій почесалъ у себя за ухомъ.
— Послушайте, Катерина Сергѣевна: вѣдь это въ сущности обидно.
— Развѣ вы хотѣли бы быть хищнымъ?
— Хищнымъ нѣтъ, но сильнымъ, энергическимъ.
— Этого нельзя хотѣть… Вотъ вашъ пріятель этого и не хочетъ, а въ немъ это есть.
— Гм! Такъ вы полагаете, что онъ имѣлъ большое вліяніе на Анну Сергѣевну?
— Да. Но надъ ней никто долго взять верхъ не можетъ, — прибавила Катя вполголоса.
— Почему вы это думаете?
— Она очень горда… я не то хотѣла сказать… она очень дорожитъ своею независимостью.
— Кто же ею не дорожитъ? — спросилъ Аркадій, а у самого въ умѣ мелькнуло: «на что она?» «На что она?» мелькнуло и у Кати. Молодымъ людямъ, которые часто и дружелюбно сходятся, безпрестанно приходятъ однѣ и тѣ же мысли.
Аркадій улыбнулся и, слегка придвинувшись къ Катѣ, промолвилъ шопотомъ:
— Сознайтесь, что вы немножко ея боитесь.
— Кого?
— Ея, — значительно повторилъ Аркадій.
— А вы? — въ свою очередь спросила Катя.
— И я; замѣтьте, я сказалъ: и я.
Катя погрозила ему пальцемъ.
— Это меня удивляетъ, — начала она: — никогда сестра такъ не была расположена къ вамъ, какъ именно теперь; гораздо больше, чѣмъ въ первый вашъ пріѣздъ.
— Вотъ какъ!
— А вы этого не замѣтили? Васъ это не радуетъ?
Аркадій задумался.
— Чѣмъ я могъ заслужить благоволеніе Анны Сергѣевны? Ужъ не тѣмъ ли, что привезъ ей письма вашей матушки?
— И этимъ, и другія есть причины, которыхъ я не скажу.
— Это почему?
— Не скажу.
— О! я знаю: вы очень упрямы.
— Упряма.
— И наблюдательны.
Катя посмотрѣла съ боку на Аркадія.
— Можетъ быть васъ это сердитъ? О чемъ вы думаете?
— Я думаю о томъ, откуда могла придти вамъ эта наблюдательность, которая дѣйствительно есть въ васъ. Вы такъ пугливы, недовѣрчивы; всѣхъ чуждаетесь…
— Я много жила одна; поневолѣ размышлять станешь. Но развѣ я всѣхъ чуждаюсь?
Аркадій бросилъ признательный взглядъ на Катю.
— Все это прекрасно, продолжалъ онъ, — но люди въ вашемъ положеніи, я хочу сказать съ вашимъ состояніемъ, рѣдко владѣютъ этимъ даромъ; до нихъ какъ до царей истинѣ трудно дойдти.
— Да вѣдь я не богатая.
Аркадій изумился и не сразу понялъ Катю. «И въ самомъ дѣлѣ, имѣніе-то все сестрино!» пришло ему въ голову; эта мысль ему не была непріятна.
— Какъ вы это хорошо сказали! — промолвилъ онъ.
— А что̀?
— Сказали хорошо; просто, не стыдясь и не рисуясь. Кстати: я воображаю, въ чувствѣ человѣка, который знаетъ и говоритъ, что онъ бѣденъ, должно быть что-то особенное, какое-то своего рода тщеславіе.
— Я ничего этого не испытала, по милости сестры; я упомянула о своемъ состояніи только потому, что къ слову пришлось.
— Такъ; но сознайтесь, что и въ васъ есть частица того тщеславія, о которомъ я сейчасъ говорилъ.
— Напримѣръ?
— Напримѣръ, вѣдь вы — извините мой вопросъ, — вы бы не пошли замужъ за богатаго человѣка?
— Еслибъ я его очень любила… Нѣтъ, кажется, и тогда бы не пошла.
— А! вотъ видите! — воскликнулъ Аркадій и, погодя немного, прибавилъ: — а отчего бы вы за него не пошли?
— Оттого, что и въ пѣснѣ про неро̀внюшку поется.
— Вы, можетъ-быть, хотите властвовать или…
— О, нѣтъ! къ чему это? Напротивъ, я готова покоряться, только неравенство тяжело. А уважать себя и покоряться, это я понимаю; это счастье; но подчиненное существованіе… Нѣтъ, довольно и такъ.
— Довольно и такъ, — повторилъ за Катей Аркадій. — Да, да, — продолжалъ онъ, — вы не даромъ одной крови съ Анной Сергѣевной; вы такъ же самостоятельны какъ она; но вы болѣе скрытны. Вы, я увѣренъ, ни за что первая не выскажете своего чувства, какъ бы оно ни было сильно и свято…
— Да какъ же иначе? — спросила Катя.
— Вы одинаково умны; у васъ столько же, если не больше, характера, какъ у ней..,.
— Не сравнивайте меня съ сестрой, пожалуйста, — поспѣшно перебила Катя, — это для меня слишкомъ невыгодно. Вы какъ будто забыли, что сестра и красавица, и умница, и… вамъ въ особенности, Аркадій Николаичъ, не слѣдовало бы говорить такія слова, и еще съ такимъ серіознымъ лицомъ.
— Что̀ значитъ это: вамъ въ особенности, — и изъ чего вы заключаете, что я шучу?
— Конечно, вы шутите.
— Вы думаете? А что̀, если я убѣжденъ въ томъ что̀ я говорю? Если я нахожу, что я еще не довольно сильно выразился?
— Я васъ не понимаю.
— Въ самомъ дѣлѣ? Ну теперь я вижу: я, точно, слишкомъ превозносилъ вашу наблюдательность.
— Какъ?
Аркадій ничего не отвѣтилъ и отвернулся, а Катя отыскала въ корзинкѣ еще нѣсколько крошекъ и начала бросать ихъ воробьямъ; но взмахъ ея руки былъ слишкомъ силенъ, и они улетали прочь, не успѣвши клюнуть.
— Катерина Сергѣевна! — заговорилъ вдругъ Аркадій: — вамъ это, вѣроятно, все равно; но знайте, что я васъ не только на вашу сестру, — ни на кого въ свѣтѣ не промѣняю.
Одъ всталъ и быстро удалился, какъ бы испугавшись словъ, сорвавшихся у него съ языка.
А Катя уронила обѣ руки вмѣстѣ съ корзинкой на колѣни, и наклонивъ голову, долго смотрѣла вслѣдъ Аркадію. Понемногу, алая краска чуть-чуть выступила на ея щеки; но губы не улыбались, и темные глаза выражали недоумѣніе и какое-то другое, пока еще безымянное чувство.
— Ты одна? — раздался возлѣ нея голосъ Анны Сергѣевны. — Кажется, ты пошла въ садъ съ Аркадіемъ.
Катя, не спѣша, перевела свои глаза на сестру (изящно, даже изысканно одѣтая, она стояла на дорожкѣ и кончикомъ раскрытаго зонтика шевелила уши Фифи), и не спѣша промолвила: — Я одна.
— Я это вижу, — отвѣчала та со смѣхомъ: — онъ стало быть ушелъ къ себѣ.
— Да.
— Вы вмѣстѣ читали?
— Да.
Анна Сергѣевна взяла Катю за подбородокъ и приподняла ея лицо.
— Вы не поссорились, надѣюсь?
— Нѣтъ, сказала Катя, и тихо отвела сестрину руку.
— Какъ ты торжественно отвѣчаешь! Я думала найдти его здѣсь, и предложить ему пойдти гулять со мною. Онъ самъ меня все проситъ объ этомъ. Тебѣ изъ города привезли ботинки, поди примѣрь ихъ: я уже вчера замѣтила, что твои прежнія совсѣмъ износились. Вообще, ты не довольно этимъ занимаешься, а у тебя еще такія прелестныя ножки! И руки твои хороши… только велики; такъ надо ножками брать. Но ты у меня не кокетка.
Анна Сергѣевна отправилась дальше по дорожкѣ, слегка шумя своимъ красивымъ платьемъ; Катя поднялась со скамейки, и взявъ съ собою Гейне, ушла тоже — только не примѣрять ботинки.
«Прелестныя ножки», думала она, медленно и легко всходя по раскаленнымъ отъ солнца каменнымъ ступенямъ террасы: — прелестныя ножки, говорите вы… Ну, онъ и будетъ у нихъ.
Но ей тотчасъ стало стыдно, и она проворно побѣжала вверхъ.
Аркадій пошелъ по корридору къ себѣ въ комнату; дворецкій нагналъ его и доложилъ, что у него сидитъ господинъ Базаровъ.
— Евгеній! — пробормоталъ почти съ испугомъ Аркадій: — давно ли онъ пріѣхалъ?
— Сію минуту пожаловали, и приказали о себѣ Аннѣ Сергѣевнѣ не докладывать, а прямо къ вамъ себя приказали провести.
«Ужъ не несчастье ли какое у насъ дома», подумалъ Аркадій и, торопливо взбѣжавъ по лѣстницѣ, разомъ отворилъ дверь. Видъ Базарова тотчасъ его успокоилъ, хотя болѣе опытный глазъ, вѣроятно, открылъ бы въ энергической попрежнему, но осунувшейся фигурѣ нежданнаго гостя, признаки внутренняго волненія. Съ пыльною шинелью на плечахъ, съ картузомъ на головѣ, сидѣлъ онъ на оконницѣ; онъ не поднялся и тогда, когда Аркадій бросился съ шумными восклицаніями къ нему на шею.
— Вотъ неожиданно! Какими судьбами! — твердилъ онъ, суетясь по комнатѣ, какъ человѣкъ, который и самъ воображаетъ, и желаетъ показать, что радуется. — Вѣдь у насъ все въ домѣ благополучно, всѣ здоровы, не правда ли?
— Все у васъ благополучно, но не всѣ здоровы, — проговорилъ Базаровъ. — А ты не тараторь, вели принести мнѣ квасу, присядь и слушай, что́ я тебѣ сообщу въ немногихъ, но, надѣюсь, довольно сильныхъ выраженіяхъ.
Аркадій притихъ, а Базаровъ разсказалъ ему свою дуэль съ Павломъ Петровичемъ. Аркадій очень удивился и даже опечалился; но не почелъ нужнымъ это выказать; онъ только спросилъ, дѣйствительно ли неопасна рана его дяди? и, получивъ отвѣтъ, что она — самая интересная, только не въ медицинскомъ отношеніи, — принужденно улыбнулся, а на сердцѣ ему и жутко сдѣлалось, и какъ-то стыдно. Базаровъ какъ будто его понялъ.
— Да, братъ, — промолвилъ онъ, — вотъ что значитъ съ феодалами пожить. Самъ въ феодалы попадешь и въ рыцарскихъ турнирахъ участвовать будешь. Ну-съ, вотъ я и отправился къ «отцамъ», — такъ заключилъ Базаровъ, — и на дорогѣ завернулъ сюда… чтобы все это передать, сказалъ бы я, еслибъ я не почиталъ безполезную ложь — глупостью. Нѣтъ, я завернулъ сюда — чортъ знаетъ зачѣмъ. Видишь ли, человѣку иногда полезно взять себя за хохолъ, да выдернуть себя вонъ, какъ рѣдьку изъ гряды; это я совершилъ на дняхъ… Но мнѣ захотѣлось взглянуть еще разъ на то, съ чѣмъ я разстался, на ту гряду, гдѣ я сидѣлъ.
— Я надѣюсь, что эти слова ко мнѣ не относятся, — возразилъ съ волненіемъ Аркадій, — я надѣюсь, что ты не думаешь разстаться со мной.
Базаровъ пристально, почти пронзительно, взглянулъ на него.
— Будто это такъ огорчитъ тебя? Мнѣ сдается, что ты уже разстался со мною. Ты такой свѣженькій да чистенькій… должно быть твои дѣла съ Анной Сергѣевной идутъ отлично.
— Какія мои дѣла съ Анной Сергѣевной?
— Да развѣ ты не для нея сюда пріѣхалъ изъ города, птенчикъ? Кстати, какъ тамъ подвизаются воскресныя школы? Развѣ ты не влюбленъ въ нее? Или уже тебѣ пришла пора скромничать?
— Евгеній, ты знаешь, я всегда былъ откровененъ съ тобою; могу тебя увѣрить, божусь тебѣ, что ты ошибаешься.
— Гм! Новое слово, — замѣтилъ вполголоса Базаровъ. — Но тебѣ не для чего горячиться, мнѣ вѣдь это совершенно все равно. Романтикъ сказалъ бы: я чувствую, что наши дороги начинаютъ расходиться, а я просто говорю, что мы другъ другу пріѣлись.
— Евгеній…
— Душа моя, это не бѣда; то ли еще на свѣтѣ пріѣдается! А теперь я думаю, не проститься ли намъ? Съ тѣхъ поръ, какъ я здѣсь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писемъ Гоголя къ калужской губернаторшѣ. Кстати жъ, я не велѣлъ откладывать лошадей.
— Помилуй, это невозможно!
— А почему?
— Я уже не говорю о себѣ; но это будетъ въ высшей степени невѣжливо передъ Анной Сергѣевной, которая непремѣнно пожелаетъ тебя видѣть.
— Ну, въ этомъ ты ошибаешься.
— А я, напротивъ, увѣренъ, что я правъ, — возразилъ Аркадій. — И къ чему ты притворяешься? Ужъ коли на то пошло, развѣ ты самъ не для нея сюда пріѣхалъ?
— Это, можетъ-быть, и справедливо, но ты все-таки ошибаешься.
Но Аркадій былъ правъ. Анна Сергѣевна пожелала повидаться съ Базаровымъ, и пригласила его къ себѣ черезъ дворецкаго. Базаровъ переодѣлся, прежде чѣмъ пошелъ къ ней: оказалось, что онъ уложилъ свое новое платье такъ, что оно было у него подъ рукою.
Одинцова его приняла не въ той комнатѣ, гдѣ онъ такъ неожиданно объяснился ей въ любви, а въ гостиной. Она любезно протянула ему кончики пальцевъ, но лицо ея выражало невольное напряженіе.
— Анна Сергѣевна, — поторопился сказать Базаровъ, — прежде всего я долженъ васъ успокоить. Передъ вами смертный, который самъ давно опомнился, и надѣется, что и другіе забыли его глупости. Я уѣзжаю надолго, и согласитесь, хоть я и не мягкое существо, но мнѣ было бы невесело унести съ собою мысль, что вы вспоминаете обо мнѣ съ отвращеніемъ.
Анна Сергѣевна глубоко вздохнула, какъ человѣкъ, только-что взобравшійся на высокую гору, и лицо ея оживилось улыбкой. Она вторично протянула Базарову руку, и отвѣчала на его пожатіе.
— Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ, — сказала она, — тѣмъ болѣе что, говоря по совѣсти, и я согрѣшила тогда, если не кокетствомъ, такъ чѣмъ-то другимъ. Одно слово: будемте пріятелями попрежнему. То былъ сонъ, не правда ли? А кто же сны помнитъ?
— Кто ихъ помнитъ? Да притомъ любовь… вѣдь это чувство напускное.
— Въ самомъ дѣлѣ? Мнѣ очень пріятно это слышать.
Такъ выражалась Анна Сергѣевна, и такъ выражался Базаровъ; они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда, въ ихъ словахъ? Они сами этого не знали, а авторъ и подавно. Но бесѣда у нихъ завязалась такая, какъ будто они совершенно повѣрили другъ другу.
Анна Сергѣевна спросила, между прочимъ, Базарова, что онъ дѣлалъ у Кирсановыхъ? Онъ чуть-было не разсказалъ ей о своей дуэли съ Павломъ Петровичемъ, но удержался при мысли, какъ бы она не подумала, что онъ интересничаетъ, и отвѣчалъ ей, что онъ все это время работалъ.
— А я, — промолвила Анна Сергѣевна, — сперва хандрила, Богъ знаетъ отчего, даже за границу собиралась, вообразите!… Потомъ это прошло; вашъ пріятель, Аркадій Николаичъ, пріѣхалъ, и я опять попала въ свою колею, въ свою настоящую роль.
— Въ какую это роль, позвольте узнать?
— Роль тетки, наставницы, матери, какъ хотите, назовите. Кстати, знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тѣсной дружбы съ Аркадіемъ Николаичемъ; я находила его довольно незначительнымъ. Но теперь я его лучше узнала, и убѣдилась, что онъ уменъ… А главное, онъ молодъ, молодъ… не то что мы съ вами, Евгеній Васильичъ.
— Онъ все также робѣетъ въ вашемъ присутствіи? — спросилъ Базаровъ.
— А развѣ… — начала было Анна Сергѣевна и, подумавъ немного, прибавила: — теперь онъ довѣрчивѣе сталъ, говоритъ со мною. Прежде онъ избѣгалъ меня. Впрочемъ, и я не искала его общества. Они большіе пріятели съ Катей. — Базарову стало досадно. — «Не можетъ женщина не хитрить!» подумалъ онъ.
— Вы говорите, онъ избѣгалъ васъ, — произнесъ онъ съ холодною усмѣшкой, — но, вѣроятно, для васъ не осталось тайной, что онъ былъ въ васъ влюбленъ?
— Какъ? и онъ? — сорвалось у Анны Сергѣевны.
— И онъ, — повторилъ Базаровъ съ смиреннымъ поклономъ. — Неужели вы этого не знали, и я вамъ сказалъ новость?
Анна Сергѣевна опустила глаза.
— Вы ошибаетесь, Евгеній Васильичъ.
— Не думаю. Но, можетъ-быть, мнѣ не слѣдовало упоминать объ этомъ. — «А ты впередъ не хитри», прибавилъ онъ про себя.
— Отчего не упоминать? Но я полагаю, что вы и тутъ придаете слишкомъ большое значеніе мгновенному впечатлѣнію. Я начинаю подозрѣвать, что вы склонны къ преувеличенію.
— Не будемте лучше говорить объ этомъ, Анна Сергѣевна.
— Отчего же? — возразила она, а сама перевела разговоръ на другую дорогу. Ей все-таки было неловко съ Базаровымъ, хотя она и ему сказала, и сама себя увѣрила, что все позабыто. Мѣняясь съ нимъ самыми простыми рѣчами, даже шутя съ нимъ, она чувствовала легкое стѣсненіе страха. Такъ люди на пароходѣ, въ морѣ, разговариваютъ и смѣются беззаботно, ни-дать, ни-взять, какъ на твердой землѣ; но случись малѣйшая остановка, появись малѣйшій признакъ чего-нибудь необычайнаго, и тотчасъ же на всѣхъ лицахъ выступитъ выраженіе особенной тревоги, свидѣтельствующее о постоянномъ сознаніи постоянной опасности.
Бесѣда Анны Сергѣевны съ Базаровымъ продолжалась недолго. Она начала задумываться, отвѣчать разсѣянно, и предложила ему наконецъ перейдти въ залу, гдѣ они нашли княжну и Катю. «А гдѣ же Аркадій Николаичъ?» спросила хозяйка и, узнавъ, что онъ не показывался уже болѣе часа, послала за нимъ. Его не скоро нашли: онъ забрался въ самую глушь сада, и опершись подбородкомъ на скрещенныя руки, сидѣлъ погруженный въ думы. Онѣ были глубоки и важны, эти думы, но не печальны. Онъ зналъ, что Анна Сергѣевна сидитъ наединѣ съ Базаровымъ, и ревности онъ не чувствовалъ, какъ бывало; напротивъ, лицо его тихо свѣтлѣло; казалось, онъ и дивился чему-то, и радовался, и рѣшался на что-то.
ХХѴІ.
Покойный Одинцовъ не любилъ нововведеній, но допускалъ «нѣкоторую игру облагороженнаго вкуса», и вслѣдствіе этого воздвигнулъ у себя въ саду, между теплицей и прудомъ, строеніе въ родѣ греческаго портика изъ русскаго кирпича. На задней, глухой стѣнѣ этого портика, или галлереи, были вдѣланы шесть нишъ для статуй, которыя Одинцовъ собирался выписать изъ-за границы. Эти статуи долженствовали изображать собою: Уединеніе, Молчаніе, Размышленіе, Меланхолію, Стыдливость и Чувствительность. Одну изъ нихъ, богиню Молчанія, съ пальцемъ на губахъ, привезли было и поставили; но ей въ тотъ же день дворовые мальчишки отбили носъ, и хотя сосѣдній штукатуръ брался придѣлать ей носъ «вдвое лучше прежняго», однако Одинцовъ велѣлъ ее принять, и она очутилась въ углу молотильнаго сарая, гдѣ стояла долгіе годы, возбуждая суевѣрный ужасъ бабъ. Передняя сторона портика давно заросла густымъ кустарникомъ: одни капители колоннъ виднѣлись надъ сплошною зеленью. Въ самомъ портикѣ, даже въ полдень, было прохладно. Анна Сергѣевна не любила посѣщать это мѣсто съ тѣхъ поръ, какъ увидала тамъ ужа; но Катя часто приходила садиться на большую каменную скамью, устроенную подъ одною изъ нишъ. Окруженная свѣжестью и тѣнью, она читала, работала, или предавалась тому ощущенію полной тишины, которое, вѣроятно, знакомо каждому, и прелесть котораго состоитъ въ едва-сознательномъ, нѣмотствующемъ подкарауливаньѣ широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругомъ насъ, и въ насъ самихъ.
На другой день по пріѣздѣ Базарова, Катя сидѣла на своей любимой скамьѣ, и рядомъ съ нею сидѣлъ опять Аркадій. Онъ упросилъ ее пойдти съ нимъ въ «портикъ».
До завтрака оставалось около часа; росистое утро уже смѣнялось горячимъ днемъ. Лицо Аркадія сохраняло вчерашнее выраженіе, Катя имѣла видъ озабоченный. Сестра ея, тотчасъ послѣ чаю, позвала ее къ себѣ въ кабинетъ и, предварительно приласкавъ ее, что всегда немного пугало Катю, посовѣтовала ей быть осторожнѣй въ своемъ поведеніи съ Аркадіемъ, а особенно избѣгать уединенныхъ бесѣдъ съ нимъ, будтобы замѣченныхъ и теткой, и всѣмъ домомъ. Кромѣ того, уже наканунѣ вечеромъ, Анна Сергѣевна была не въ духѣ; да и сама Катя чувствовала смущеніе, точно сознавала вину за собою. Уступая просьбѣ Аркадія, она себѣ сказала, что это въ послѣдній разъ.
— Катерина Сергѣевна, — заговорилъ онъ съ какою-то застѣнчивою развязностью, — съ тѣхъ поръ, какъ я имѣю счастье жить въ одномъ домѣ съ вами, я обо многомъ съ вами бесѣдовалъ, а между тѣмъ есть одинъ очень важный для меня… вопросъ, до котораго я еще не касался. Вы замѣтили вчера, что меня здѣсь передѣлали, — прибавилъ онъ, и ловя, и избѣгая вопросительно устремленный на него взоръ Кати. — Дѣйствительно, я во многомъ измѣнился, и это вы знаете лучше всякаго другого, — вы, которой я, въ сущности, и обязанъ этою перемѣной.
— Я?… Мнѣ?… — проговорила Катя.
— Я теперь уже не тотъ заносчивый мальчикъ, какимъ я сюда пріѣхалъ, — продолжалъ Аркадій, — не даромъ же мнѣ и минулъ двадцать-третій годъ; я попрежнему желаю быть полезнымъ, желаю посвятить всѣ мои силы истинѣ; но я уже не тамъ ищу свои идеалы, гдѣ искалъ ихъ прежде; они представляются мнѣ… гораздо ближе. До сихъ поръ я не понималъ себя, я задавалъ себѣ задачи, которыя мнѣ не по силамъ… Глаза мои недавно раскрылись, благодаря одному чувству… Я выражаюсь не совсѣмъ ясно, но я надѣюсь, что вы меня поймете…
Катя ничего не отвѣчала, но перестала глядѣть на Аркадія.
— Я полагаю, — заговорилъ онъ снова, уже болѣе взволнованнымъ голосомъ, а зябликъ надъ нимъ въ листвѣ березы беззаботно распѣвалъ свою пѣсенку, — я полагаю, что обязанность всякаго честнаго человѣка быть вполнѣ откровеннымъ съ тѣми… съ тѣми людьми, которые… словомъ, съ близкими ему людьми, а потому я… я намѣренъ…
Но тутъ краснорѣчіе измѣнило Аркадію; онъ сбился, замялся и принужденъ былъ немного помолчать; Катя все не поднимала глазъ. Казалось, она и не понимала, къ чему онъ это все ведетъ, и ждала чего-то.
— Я предвижу, что удивлю васъ, — началъ Аркадій, снова собравшись съ силами — тѣмъ болѣе, что это чувство относится нѣкоторымъ образомъ… нѣкоторымъ образомъ, замѣтьте, — до васъ. Вы меня, помнится, вчера упрекнули въ недостаткѣ серіозности, — продолжалъ Аркадій, съ видомъ человѣка, который вошелъ въ болото, чувствуетъ что съ каждымъ шагомъ погружается больше и больше, и все-таки спѣшитъ впередъ, въ надеждѣ поскорѣе перебраться: — этотъ упрекъ часто направляется… падаетъ… на молодыхъ людей, даже когда они перестаютъ его заслуживать; и еслибы во мнѣ было больше самоувѣренности… («Да помоги же мнѣ, помоги!» съ отчаяніемъ думалъ Аркадій, но Катя попрежнему не поворачивала головы.) Еслибъ я могъ надѣяться…
— Еслибъ я могла быть увѣрена въ томъ, что вы говорите, — раздался въ это мгновеніе ясный голосъ Анны Сергѣевны.
Аркадій тотчасъ умолкъ, а Катя поблѣднѣла. Мимо самыхъ кустовъ, заслонявшихъ портикъ, пролегала дорожка. Анна Сергѣевна шла по ней въ сопровожденіи Базарова. Катя съ Аркадіемъ не могли ихъ видѣть, но слышали каждое слово, шелестъ платья, самое дыханіе. Они сдѣлали нѣсколько шаговъ и какъ нарочно остановились прямо передъ портикомъ.
— Вотъ видите ли, — продолжала Анна Сергѣевна, — мы съ вами ошиблись; мы оба уже не первой молодости, особенно я; мы пожили, устали; мы оба, къ чему церемониться? — умны: сначала мы заинтересовали другъ друга, любопытство было возбуждено… а потомъ…
— А потомъ я выдохся, — подхватилъ Базаровъ.
— Вы знаете, что не это было причиною нашей размолвки. Но какъ бы то ни было, мы не нуждались другъ въ другѣ, вотъ главное; въ насъ слишкомъ много было… какъ бы это сказать… однороднаго. Мы это не сразу поняли. Напротивъ, Аркадій…
— Вы въ немъ нуждаетесь? — спросилъ Базаровъ.
— Полноте, Евгеній Васильевичъ. Вы говорите, что онъ неравнодушенъ ко мнѣ, и мнѣ самой всегда казалось, что я ему нравлюсь. Я знаю, что я гожусь ему въ тетки, но я не хочу скрывать отъ васъ, что я стала чаще думать о немъ. Въ этомъ молодомъ и свѣжемъ чувствѣ есть какая-то прелесть…
— Слово обаяніе употребительнѣе въ подобныхъ случаяхъ, — перебилъ Базаровъ; кипѣніе желчи слышалось въ его спокойномъ, но глухомъ голосѣ. — Аркадій что-то секретничалъ вчера со мною, и не говорилъ ни о васъ, ни о вашей сестрѣ… Это симптомъ важный.
— Онъ съ Катей совсѣмъ какъ братъ, — промолвила Анна Сергѣевна, — и это мнѣ въ немъ нравится, хотя, можетъ быть, мнѣ бы и не слѣдовало позволять такую близость между ними.
— Это въ васъ говоритъ… сестра? — произнесъ протяжно Базаровъ.
— Разумѣется… но что̀ же мы стоимъ? Пойдемте. Какой странный разговоръ у насъ, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить такъ съ вами? Вы знаете, что я васъ боюсь… и въ то же время я вамъ довѣряю, потому что въ сущности вы очень добры.
— Вопервыхъ, я вовсе не добръ; а вовторыхъ, я потерялъ для васъ всякое значеніе, и вы мнѣ говорите, что я добръ… Это все равно, что класть вѣнокъ изъ цвѣтовъ на голову мертвеца.
— Евгеніи Васильичъ, мы не властны… — начала было Анна Сергѣевна; но вѣтеръ налетѣлъ, зашумѣлъ листами и унесъ ея слова.
— Вѣдь вы свободны, — произнесъ, немного погодя, Базаровъ. Больше ничего нельзя было разобрать; шаги удалились… все затихло.
Аркадій обратился къ Катѣ. Она сидѣла въ томъ же положеніи, только еще ниже опустила голову.
— Катерина Сергѣевна, — проговорилъ онъ дрожащимъ голосомъ и стиснувъ руки: — я люблю васъ навѣкъ и безвозвратно, и никого не люблю кромѣ васъ. Я хотѣлъ вамъ это сказать, узнать ваше мнѣніе и просить вашей руки, потому что я и не богатъ, и чувствую, что готовъ на всѣ жертвы… Вы не отвѣчаете? Вы мнѣ не вѣрите? Вы думаете, что я говорю легкомысленно? Но вспомните эти послѣдніе дни! Неужели вы давно не убѣдились, что все другое — поймите меня — все, все другое давно исчезло безъ слѣда? Посмотрите на меня, скажите мнѣ одно слово…
— Я люблю… я люблю васъ… повѣрьте же мнѣ!
Катя взглянула на Аркадія важнымъ и свѣтлымъ взглядомъ и, послѣ долгаго раздумья, едва улыбнувшись, промолвила:
— Да.
Аркадіи вскочилъ со скамьи.
— Да! Вы сказали: да, Катерина Сергѣевна! Что̀ значитъ это слово? То̀ ли, что я васъ люблю, что вы мнѣ вѣрите… Или… или… я не смѣю докончить…
— Да, — повторила Катя, и въ этотъ разъ онъ ее понялъ. Онъ схватилъ ея большія прекрасныя руки и, задыхаясь отъ восторга, прижалъ ихъ къ своему сердцу. Онъ едва стоялъ на ногахъ и только твердилъ: «Катя, Катя…», а она какъ-то невинно заплакала, сама тихо смѣясь своимъ слезамъ. Кто не видалъ такихъ слезъ въ глазахъ любимаго существа, тотъ еще не испыталъ до какой степени, замирая весь отъ благодарности и отъ стыда, можетъ быть счастливъ на землѣ человѣкъ.
На слѣдующій день, рано поутру, Анна Сергѣевна велѣла позвать Базарова къ себѣ въ кабинетъ, и съ принужденнымъ смѣхомъ подала ему сложенный листокъ почтовой бумаги. Это было письмо отъ Аркадія: онъ въ немъ просилъ руки ея сестры.
Базаровъ быстро пробѣжалъ письмо, и сдѣлалъ усиліе надъ собою, чтобы не выказать злораднаго чувства, которое мгновенно вспыхнуло у него въ груди.
— Вотъ какъ, — проговорилъ онъ, — а вы, кажется, не далѣе какъ вчера полагали, что онъ любитъ Катерину Сергѣевну братскою любовью. Что же вы намѣрены теперь сдѣлать?
— Что́ вы мнѣ посовѣтуете? — спросила Анна Сергѣевна, продолжая смѣяться.
— Да я полагаю, — отвѣтилъ Базаровъ тоже со смѣхомъ, хотя ему вовсе не было весело и нисколько не хотѣлось смѣяться, также какъ и ей: — я полагаю, слѣдуетъ благословить молодыхъ людей. Партія во всѣхъ отношеніяхъ хорошая; состояніе у Кирсанова изрядное, онъ одинъ сынъ у отца, да и отецъ добрый малый, прекословить не будетъ.
Одинцова прошлась по комнатѣ. Ея лицо поперемѣнно краснѣло и блѣднѣло.
— Вы думаете? — промолвила она. — Что жъ? я не вижу препятствій… Я рада за Катю… и за Аркадія Николаевича. Разумѣется, я подожду отвѣта отца. Я его самого къ нему пошлю. Но вотъ и выходитъ, что я была права вчера, когда я говорила вамъ, что мы оба уже старые люди… Какъ это я ничего не видала? Это меня удивляетъ!
Анна Сергѣевна опять засмѣялась, и тотчасъ же отворотилась.
— Нынѣшняя молодежь больно хитра стала, — замѣтилъ Базаровъ, и тоже засмѣялся. — Прощайте, заговорилъ онъ опять, послѣ небольшого молчанія. — Желаю вамъ окончить это дѣло самымъ пріятнымъ образомъ; а я издали порадуюсь.
Одинцова быстро повернулась къ нему.
— Развѣ вы уѣзжаете? Отчего же вамъ теперь не остаться? Останьтесь… съ вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь. Сперва робѣешь, а потомъ откуда смѣлость возьмется. Останьтесь.
— Спасибо за предложеніе, Анна Сергѣевна, и за лестное мнѣніе о моихъ разговорныхъ талантахъ. Но я нахожу, что я ужъ и такъ слишкомъ долго вращался въ чуждой для меня сферѣ. Летучія рыбы нѣкоторое время могутъ подержаться на воздухѣ, но вскорѣ должны шлепнуться въ воду; позвольте же и мнѣ плюхнуть въ мою стихію.
Одинцова посмотрѣла на Базарова. Горькая усмѣшка подергивала его блѣдное лицо. «Этотъ меня любилъ!» подумала она — и жалко ей стало его, и съ участіемъ протянула она ему руку.
Но и онъ ее понялъ.
— Нѣтъ! — сказалъ онъ, и отступилъ на шагъ назадъ. — Человѣкъ я бѣдный, но милостыни еще до сихъ поръ не принималъ. Прощайте-съ, и будьте здоровы.
— Я убѣждена, что мы не въ послѣдній разъ видимся, — произнесла Анна Сергѣевна съ невольнымъ движеніемъ.
— Чего на свѣтѣ не бываетъ! — отвѣтилъ Базаровъ, поклонился и вышелъ.
— Такъ ты задумалъ гнѣздо себѣ свить? — говорилъ онъ въ тотъ же день Аркадію, укладывая на корточкахъ свой чемоданъ. — Что жъ? дѣло хорошее. Только напрасно ты лукавилъ. Я ждалъ отъ тебя совсѣмъ другой дирекціи. Или, можетъ-быть, это тебя самого огорошило?
— Я, точно, этого не ожидалъ, когда разставался съ тобою, — отвѣтилъ Аркадій; — но зачѣмъ ты самъ лукавишь и говоришь: «дѣло хорошее», точно мнѣ неизвѣстно твое мнѣніе о бракѣ?
— Эхъ, другъ любезный, — проговорилъ Базаровъ: — какъ ты выражаешься! Видишь, что я дѣлаю: въ чемоданѣ оказалось пустое мѣсто, и я кладу туда сѣно; такъ и въ жизненномъ нашемъ чемоданѣ: чѣмъ бы его ни набили, лишь бы пустоты не было. Не обижайся, пожалуйста: ты вѣдь вѣроятно помнишь, какого я всегда былъ мнѣнія о Катеринѣ Сергѣевнѣ. Иная барышня только отъ того и слыветъ умною, что умно вздыхаетъ; а твоя за себя постоитъ, да и такъ постоитъ, что и тебя въ руки заберетъ, — ну, да это такъ и слѣдуетъ. — Онъ захлопнулъ крышку и приподнялся съ полу. — А теперь повторяю тебѣ на прощаньѣ… потому что обманываться нечего: — мы прощаемся навсегда, и ты самъ это чувствуешь… ты поступилъ умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не созданъ. Въ тебѣ нѣтъ ни дерзости, ни злости, а есть молодая смѣлость да молодой задоръ; для нашего дѣла это не годится. Вашъ братъ, дворянинъ, дальше благороднаго смиренія или благороднаго кипѣнія дойдти не можетъ, а это пустяки. Вы, напримѣръ, не деретесь — и ужъ воображаете себя молодцами, — а мы драться хотимъ. Да что! Наша пыль тебѣ глаза выѣстъ, наша грязь тебя замараетъ, да ты и не доросъ до насъ, ты невольно любуешься собою, тебѣ пріятно самого себя бранить; а намъ это скучно — намъ другихъ подавай! намъ другихъ ломать надо! Ты славный малый; но ты все таки мякенькій, либеральный баричъ, — э волату, какъ выражается мой родитель.
— Ты навсегда прощаешься со мною, Евгеній? — печально промолвилъ Аркадій: — и у тебя нѣтъ другихъ словъ для меня?
Базаровъ почесалъ у себя въ затылкѣ.
— Есть, Аркадій, есть у меня другія слова, только я ихъ не выскажу, потому что это романтизмъ, — это значитъ: разсыропиться. А ты поскорѣе женись; да своимъ гнѣздомъ обзаведись, да надѣлай дѣтей побольше. Умницы они будутъ уже потому, что во́ время они родятся, не то что мы съ тобой. Эге! я вижу лошади готовы. Пора! Со всѣми я простился… Ну что жъ? обняться, что ли?
Аркадій бросился на шею къ своему бывшему наставнику и другу, и слезы такъ и брызнули у него изъ глазъ.
— Что́ значитъ молодость! — произнесъ спокойно Базаровъ. — Да я на Катерину Сергѣевну надѣюсь. Посмотри, какъ живо она тебя утѣшитъ!
— Прощай, братъ! — сказалъ онъ Аркадію, уже взобравшись на телѣгу, и указавъ на пару галокъ, сидѣвшихъ рядышкомъ на крышѣ конюшни, прибавилъ: — Вотъ тебѣ! — изучай!
— Это что значитъ? — спросилъ Аркадій.
— Какъ? Развѣ ты такъ плохъ въ естественной исторіи или забылъ, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебѣ примѣръ!… Прощайте, синьоръ!
Телѣга задребезжала и покатилась.
Базаровъ сказалъ правду. Разговаривая вечеромъ съ Катей, Аркадій совершенно позабылъ о своемъ наставникѣ. Онъ уже начиналъ подчиняться ей, и Катя это чувствовала, и не удивлялась. Онъ долженъ былъ на слѣдующій день ѣхать въ Марьино, къ Николаю Петровичу. Анна Сергѣевна не хотѣла стѣснять молодыхъ людей, и только для приличія не оставляла ихъ слишкомъ долго наединѣ. Она великодушно удалила отъ нихъ княжну, которую извѣстіе о предстоявшемъ бракѣ привело въ слезливую ярость. Сначала Анна Сергѣевна боялась, какъ бы зрѣлище ихъ счастія не показалось ей самой немного тягостнымъ; но вышло совершенно напротивъ: это зрѣлище не только не отягощало ее, оно ее занимало, оно ее умилило наконецъ. Анна Сергѣевна этому и обрадовалась, и опечалилась. «Видно правъ Базаровъ» подумала она, «любопытство, одно любопытство, и любовь къ покою, и эгоизмъ…»
— Дѣти, — промолвила она громко: — что́, любовь чувство напускное?
Но ни Катя, ни Аркадій ея даже не поняли. Они ея дичились; невольно подслушанный разговоръ не выходилъ у нихъ изъ головы. Впрочемъ Анна Сергѣевна скоро успокоила ихъ; и это было ей нетрудно: она успокоилась сама.
ХХѴІІ.
Старики Базаровы тѣмъ больше обрадовались внезапному пріѣзду сына, чѣмъ меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и взбѣгалась по дому, что Василій Ивановичъ сравнилъ ее съ «куропатицей»: куцый хвостикъ ея коротенькой кофточки дѣйствительно придавалъ ей нѣчто птичье. А самъ онъ только мычалъ да покусывалъ сбоку янтарчикъ своего чубука, да прихвативъ шею пальцами, вертѣлъ головою, точно пробовалъ, хорошо ли она у него привинчена, и вдругъ разѣвалъ широкій ротъ и хохоталъ безо всякаго шума.
— Я къ тебѣ на цѣлыхъ шесть недѣль пріѣхалъ, старина, — сказалъ ему Базаровъ: — я работать хочу, такъ ты ужъ, пожалуйста, не мѣшай мнѣ.
— Физіономію мою забудешь, вотъ какъ я тебѣ мѣшать буду! — отвѣчалъ Василій Ивановичъ.
Онъ сдержалъ свое обѣщаніе. Помѣстивъ сына попрежнему въ кабинетъ, онъ только-что не прятался отъ него, и жену свою удерживалъ отъ всякихъ лишнихъ изъявленій нѣжности. «Мы, матушка моя», говорилъ онъ ей, — «въ первый пріѣздъ Енюшки ему надоѣдали маленько: теперь надо быть умнѣй». Арина Власьевна соглашалась съ мужемъ, но немного отъ этого выигрывала, потому что видѣла сына только за столомъ и окончательно боялась съ нимъ заговаривать. «Енюшенька!» бывало скажетъ она, — а тотъ еще не успѣетъ оглянуться, какъ ужъ она перебираетъ шнурками ридикюля и лепечетъ: «ничего, ничего, я такъ», а потомъ отправится къ Василію Ивановичу, и говоритъ ему, подперши щеку: «какъ бы, голубчикъ, узнать: чего Енюша желаетъ сегодня къ обѣду, щей или борщу?» — «Да что жъ ты у него сама не спросила?» — «А надоѣмъ!» Впрочемъ, Базаровъ скоро самъ пересталъ запираться: лихорадка работы съ него соскочила, и замѣнилась тоскливою скукой и глухимъ безпокойствомъ. Странная усталость замѣчалась во всѣхъ его движеніяхъ; даже походка его, твердая и стремительно смѣлая, измѣнилась. Онъ пересталъ гулять въ одиночку и началъ искать общества; пилъ чай въ гостиной, бродилъ по огороду съ Василіемъ Ивановичемъ и курилъ съ нимъ «въ молчанку»; освѣдомился однажды объ отцѣ Алексѣѣ. Василій Ивановичъ сперва обрадовался этой перемѣнѣ, но радость его была непродолжительна. «Енюша меня сокрушаетъ», жаловался онъ втихомолку женѣ; «онъ не то что недоволенъ или сердитъ, это бы еще ничего; онъ огорченъ, онъ грустенъ — вотъ что ужасно. Все молчитъ, хоть бы побранилъ насъ съ тобою; худѣетъ, цвѣтъ лица такой нехорошій». — «Господи, Господи!» шептала старушка: «надѣла бы я ему ладонку на шею, да вѣдь онъ не позволитъ». Василій Ивановичъ нѣсколько разъ пытался самымъ осторожнымъ образомъ разспросить Базарова объ его работѣ, объ его здоровьѣ, объ Аркадіѣ… Но Базаровъ отвѣчалъ ему нехотя и небрежно и, однажды, замѣтивъ что отецъ въ разговорѣ понемножку подо что-то подбирается, съ досадой сказалъ ему: «Что ты все около меня словно на цыпочкахъ ходишь? Эта манера еще хуже прежней». — «Ну, ну, ну, я ничего!» поспѣшно отвѣчалъ бѣдный Василій Ивановичъ. Также безплодны остались его политическіе намеки. Заговоривъ, однажды, по поводу близкаго освобожденія крестьянъ, о прогрессѣ, онъ надѣялся возбудить сочувствіе своего сына; но тотъ равнодушно промолвилъ: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здѣшніе крестьянскіе мальчики, вмѣсто какой-нибудь старой пѣсни, горланятъ: Время вѣрное приходитъ, сердце чувствуитъ любовь… вотъ тебѣ и прогрессъ».
Иногда Базаровъ отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновенію, вступалъ въ бесѣду съ какимъ-нибудь мужикомъ. «Ну», говорилъ онъ ему, «излагай мнѣ свои воззрѣнія на жизнь, братецъ: вѣдь въ васъ, говорятъ, вся сила и будущность Россіи, отъ васъ начнется новая эпоха въ исторіи, — вы намъ дадите и языкъ настоящій, и законы». Мужикъ либо не отвѣчалъ ничего, либо произносилъ слова въ родѣ слѣдующихъ: «А мы могимъ… тоже, потому значитъ… какой положенъ у насъ, примѣрно, придѣлъ». — «Ты мнѣ растолкуй, что̀ такое есть вашъ міръ?» перебивалъ его Базаровъ: «и тотъ ли это самый міръ, что̀ на трехъ рыбахъ стоитъ?»
— Это, батюшка, земля стоитъ на трехъ рыбахъ, — успокоительно, съ патріархально-добродушною пѣвучестью объяснялъ мужикъ, — а противъ нашего, то-есть, міру, извѣстно, господская воля; потому вы наши отцы. А чѣмъ строже баринъ взыщетъ, тѣмъ милѣе мужику.
Выслушавъ подобную рѣчь, Базаровъ однажды презрительно пожалъ плечами и отвернулся, а мужикъ побрелъ во свояси.
— О чемъ толковалъ? — спросилъ у него другой мужикъ среднихъ лѣтъ и угрюмаго вида, издали, съ порога своей избы, присутствовавшій при бесѣдѣ его съ Базаровымъ. — О недоимкѣ, что-ль?
— Какое о недоимкѣ, братецъ ты мой! — отвѣчалъ первый мужикъ, и въ голосѣ его уже не было слѣда патріархальной пѣвучести, а напротивъ, слышалась какая-то небрежная суровость: — такъ, болталъ коё-что; языкъ почесать захотѣлось. Извѣстно, баринъ; развѣ онъ что̀ понимаетъ?
— Гдѣ понять! — отвѣчалъ другой мужикъ и, тряхнувъ шапками и осунувъ кушаки, оба они принялись разсуждать о своихъ дѣлахъ и нуждахъ. Увы! презрительно пожимавшій плечомъ, умѣвшій говорить съ мужиками Базаровъ (какъ хвалился онъ въ спорѣ съ Павломъ Петровичемъ), этотъ самоувѣренный Базаровъ и не подозрѣвалъ, что онъ въ ихъ глазахъ былъ все-таки чѣмъ-то въ родѣ шута гороховаго…
Впрочемъ, онъ нашелъ, наконецъ, себѣ занятіе. Однажды, въ его присутствіи, Василій Ивановичъ перевязывалъ мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и онъ не могъ справиться съ бинтами; сынъ ему помогъ, и съ тѣхъ поръ сталъ участвовать въ его практикѣ, не переставая въ то же время подсмѣиваться и надъ средствами, которыя самъ же совѣтовалъ, и надъ отцомъ, который тотчасъ же пускалъ ихъ въ ходъ. Но насмѣшки Базарова нисколько не смущали Василія Ивановича; онѣ даже утѣшали его. Придерживая свой засаленный шлафрокъ двумя пальцами на желудкѣ и покуривая трубочку, онъ съ наслажденіемъ слушалъ Базарова, и чѣмъ больше злости было въ его выходкахъ, тѣмъ добродушнѣе хохоталъ, выказывая всѣ свои черные зубы до единаго, его осчастливленный отецъ. Онъ даже повторялъ эти, иногда тупыя или безсмысленныя выходки, и напримѣръ, въ теченіи нѣсколькихъ дней, ни къ-селу, ни къ-городу, все твердилъ: «ну, это дѣло девятое!» потому только, что сынъ его, узнавъ, что онъ ходилъ къ заутрени, употребилъ это выраженіе. «Слава Богу! пересталъ хандрить!» шепталъ онъ своей супругѣ: «какъ отдѣлалъ меня сегодня, чудо!» За то мысль, что онъ имѣетъ такого помощника, приводила его въ восторгъ, наполняла его гордостью. «Да, да», говорилъ онъ какой-нибудь бабѣ въ мужскомъ армякѣ и рогатой кичкѣ, вручая ей стклянку Гулярдовой воды или банку бѣленной мази, «ты, голубушка, должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сынъ мой у меня гоститъ: по самой научной и новѣйшей методѣ тебя лѣчатъ теперь, понимаешь ли ты это? Императоръ французовъ, Наполеонъ, и тотъ не имѣетъ лучшаго врача». А баба, которая приходила жаловаться, что ее «на колотики подняло» (значенія этихъ словъ она, впрочемъ, сама растолковать не умѣла), только кланялась и лѣзла за пазуху, гдѣ у ней лежали четыре яйца, завернутыя въ конецъ полотенца.
Базаровъ разъ даже вырвалъ зубъ у заѣзжаго разнощика съ краснымъ товаромъ, и хотя этотъ зубъ принадлежалъ къ числу обыкновенныхъ, однако Василій Ивановичъ сохранилъ его какъ рѣдкость и, показывая его отцу Алексѣю, безпрестанно повторялъ:
— Вы посмотрите, что̀ за корни! Этакая сила у Евгенія! Краснорядецъ такъ на воздухъ и поднялся… Мнѣ кажется, дубъ и тотъ бы вылетѣлъ вонъ!…
— Похвально! — промолвилъ наконецъ отецъ Алексѣй, не зная что отвѣчать и какъ отдѣлаться отъ пришедшаго въ экстазъ старика.
Однажды мужичокъ сосѣдней деревни привезъ къ Василію Ивановичу своего брата, больного тифомъ. Лежа ничкомъ на связкѣ соломы, несчастный умиралъ; темныя пятна покрывали его тѣло, онъ давно потерялъ сознаніе. Василій Ивановичъ изъявилъ сожалѣніе о томъ, что никто раньше не вздумалъ обратиться къ помощи медицины, и объявилъ, что спасенія нѣтъ. Дѣйствительно, мужичокъ не довезъ своего брата до дома: онъ такъ и умеръ въ телѣгѣ.
Дня три спустя, Базаровъ вошелъ къ отцу въ комнату, и спросилъ, нѣтъ ли у него адскаго камня?
— Есть; на что̀ тебѣ?
— Нужно… ранку прижечь.
— Кому?
— Себѣ.
— Какъ, себѣ! Зачѣмъ же это? Какая это ранка? Гдѣ она?
— Вотъ тутъ на пальцѣ. Я сегодня ѣздилъ въ деревню, знаешь, откуда тифознаго мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно въ этомъ не упражнялся.
— Ну?
— Ну, вотъ я и попросилъ уѣзднаго врача; ну, и порѣзался.
Василій Ивановичъ вдругъ поблѣднѣлъ весь и, ни слова не говоря, бросился въ кабинетъ, откуда тотчасъ же вернулся съ кусочкомъ адскаго камня въ рукѣ. Базаровъ хотѣлъ было взять его и уйдти.
— Ради Самого Бога, — промолвилъ Василій Ивановичъ: — позволь мнѣ это сдѣлать самому.
Базаровъ усмѣхнулся.
— Экой ты охотникъ до практики!
— Не шути, пожалуйста. Покажи свои палецъ. Ранка-то не велика. Не больно?
— Напирай сильнѣе, не бойся.
Василій Ивановичъ остановился.
— Какъ ты полагаешь, Евгеній, не лучше ли намъ прижечь желѣзомъ!
— Это бы раньше надо сдѣлать; а теперь, по настоящему, и адскій камень ненуженъ. Если я заразился, такъ ужъ теперь поздно.
— Какъ… поздно… — едва могъ произнести Василій Ивановичъ.
— Еще бы! съ тѣхъ поръ четыре часа прошло слишкомъ.
Василій Ивановичъ еще немного прижегъ ранку.
— Да развѣ у уѣзднаго лѣкаря не было адскаго камня?
— Не было.
— Какъ же это, Боже мой! Врачъ — и не имѣетъ такой необходимой вещи!
— Ты бы посмотрѣлъ на его ланцеты, — промолвилъ Базаровъ, и вышелъ вонъ.
До самаго вечера и въ теченіе всего слѣдующаго дня Василій Ивановичъ придирался ко всѣмъ возможнымъ предлогамъ, чтобы входить въ комнату сына, и хотя онъ не только не упоминалъ объ его ранѣ, но даже старался говорить о самыхъ постороннихъ предметахъ, однако онъ такъ настойчиво заглядывалъ ему въ глаза и такъ тревожно наблюдалъ за нимъ, что Базаровъ потерялъ терпѣніе и погрозился уѣхать. Василій Ивановичъ далъ ему слово не безпокоиться, тѣмъ болѣе, что и Арина Власьевна, отъ которой онъ, разумѣется, все скрылъ, начинала приставать къ нему, зачѣмъ онъ не спитъ и что съ нимъ такое подѣялось? Цѣлыхъ два дня онъ крѣпился, хотя видъ сына, на котораго онъ все посматривалъ украдкой, ему очень не нравился… но на третій день за обѣдомъ не выдержалъ. Базаровъ сидѣлъ потупившись и не касался ни до одного блюда.
— Отчего ты не ѣшь, Евгеній? — спросилъ онъ, придавъ своему лицу самое беззаботное выраженіе. — Кушанье, кажется, хорошо сготовлено.
— Не хочется, такъ и не ѣмъ.
— У тебя аппетиту нѣту? А голова? — прибавилъ онъ робкимъ голосомъ: — болитъ?
— Болитъ. Отчего ей не болѣть?
Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась.
— Не разсердись, пожалуйста, Евгеній, — продолжалъ Василій Ивановичъ, — но не позволишь ли ты мнѣ пульсъ у тебя пощупать?
Базаровъ приподнялся.
— Я, и не щупая, скажу тебѣ, что у меня жаръ.
— И ознобъ былъ?
— Былъ и ознобъ. Пойду прилягу; а вы мнѣ пришлите липоваго чаю. Простудился должно-быть.
— То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлялъ, — промолвила Арина Власьевна.
— Простудился, — повторилъ Базаровъ и удалился.
Арина Власьевна занялась приготовленіемъ чаю изъ липоваго цвѣту, а Василій Ивановичъ вошелъ въ сосѣднюю комнату и молча схватилъ себя за волосы.
Базаровъ уже не вставалъ въ тотъ день, и всю ночь провелъ въ тяжелой, полузабывчивой дремотѣ. Часу въ первомъ утра, онъ съ усиліемъ раскрывъ глаза, увидѣлъ надъ собою при свѣтѣ лампадки блѣдное лицо отца, и велѣлъ ему уйдти; тотъ повиновался, но тотчасъ же вернулся на цыпочкахъ и, до половины заслонившись дверцами шкапа, неотвратимо глядѣлъ на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась и, чуть отворивъ дверь кабинета, то и дѣло подходила послушать «какъ дышитъ Енюша» и посмотрѣть на Василія Ивановича. Она могла видѣть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло нѣкоторое облегченіе. Утромъ Базаровъ попытался встать; голова у него закружилась, кровь пошла носомъ; онъ легъ опять. Василій Ивановичъ молча ему прислуживалъ; Арина Власьевна вошла къ нему и спросила его, какъ онъ себя чувствуетъ. Онъ отвѣчалъ: «лучше», и повернулся къ стѣнѣ. Василій Ивановичъ замахалъ на жену обѣими руками; она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вонъ. Все въ домѣ вдругъ словно потемнѣло; всѣ лица вытянулись, сдѣлалась странная тишина; со двора унесли на деревню какого-то горластаго пѣтуха, который долго не могъ понять, зачѣмъ съ нимъ такъ поступаютъ. Базаровъ продолжалъ лежать, уткнувшись въ стѣну. Василій Ивановичъ пытался обращаться къ нему съ разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старикъ замеръ въ своихъ креслахъ, только изрѣдка хрустя пальцами. Онъ отправлялся на нѣсколько мгновеній въ садъ, стоялъ тамъ какъ истуканъ, словно пораженный несказаннымъ изумленіемъ (выраженіе изумленія вообще не сходило у него съ лица) и возвращался снова къ сыну, стараясь избѣгать разспросовъ жены. Она наконецъ схватила его за руку, и судорожно, почти съ угрозой промолвила: «да что съ нимъ?» Тутъ онъ спохватился и принудилъ себя улыбнуться ей въ отвѣтъ; но, къ собственному ужасу, вмѣсто улыбки у него откуда-то взялся смѣхъ. За докторомъ онъ послалъ съ утра. Онъ почелъ нужнымъ предувѣдомить объ этомъ сына, чтобы тотъ какъ нибудь не разсердился.
Базаровъ вдругъ повернулся на диванѣ, пристально и тупо посмотрѣлъ на отца, и попросилъ напиться.
Василій Ивановичъ подалъ ему воды, и кстати пощупалъ его лобъ. Онъ такъ и пылалъ.
— Старина, — началъ Базаровъ сиплымъ и медленнымъ голосомъ, — дѣло мое дрянное. Я зараженъ, и черезъ нѣсколько дней ты меня хоронить будешь.
Василій Ивановичъ пошатнулся, словно кто но ногамъ его ударилъ.
— Евгеній! — пролепеталъ онъ: — что ты это!… Богъ съ тобою! Ты простудился…
— Полно, — не спѣша перебилъ его Базаровъ. — Врачу непозволительно такъ говорить. Всѣ признаки зараженія, ты самъ знаешь.
— Гдѣ же признаки… зараженія, Евгеній?… помилуй!
— А это что́? — промолвилъ Базаровъ, и приподнявъ рукавъ рубашки, показалъ отцу выступившія зловѣщія, красныя пятна.
Василій Ивановичъ дрогнулъ и похолодѣлъ отъ страха.
— Положимъ, — сказалъ онъ наконецъ, — положимъ… если… если даже что-нибудь въ родѣ… зараженія…
— Піэміи, — подсказалъ сынъ.
— Ну да… въ родѣ… эпидеміи…
— Піэміи, — сурово и отчетливо повторилъ Базаровъ: — аль ужъ позабылъ свои тетрадки?
— Ну да, да, какъ тебѣ угодно… А все-таки мы тебя вылѣчимъ!
— Ну, это дудки. Но не въ томъ дѣло. Я не ожидалъ что такъ скоро умру; это случайность, очень, по правдѣ сказать, непріятная. Вы оба съ матерью должны теперь воспользоваться тѣмъ, что въ васъ религія сильна; вотъ вамъ случай поставить ее на пробу. — Онъ отпилъ еще немного воды: — А я хочу попросить тебя объ одной вещи… пока еще моя голова въ моей власти. Завтра или послѣ завтра мозгъ мой, ты знаешь, въ отставку подастъ. Я и теперь не совсѣмъ увѣренъ, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежалъ, мнѣ все казалось, что вокругъ меня красныя собаки бѣгали, а ты надо мной стойку дѣлалъ, какъ надъ тетеревомъ. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?
— Помилуй, Евгеній, ты говоришь совершенно какъ слѣдуетъ.
— Тѣмъ лучше; ты мнѣ сказалъ, ты послалъ за докторомъ… Этимъ ты себя потѣшилъ… потѣшь и меня: пошли ты нарочнаго…
— Къ Аркадію Николаичу, — подхватилъ старикъ.
— Кто такой Аркадій Николаичъ? — проговорилъ Базаровъ, какъ бы въ раздумьѣ… — Ахъ, да! птенецъ этотъ! Нѣтъ, ты его не трогай: онъ теперь въ галки попалъ. Не удивляйся, это еще не бредъ. А ты пошли нарочнаго къ Одинцовой, Аннѣ Сергѣевнѣ, тутъ есть такая помѣщица… Знаешь? (Василій Ивановичъ кивнулъ головой.) Евгеній, молъ, Базаровъ, кланяться велѣлъ и велѣлъ сказать, что умираетъ. Ты это исполнишь?
— Исполню… Только возможное ли это дѣло, чтобы ты умеръ, ты, Евгеній… Самъ посуди! Гдѣ жъ послѣ этого будетъ справедливость?
— Этого я не знаю; а только ты нарочнаго пошли.
— Сію минуту пошлю, и самъ письмо напишу.
— Нѣтъ, зачѣмъ; скажи, что кланяться велѣлъ, больше ничего не нужно. А теперь я опять къ моимъ собакамъ. Странно! хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходитъ. Вижу какое-то пятно… и больше ничего.
Онъ опять тяжело повернулся къ стѣнѣ; а Василій Ивановичъ вышелъ изъ кабинета и, добравшись до жениной спальни, такъ и рухнулся на колѣни передъ образами.
— Молись, Арина, молись! — простоналъ онъ: — нашъ сынъ умираетъ.
Докторъ, тотъ самый уѣздный лѣкарь, у котораго не нашлось адскаго камня, пріѣхалъ и, осмотрѣвъ больного, посовѣтовалъ держаться методы выжидающей, и тутъ же сказалъ нѣсколько словъ о возможности выздоровленія.
— А вамъ случалось видѣть, что люди въ моемъ положеніи не отправляются въ Елисейскія? — спросилъ Базаровъ и, внезапно схватилъ за ножку тяжелый столъ, стоявшій возлѣ дивана, потрясъ его и сдвинулъ съ мѣста.
— Сила-то, сила, промолвилъ онъ, вся еще тутъ, а надо умирать!… Старикъ, тотъ по крайней мѣрѣ успѣлъ отвыкнуть отъ жизни, а я… Да, поди, попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицаетъ, и баста! Кто тамъ плачетъ? — прибавилъ онъ, погодя немного. — Мать? Бѣдная! Кого-то она будетъ кормить теперь своимъ удивительнымъ борщемъ? А ты, Василій Иванычъ, тоже кажется, нюнишь? Ну, коли христіанство не помогаетъ, будь философомъ, стоикомъ, что-ли! Вѣдь ты хвастался, что ты философъ?
— Какой я философъ! — завопилъ Василій Ивановичъ, и слезы такъ и закапали по его щекамъ.
Базарову становилось хуже съ каждымъ часомъ; болѣзнь приняла быстрый ходъ, что обыкновенно случается при хирургическихъ отравахъ. Онъ еще не потерялъ памяти и понималъ, что ему говорили; онъ еще боролся. «Не хочу бредить», шепталъ онъ, сжимая кулаки, — «что за вздоръ!» И тутъ же говорилъ: «Ну, изъ восьми вычесть десять, сколько выйдетъ?» — Василій Ивановичъ ходилъ, какъ помѣшанный, предлагалъ то одно средство, то другое, и только и дѣлалъ что покрывалъ сыну ноги. «Обернуть въ холодныя простыни… рвотное — горчишники къ желудку — кровопусканіе», говорилъ онъ съ напряженіемъ. Докторъ, котораго онъ умолилъ остаться, ему поддакивалъ, поилъ больного лимонадомъ, а для себя просилъ то трубочки, то «укрѣпляющаго-согрѣвающаго», то-есть водки. Арина Власьевна сидѣла на низенькой скамеечкѣ возлѣ двери, и только по временамъ уходила молиться; нѣсколько дней тому назадъ туалетное зеркальце выскользнуло у ней изъ рукъ и разбилось, а это она всегда считала худымъ предзнаменованіемъ; сама Анфисушка ничего не умѣла сказать ей. Тимоѳеичъ отправился къ Одинцовой.
Ночь была нехороша для Базарова… Жестокій жаръ его мучилъ. Къ утру ему полегчило. Онъ попросилъ, чтобъ Арина Власьевна его причесала, поцѣловалъ у ней руку, и выпилъ глотка два чаю. Василій Ивановичъ оживился немного.
— Слава Богу! — твердилъ онъ; — наступилъ кризисъ… пришелъ кризисъ.
— Эка, подумаешь! — промолвилъ Базаровъ: — слово-то что̀ значитъ! Нашелъ его, сказалъ: «кризисъ», и утѣшенъ. Удивительное дѣло, какъ человѣкъ еще вѣритъ въ слова. Скажутъ ему, напримѣръ, дурака и не прибьютъ, онъ опечалится; назовутъ его умницей и денегъ ему не дадутъ — онъ почувствуетъ удовольствіе.
Эта маленькая рѣчь Базарова, напоминавшая его прежнія «выходки», привела Василія Ивановича въ умиленіе.
— Браво! прекрасно сказано, прекрасно! — воскликнулъ онъ, показывая видъ, что бьетъ въ ладоши.
Базаровъ печально усмѣхнулся.
— Такъ какъ же по твоему, — промолвилъ онъ, — кризисъ прошелъ или наступилъ?
— Тебѣ лучше, вотъ что́ я вижу, вотъ что̀ меня радуетъ, — отвѣчалъ Василій Ивановичъ.
— Ну, и прекрасно; радоваться всегда не худо. А къ той, помнишь? послалъ?
— Послалъ, какъ же.
Перемѣна къ лучшему продолжалась недолго. Приступы болѣзни возобновились. Василій Ивановичъ сидѣлъ подлѣ Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Онъ нѣсколько разъ собирался говорить — и не могъ.
— Евгеній! — произнесъ онъ наконецъ: — сынъ мой, дорогой мой, милый сынъ!
Это необычайное воззваніе подѣйствовало на Базарова… Онъ повернулъ немного голову и, видимо стараясь выбиться изъ-подъ бремени давившаго его забытья, произнесъ:
— Что̀, мой отецъ?
— Евгеній, — продолжалъ Василій Ивановичъ, и опустился на колѣни передъ Базаровымъ, хотя тотъ не раскрывалъ глазъ и не могъ его видѣть. — Евгеній, тебѣ теперь лучше; ты, Богъ дастъ, выздоровѣешь; но воспользуйся этимъ временемъ, утѣшь насъ съ матерью, исполни долгъ христіанина! Каково-то мнѣ это тебѣ говорить, это ужасно; но еще ужаснѣе… вѣдь на вѣкъ, Евгеній… ты подумай, каково-то…
Голосъ старика перервался, а по лицу его сына, хотя онъ и продолжалъ лежать съ закрытыми глазами, проползло что-то странное.
— Я не отказываюсь, если это можетъ васъ утѣшить, — промолвилъ онъ наконецъ, — но мнѣ кажется, спѣшить еще не къ чему. Ты самъ говоришь, что мнѣ лучше.
— Лучше, Евгеній, лучше; но кто знаетъ, вѣдь это все въ Божьей волѣ, а исполнивши долгъ…
— Нѣтъ, я подожду, — перебилъ Базаровъ. — Я согласенъ съ тобою, что наступилъ кризисъ. А если мы съ тобой ошиблись, что̀ жъ! вѣдь и безпамятныхъ причащаютъ.
— Помилуй, Евгеній…
— Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мѣшай мнѣ.
И онъ положилъ голову на прежнее мѣсто.
Старикъ поднялся, сѣлъ на кресло и, взявшись за подбородокъ, сталъ кусать себѣ пальцы…
Стукъ рессорнаго экипажа, тотъ стукъ, который такъ особенно замѣтенъ въ деревенской глуши, внезапно поразилъ его слухъ. Ближе, ближе катились легкія колеса; вотъ уже послышалось фырканье лошадей… Василій Ивановичъ вскочилъ и бросился къ окошку. На дворъ его домика, запряженная четверней, въѣзжала двумѣстная карета. Не отдавая себѣ отчета, что̀ бы это могло значить, въ порывѣ какой-то безсмысленной радости, онъ выбѣжалъ на крыльцо… Ливрейный лакей отворялъ дверцы кареты; дама подъ чернымъ вуалемъ, въ черной мантильѣ, выходила изъ нея…
— Я Одинцова, — промолвила она. — Евгеній Васильичъ живъ? Вы его отецъ? Я привезла съ собой доктора.
— Благодѣтельница! — воскликнулъ Василій Ивановичъ, и схвативъ ея руку судорожно прижалъ ее къ своимъ губамъ, между тѣмъ какъ привезенный Анной Сергѣевной докторъ, маленькій человѣкъ въ очкахъ, съ нѣмецкою физіономіей, вылѣзалъ не торопясь изъ кареты. — Живъ еще, живъ мой Евгеній, и теперь будетъ спасенъ! Жена! жена!… Къ намъ ангелъ съ неба…
— Что̀ такое, Господи! — пролепетала, выбѣгая изъ гостиной старушка, и ничего не понимая, тутъ же въ передней упала къ ногамъ Анны Сергѣевны и начала, какъ безумная, цѣловать ея платье.
— Что́ вы! что́ вы! — твердила Анна Сергѣевна; но Арина Власьевна ея не слушала, а Василій Ивановичъ только повторялъ: «ангелъ! ангелъ!»
— Wo ist der Kranke? И гдѣ же есть паціентъ? — проговорилъ, наконецъ, докторъ, не безъ нѣкотораго негодованія.
Василій Ивановичъ опомнился.
— Здѣсь, здѣсь, пожалуйте за мной, вертестеръ герръ коллега, — прибавилъ онъ по старой памяти.
— Э! — произнесъ нѣмецъ, и кисло осклабился.
Василій Ивановичъ привелъ его въ кабинетъ.
— Докторъ отъ Анны Сергѣевны Одинцовой, — сказалъ онъ, наклоняясь къ самому уху своего сына, — и она сама здѣсь.
Базаровъ вдругъ раскрылъ глаза.
— Что́ ты сказалъ?
— Я говорю, что Анна Сергѣевна Одинцова здѣсь, и привезла къ тебѣ сего господина доктора.
Базаровъ повелъ вокругъ себя глазами.
— Она здѣсь… я хочу ее видѣть.
— Ты ее увидишь, Евгеній; но сперва надобно побесѣдовать съ господиномъ докторомъ. Я имъ разскажу всю исторію болѣзни, такъ какъ Сидоръ Сидорычъ уѣхалъ (такъ звали уѣзднаго врача), и мы сдѣлаемъ маленькую консультацію.
Базаровъ взглянулъ на нѣмца.
— Ну, бесѣдуйте скорѣе, только не по латыни; я вѣдь понимаю, что значитъ: jam moritur.
— Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein, — началъ новый питомецъ Эскулапа, обращаясь къ Василію Ивановичу.
— Ихъ… габе… Говорите ужъ лучше по-русски, — промолвилъ старикъ.
— А, а! такъ этто фотъ какъ этто… Пошалуй… — И консультація началась.
Полчаса спустя Анна Сергѣевна, въ сопровожденіи Василія Ивановича, вошла въ кабинетъ. Докторъ успѣлъ шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровленіи больного.
Она взглянула на Базарова… и остановилась у двери, до того поразило ее это воспаленное и въ то же время мертвенное лицо съ устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась какимъ-то холоднымъ и томительнымъ испугомъ; мысль, что она не то бы почувствовала, если-бы точно его любила — мгновенно сверкнула у ней въ головѣ.
— Спасибо, — усиленно заговорилъ онъ, — я этого не ожидалъ. Это доброе дѣло. Вотъ мы еще разъ и увидѣлись, какъ вы обѣщали.
— Анна Сергѣевна такъ была добра, — началъ Василій Ивановичъ…
— Отецъ, оставь насъ. — Анна Сергѣевна, вы позволяете? Кажется, теперь…
Онъ указалъ головою на свое распростертое безсильное тѣло.
Василій Ивановичъ вышелъ.
— Ну, спасибо, — повторилъ Базаровъ. — Это по-царски. Говорятъ, цари тоже посѣщаютъ умирающихъ.
— Евгеній Васильичъ, я надѣюсь…
— Эхъ, Анна Сергѣевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попалъ подъ колесо. И выходитъ, что нечего было думать о будущемъ. Старая шутка смерть, а каждому вновѣ. До сихъ поръ не трушу… а тамъ придетъ безпамятство, и фюить! (Онъ слабо махнулъ рукой.) Ну, что́жъ мнѣ вамъ сказать… я любилъ васъ! это и прежде не имѣло никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что — какая вы славная! И теперь вотъ вы стоите, такая красивая…
Анна Сергѣевна невольно содрогнулась.
— Ничего, не тревожьтесь… сядьте тамъ… Не подходите ко мнѣ: вѣдь моя болѣзнь заразительная.
Анна Сергѣевна быстро перешла комнату и сѣла на кресло возлѣ дивана, на которомъ лежалъ Базаровъ.
— Великодушная! — шепнулъ онъ. — Охъ, какъ близко, и какая молодая, свѣжая, чистая… въ этой гадкой комнатѣ!… Ну, прощайте! Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что́ за безобразное зрѣлище: червякъ полураздавленный, а еще топорщится. И вѣдь тоже думалъ: обломаю дѣлъ много, не умру, куда! задача есть, вѣдь я гигантъ! А теперь вся задача гиганта — какъ бы умереть прилично, хотя никому до этого дѣла нѣтъ… Все равно: вилять хвостомъ не стану.
Базаровъ умолкъ и сталъ ощупывать рукой свой стаканъ. Анна Сергѣевна подала ему напиться, не снимая перчатокъ и боязливо дыша.
— Меня вы забудете, — началъ онъ опять, — мертвый живому не товарищъ. Отецъ вамъ будетъ говорить, что вотъ, молъ, какого человѣка Россія теряетъ… Это чепуха; но не разувѣряйте старика. Чѣмъ бы дитя не тѣшилось… вы знаете. И мать приласкайте. Вѣдь такихъ людей, какъ они, въ вашемъ большомъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыскать… Я нуженъ Россіи… Нѣтъ, видно не нуженъ. Да и кто нуженъ? Сапожникъ нуженъ, портной нуженъ, мясникъ… мясо продаетъ… мясникъ… постойте, я путаюсь… Тутъ есть лѣсъ…
Базаровъ положилъ руку на лобъ.
Анна Сергѣевна наклонилась къ нему.
— Евгеній Васильичъ, я здѣсь…
Онъ разомъ принялъ руку и приподнялся.
— Прощайте, — проговорилъ онъ съ внезапной силой, и глаза его блеснули послѣднимъ блескомъ. — Прощайте… Послушайте… вѣдь я васъ не поцѣловалъ тогда… Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснетъ…
Анна Сергѣевна приложилась губами къ его лбу.
— И довольно! — промолвилъ онъ, и опустился на подушку. — Теперь… темнота…
Анна Сергѣевна тихо вышла.
— Что? — спросилъ ее шопотомъ Василій Ивановичъ.
— Онъ заснулъ, отвѣчала она чуть слышно.
Базарову уже не суждено было просыпаться. Къ вечеру онъ впалъ въ совершенное безпамятство, а на слѣдующій день умеръ. Отецъ Алексѣй совершилъ надъ нимъ обряды религіи. Когда его соборовали, когда святое мѵро коснулось его груди, одинъ глазъ его раскрылся и, казалось, при видѣ священника въ облаченіи, дымящагося кадила, свѣчъ передъ образомъ, что-то похожее на содроганіе ужаса мгновенно отразилось на помертвѣломъ лицѣ. Когда же наконецъ онъ испустилъ послѣдній вздохъ и въ домѣ поднялось всеобщее стенаніе, Василіемъ Ивановичемъ обуяло внезапное изступленіе. «Я говорилъ, что я возропщу», хрипло кричалъ онъ, съ пылающимъ, перекошеннымъ лицомъ, потрясая въ воздухѣ кулакомъ, какъ бы грозя кому-то: «и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся въ слезахъ, повисла у него на шеѣ, и оба вмѣстѣ пали ницъ. — «Такъ», разсказывала потомъ въ людской Анфисушка, «рядышкомъ и понурили свои головки, словно овечки въ полдень…»
Но полуденный зной проходитъ, и настаетъ вечеръ и ночь, а тамъ и возвращеніе въ тихое убѣжище, гдѣ сладко спится измученнымъ и усталымъ…
ХХѴІІІ.
Прошло шесть мѣсяцевъ. Стояла бѣлая зима съ жестокою тишиной безоблачныхъ морозовъ, плотнымъ, скрипучимъ снѣгомъ, розовымъ инеемъ на деревьяхъ, блѣдно-изумруднымъ небомъ, шапками дыма надъ трубами, клубами пара изъ мгновенно раскрытыхъ дверей, свѣжими, словно укушенными лицами людей, и хлопотливымъ бѣгомъ продрогшихъ лошадокъ. Январскій день уже приближался къ концу; вечерній холодъ еще сильнѣе стискивалъ недвижимый воздухъ, и быстро гасла кровавая заря. Въ окнахъ Марьинскаго дома зажигались огни; Прокофьичъ, въ черномъ фракѣ и бѣлыхъ перчаткахъ, съ особенною торжественностію накрывалъ столъ на семь приборовъ. Недѣлю тому назадъ, въ небольшой приходской церкви, тихо и почти безъ свидѣтелей состоялись двѣ свадьбы: Аркадія съ Катей и Николая Петровича съ Ѳеничкой; а въ самый тотъ день Николай Петровичъ давалъ прощальный обѣдъ своему брату, который отправлялся по дѣламъ въ Москву. Анна Сергѣевна уѣхала туда же тотчасъ послѣ свадьбы, щедро надѣливъ молодыхъ.
Ровно въ три часа всѣ собрались къ столу. Митю помѣстили тутъ же; у него уже появилась нянюшка въ глазетовомъ кокошникѣ. Павелъ Петровичъ возсѣдалъ между Катей и Ѳеничкой: «мужья» пристроились возлѣ своихъ женъ. Знакомцы наши измѣнились въ послѣднее время: всѣ какъ будто похорошѣли и возмужали; одинъ Павелъ Петровичъ похудѣлъ, что̀, впрочемъ, придавало еще больше изящества и грансеньорства его выразительнымъ чертамъ… Да и Ѳеничка стала другая. Въ свѣжемъ шелковомъ платьѣ, съ широкою бархатною наколкой на волосахъ, съ золотою цѣпочкой на шеѣ, она сидѣла почтительно-неподвижно, почтительно къ самой себѣ, ко всему, что́ ее окружало, и такъ улыбалась, какъ будто хотѣла сказать: «вы меня извините, я не виновата». И не она одна — другіе всѣ улыбались, и тоже какъ будто извинялись; всѣмъ было немножко неловко, немножко грустно, и въ сущности, очень хорошо. Каждый прислуживалъ другому съ забавною предупредительностію, точно всѣ согласились разыграть какую-то простодушную комедію. Катя была спокойнѣе всѣхъ: она довѣрчиво посматривала вокругъ себя, и можно было замѣтить, что Николай Петровичъ успѣлъ уже полюбить ее безъ памяти. Передъ концомъ обѣда онъ всталъ и, взявъ бокалъ въ руки, обратился къ Павлу Петровичу.
— Ты насъ покидаешь… ты насъ покидаешь, милый братъ, — началъ онъ: — конечно не надолго; но все же я не могу не выразить тебѣ, что я… что мы… сколь я… сколь мы… Вотъ въ томъ-то и бѣда, что мы не умѣемъ говорить спичи! Аркадій, скажи ты.
— Нѣтъ, папаша, я не приготовлялся.
— А я хорошо приготовился! Просто, братъ, позволь тебя обнять, пожелать тебѣ всего хорошаго, и вернись къ намъ поскорѣе!
Павелъ Петровичъ облобызался со всѣми, не исключая, разумѣется, Мити: у Ѳенички онъ сверхъ того поцѣловалъ руку, которую та еще не умѣла подавать какъ слѣдуетъ, и, выпивая вторично-налитый бокалъ, промолвилъ съ глубокимъ вздохомъ: «Будьте счастливы, друзья мои! Farewell!» — Этотъ англійскій хвостикъ прошелъ незамѣченнымъ; но всѣ были тронуты.
«Въ память Базарова», шепнула Катя на ухо своему мужу, и чокнулась съ нимъ. Аркадій въ отвѣтъ пожалъ ей крѣпко руку, но не рѣшился громко предложить этотъ тостъ.
Казалось бы, конецъ? Но, быть-можетъ, кто-нибудь изъ читателей пожелаетъ узнать, что дѣлаетъ теперь, именно теперь, каждое изъ выведенныхъ нами лицъ. Мы готовы удовлетворить его.
Анна Сергѣевна недавно вышла замужъ, не по любви, но по убѣжденію, за одного изъ будущихъ русскихъ дѣятелей, человѣка очень умнаго, законника, съ крѣпкимъ практическимъ смысломъ, твердою волей и замѣчательнымъ даромъ слова, — человѣка еще молодого, добраго и холоднаго какъ ледъ. Они живутъ въ большомъ ладу другъ съ другомъ, и доживутся, пожалуй, до счастья… пожалуй, до любви. Княжна К…ая умерла, забытая въ самый день смерти. Кирсановы, отецъ съ сыномъ, поселились въ Марьинѣ. Дѣла ихъ начинаютъ поправляться. Аркадій сдѣлался рьянымъ хозяиномъ, и «ферма» уже приноситъ довольно значительный доходъ. Николай Петровичъ попалъ въ мировые посредники и трудится изо всѣхъ силъ; онъ безпрестанно разъѣзжаетъ но своему участку; произноситъ длинныя рѣчи (онъ придерживается того мнѣнія, что мужичковъ надо «вразумлять», то-есть, частымъ повтореніемъ однихъ и тѣхъ же словъ доводить ихъ до истомы), и все-таки, говоря правду, не удовлетворяетъ вполнѣ ни дворянъ образованныхъ, говорящихъ то съ шикомъ, то съ меланхоліей, о манципаціи (произнося ан въ носъ), ни необразованныхъ дворянъ, безцеремонно бранящихъ «евту мунципацію». И для тѣхъ, и для другихъ онъ слишкомъ мягокъ. У Катерины Сергѣевны родился сынъ Коля, а Митя уже бѣгаетъ молодцомъ и болтаетъ рѣчисто. Ѳеничка, Ѳедосья Николаевна, послѣ мужа и Мити никого такъ не обожаетъ, какъ свою невѣстку, и когда та садится за фортепіано, рада цѣлый день не отходить отъ нея. Упомянемъ кстати о Петрѣ. Онъ совсѣмъ окоченѣлъ отъ глупости и важности, произноситъ всѣ е какъ ю: тюпюрь, обюзпючюнъ, но тоже женился и взялъ порядочное приданое за своею невѣстой, дочерью городского огородника, которая отказала двумъ хорошимъ женихамъ, только потому, что у нихъ часовъ не было: а у Петра не только были часы — у него были лаковые полусапожки.
Въ Дрезденѣ, на Брюлевской террасѣ, между двумя и четырьмя часами въ самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встрѣтить человѣка лѣтъ около пятидесяти, уже совсѣмъ сѣдого и какъ бы страдающаго подагрой, но еще красиваго, изящно одѣтаго и съ тѣмъ особеннымъ отпечаткомъ, который дается человѣку однимъ лишь долгимъ пребываніемъ въ высшихъ слояхъ общества. Это Павелъ Петровичъ. Онъ уѣхалъ изъ Москвы за границу для поправленія здоровья, и остался на жительство въ Дрезденѣ, гдѣ знается больше съ англичанами и съ проѣзжими русскими. Съ англичанами онъ держится просто, почти скромно, но не безъ достоинства; они находятъ его немного скучнымъ, но уважаютъ въ немъ совершеннаго джентльмена «a perfect gentleman». Съ русскими онъ развязнѣе, даетъ волю своей желчи, трунитъ надъ самимъ собой и надъ ними; но все это выходитъ у него очень мило, и небрежно, и прилично. Онъ придерживается славянофильскихъ воззрѣній: извѣстно, что въ высшемъ свѣтѣ это считается très distingué. Онъ ничего русскаго не читаетъ, но на письменномъ столѣ у него находится серебряная пепельница въ видѣ мужицкаго лаптя. Наши туристы очень за нимъ волочатся. Матвѣй Ильичъ Колязинъ, находящійся во временной оппозиціи, величаво посѣтилъ его, проѣзжая на богемскія воды; а туземцы, съ которыми онъ, впрочемъ, видится мало, чуть не благоговѣютъ передъ нимъ. Получить билетъ въ придворную капеллу, въ театръ и т. д. никто не можетъ такъ легко и скоро, какъ der Herr Baron von Kirsanoff. Онъ все дѣлаетъ добро, сколько можетъ: онъ все еще шумитъ понемножку: не даромъ же былъ онъ нѣкогда львомъ; — но жить ему тяжело… тяжелѣй, чѣмъ онъ самъ подозрѣваетъ… Сто̀итъ взглянуть на него въ русской церкви, когда, прислонясь въ сторонкѣ къ стѣнѣ, онъ задумывается и долго не шевелится, горько стиснувъ губы, потомъ вдругъ опомнится и начнетъ почти незамѣтно креститься…
И Кукшина попала за границу. Она теперь въ Гейдельбергѣ и изучаетъ уже не естественныя науки, но архитектуру, въ которой, по ея словамъ, она открыла новые законы. Она попрежнему якшается съ студентами, особенно съ молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполненъ Гейдельбергъ, и которые, удивляя на первыхъ порахъ наивныхъ нѣмецкихъ профессоровъ своимъ трезвымъ взглядомъ на вещи, впослѣдствіи удивляютъ тѣхъ же самыхъ профессоровъ своимъ совершеннымъ бездѣйствіемъ и абсолютною лѣнью. Съ такими-то двумя-тремя химиками, не умѣющими отличить кислорода отъ азота, но исполненными отрицанія и самоуваженія, да съ великимъ Елисѣвичемъ, Ситниковъ, тоже готовящійся быть великимъ, толчется въ Петербургѣ и, по его увѣреніямъ, продолжаетъ «дѣло» Базарова. Говорятъ, его кто-то недавно побилъ, но онъ въ долгу не остался: въ одной темной статейкѣ, тиснутой въ одномъ темномъ журнальцѣ, онъ намекнулъ, что побившій его — трусъ. Онъ называетъ это ироніей. Отецъ имъ помыкаетъ попрежнему, а жена считаетъ его дурачкомъ… и литераторомъ.
Есть небольшое сельское кладбище, въ одномъ изъ отдаленныхъ уголковъ Россіи. Какъ почти всѣ наши кладбища, оно являетъ видъ печальный: окружавшія его канавы давно заросли; сѣрые деревянные кресты поникли и гніютъ подъ своими когда-то крашенными крышами; каменныя плиты всѣ сдвинуты, словно кто ихъ подталкиваетъ снизу; два-три ощипанныхъ деревца едва даютъ скудную тѣнь; овцы безвозбранно бродятъ по могиламъ… Но между ними есть одна, до которой не касается человѣкъ, которую не топчетъ животное: однѣ птицы садятся на нее и поютъ на зарѣ. Желѣзная ограда ее окружаетъ; двѣ молодыя елки посажены по обоимъ ея концамъ: Евгеній Базаровъ похороненъ въ этой могилѣ. Къ ней, изъ недалекой деревушки, часто приходятъ два уже дряхлые старичка — мужъ съ женою. Поддерживая другъ друга, идутъ они отяжелѣвшею походкой; приблизятся къ оградѣ, припадутъ и станутъ на колѣни, и долго, и горько плачутъ, и долго, и внимательно смотрятъ на нѣмой камень, подъ которымъ лежитъ ихъ сынъ; помѣняются короткимъ словомъ, пыль смахнутъ съ камня, да вѣтку елки поправятъ, и снова молятся, и не могутъ покинуть это мѣсто, откуда имъ какъ будто ближе до ихъ сына, до воспоминаній о нёмъ… Неужели ихъ молитвы, ихъ слезы безплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О, нѣтъ! Какое бы страстное, грѣшное, бунтующее сердце ни скрылось въ могилѣ, цвѣты, растущіе на ней, безмятежно глядятъ на насъ своими невинными глазами: не объ одномъ вѣчномъ спокойствіи говорятъ намъ они, о томъ великомъ спокойствіи «равнодушной» природы; они говорятъ также о вѣчномъ примиреніи и о жизни безконечной…
☆☆☆
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.