Крейцерова соната
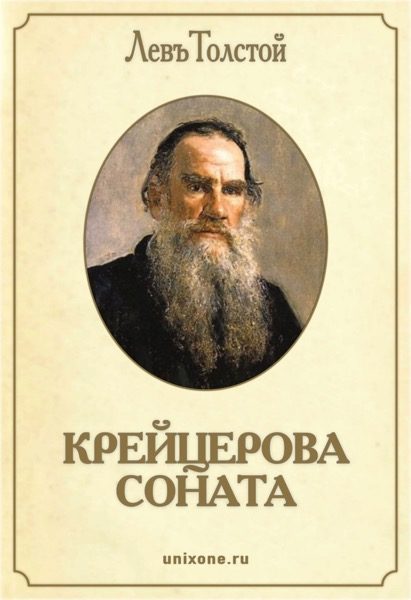
Содержаніе:
І.
Въ вагонъ входили и выходили ѣдущіе на короткія разстоянія, но трое ѣхало также какъ и я съ самаго мѣста отхода поѣзда: некрасивая и немолодая дама, курящая, съ измученнымъ лицомъ, въ полумужскомъ пальто и шапочкѣ, — ея знакомый, разговорчивый человѣкъ лѣтъ 40 съ аккуратными новыми вещами, — и еще держащійся особнякомъ, небольшого роста, чрезвычайно нервный, средняго возраста человѣкъ, съ замѣчательно притягивающими къ себѣ неопредѣленнаго цвѣта, блестящими глазами, быстро перебѣгавшими съ предмета на предметъ. Господинъ этотъ во все время путешествія не познакомился ни съ кѣмъ изъ пассажировъ, какъ бы старательно избѣгая этого. На заговариваніе сосѣдей онъ отвѣчалъ коротко и рѣзко и начиналъ упорно глядѣть въ окно. А между тѣмъ мнѣ казалось, что онъ тяготится одиночествомъ: онъ видѣлъ, что я понимаю это, и когда глаза наши встрѣчались, что случалось часто, такъ какъ мы сидѣли наискоскѣ другъ противъ друга, онъ отворачивался и все-таки избѣгалъ разговора со мной.
Во время остановки передъ вечеромъ на большой станціи господинъ съ хорошими вещами, адвокатъ, какъ я узналъ впослѣдствіи, съ своею сосѣдкою пошли пить чай на станцію. Во время отсутствія господина съ дамою, въ вагонъ вошло нѣсколько новыхъ лицъ и въ томъ числѣ высокій, бритый, морщинистый старикъ, очевидно купецъ, въ широкой шубѣ и высокомъ картузѣ. Купецъ сѣлъ противъ мѣста дамы съ адвокатомъ и тотчасъ вступилъ въ разговоръ съ молодымъ человѣкомъ, по виду купеческимъ прикащикомъ, вошедшимъ въ вагонъ тоже на этой станціи. Сначала прикащикъ сказалъ, что мѣсто напротивъ занято, на это старикъ отвѣтилъ, что онъ только на одну станцію. И съ этого у нихъ начался разговоръ.
Я сидѣлъ наискось, и такъ какъ поѣздъ стоялъ, могъ въ тѣ минуты, когда никто не говорилъ, слышать урывками ихъ разговоръ. Они говорили сначала о цѣнахъ, о торговлѣ. Назвали кого-то знакомаго обоимъ и заговорили о Нижегородской ярмаркѣ. Прикащикъ хотѣлъ похвастать чьими-то кутежами на ярмаркѣ, но старикъ не далъ ему ходу и, перебивая его, сталъ самъ разсказывать про былые кутежи въ Кунавинѣ и про свое участіе въ нихъ. Онъ видимо гордился своимъ участіемъ въ нихъ и, вѣроятно, полагая, что это нисколько не нарушаетъ того степенства, которое онъ изображаетъ своей фигурой и манерами, съ гордостью разсказывалъ, какъ они вмѣстѣ съ этимъ самымъ знакомымъ сдѣлали разъ пьяные въ Кунавинѣ такую штуку, что ее надо было разсказывать шепотомъ и что прикащикъ захохоталъ на весь вагонъ, а старикъ тоже засмѣялся, оскаливъ два желтые зуба. Разговоръ мнѣ былъ неинтересенъ и я вышелъ изъ вагона размять ноги до отхода поѣзда. Въ дверяхъ встрѣтились адвокатъ съ дамой.
— Не успѣете, — сказалъ мнѣ адвокатъ: — сейчасъ второй звонокъ.
И точно: я не успѣлъ дойти до конца вагоновъ, какъ раздался звонокъ. Когда я вернулся, адвокатъ съ дамой оживленно разговаривали. Купецъ молча сидѣлъ противъ нихъ.
— Затѣмъ она прямо объявила своему супругу, — улыбаясь говорилъ адвокатъ, въ то время, какъ я проходилъ мимо него: — что она не можетъ, да и не хочетъ жить съ нимъ, такъ какъ… — И онъ сталъ разсказывать далѣе то, чего я не могъ разслышать за приходомъ кондуктора и новаго пассажира. Когда все затихло и я опять услыхалъ голосъ адвоката, разговоръ, очевидно, съ частнаго случая перешелъ на общія соображенія.
— И за симъ является разладъ, финансовыя затрудненія, пререканія сторонъ, и супруги расходятся, — говоритъ адвокатъ. — Въ старину этого не было. Не правда-ли? обратился общительный адвокатъ къ старику купцу, желая вовлечь его въ этотъ разговоръ. Но въ это время поѣздъ тронулся и старикъ, не отвѣчая, снялъ свой картузъ, три раза перекрестился и прошепталъ что-то. Окончивъ это и надѣвъ прямо и глубоко свой картузъ, онъ сказалъ:
— Было, сударь, и прежде, только меньше. По нынѣшнему времени нельзя этому не быть. Ужъ очень образованы стали.
Адвокатъ что-то отвѣтилъ старику, но поѣздъ, двигаясь все быстрѣе и быстрѣе, уже погромыхивалъ на стычкахъ и мнѣ не слышно было, а интересно было знать, что скажетъ старикъ, и я пересѣлъ ближе. Сосѣдъ мой, нервный господинъ, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая съ мѣста, прислушивался.
— Да чѣмъ же худо образованіе? — чуть замѣтно улыбаясь, сказала дама. — Неужели же лучше такъ жениться, какъ въ старину, когда женихъ и невѣста и не видѣли даже другъ друга? — продолжала она, по привычкѣ многихъ дамъ, отвѣчая не на слова своего собесѣдника, а на тѣ слова, которыя она думала, что онъ скажетъ.
— Не знали, любятъ ли, могутъ-ли любить, а выходили, за кого попало, да всю жизнь и мучились, такъ по вашему это лучше? — говорила она, очевидно обращая рѣчь ко мнѣ и къ адвокату, но менѣе всего къ старику, съ которымъ говорила.
— Ужъ очень образованы стали, — повторилъ купецъ, презрительно глядя на даму, и оставляя ея вопросъ безъ отвѣта.
— Желательно бы знать, какъ вы объясняете связь между образованіемъ и несогласіемъ въ супружествѣ, — чуть замѣтно улыбаясь, сказалъ адвокатъ.
Купецъ что-то хотѣлъ сказать, но дама перебила его.
— Нѣтъ ужъ это время прошло, — сказала она. Но адвокатъ остановилъ ее.
— Нѣтъ позвольте имъ выразить свою мысль.
— А потому что страху нѣтъ, — сказалъ старикъ.
— Да какъ же быть, когда женятъ такихъ, которые не любятъ другъ друга. Вѣдь это только животныхъ можно спаривать, какъ хозяинъ хочетъ, а люди имѣютъ свои склонности, привязанности, — торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня и даже на прикащика, который, поднявшись съ своего мѣста и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислушивался къ разговору.
— Напрасно такъ говорите, сударыня, — сказалъ старикъ: — животное — скотъ, а человѣку данъ законъ.
— Ну, да какъ же жить съ человѣкомъ, когда любви нѣтъ, — сказала дама, очевидно поощряемая общимъ вниманіемъ и сочувствіемъ.
— Прежде этого не разбирали, — внушительнымъ тономъ сказалъ старикъ. — Ныньче только завелось это: какъ что́, она говоритъ: „я отъ тебя уйду“. У мужиковъ на что, и то эта самая мода завелась. „На, говоритъ, вотъ тебѣ твои рубахи и портки, а я пойду съ Ванькой, онъ кудрявѣй тебя“. Ну вотъ и толкуй. А въ женщинѣ, первое дѣло, страхъ долженъ быть.
Прикащикъ посмотрѣлъ и на адвоката и на даму и на меня, очевидно удерживая улыбку и готовый и осмѣять и одобрить рѣчь купца, смотря но тому, какъ она будетъ принята.
— Какой же страхъ? — сказала дама.
— А такой: да боится своего му-у-жа. Вотъ какой страхъ.
— Ну ужъ это, батюшка, время прошло.
— Нѣтъ, сударыня, этому времени пройти нельзя; какъ была она, Ева, женщина, изъ ребра мущины сотворена, такъ и останется до скончанія вѣка, — сказалъ старикъ, такъ строго и побѣдительно тряхнувъ головой, что прикащикъ тотчасъ же рѣшилъ, что побѣда на сторонѣ купца, и громко засмѣялся.
— Да это вы, мущины, такъ разсуждаете, — говорила дама, не сдаваясь и оглядываясь на насъ: — сами себѣ дали свободу, а женщину хотите въ терему держать. Небось сами себѣ все позволяете.
— Мущина — дѣло особое.
— Такъ мущинѣ по вашему, все позволено?
— Позволенія никто не даетъ, а только, что отъ мущины въ домѣ ничего не прибудетъ. А женщина, жена, — утлый сосудъ, — продолжалъ внушать купецъ. Внушительность инстанціи купца, очевидно, побѣждала слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной, но все еще не сдавалась.
— Да, но я думаю, вы согласитесь, что женщина-человѣкъ и имѣетъ чувство, какъ и мужъ. Ну что же ей дѣлать, если она не любитъ мужа?
— Не любитъ, — грозно повторялъ купецъ, двинувъ бровями. — Небось полюбитъ!
Этотъ неожиданный аргументъ особенно понравился прикащику, и онъ издалъ одобрительный звукъ.
— Да нѣтъ, не полюбитъ, — заговорила дама, — а если любви нѣтъ, то вѣдь къ этому нельзя же принудить.
— Ну, а какъ жена измѣнитъ мужу, тогда какъ? — сказалъ адвокатъ.
— Этого не должно быть, — сказалъ старикъ, — за этимъ смотрѣть надо.
— А какъ случится, тогда какъ! Вѣдь бываетъ же.
— У кого бываетъ, а у насъ не бываетъ, — сказалъ старикъ. — Ну, а если какой глупый мужъ не можетъ управить женой, тому по дѣломъ. А все жъ скандалъ дѣлать не приходится. Люби, хоть не люби, а дома не разстраивай. Всякій мужъ жену укоротить можетъ, на то ему дана власть. Только дуракъ не можетъ.
Всѣ помолчали. Прикащикъ пошевелился, еще подвинулся и, видимо не желая отстать отъ другихъ, улыбаясь, началъ:
— Да-съ, вотъ тоже у нашего молодца скандалъ одинъ вышелъ, тоже разсудить слишкомъ трудно. Тоже попалась такая женщина, что распутевая. И пошла чертить. А малый степенный и съ развитіемъ. Сначала съ конторщикомъ. Уговаривалъ онъ тоже добромъ. Не унялась. Всякія пакости дѣлала. Его деньги стала красть. И билъ онъ ее. Что жъ? все хужѣла. Съ некрещенымъ, съ евреемъ, съ позволенія сказать, свела шашни. Что жъ ему дѣлать? Бросилъ ее совсѣмъ. Такъ и живетъ холостой. А она слоняется.
— Потому онъ дуракъ, — сказалъ старикъ. — Кабы онъ съ перва-начала не далъ ей ходу, а укороту бы далъ настоящую — жила бы, небось. Волю не давать надо сначала. Не вѣрь лошади въ полѣ, а женѣ въ домѣ.
Въ это время пришелъ кондукторъ спрашивать билеты до ближайшей станціи. Старикъ отдалъ свой билетъ.
— Да загодя укорачивать надо женскій полъ, а то все пропадетъ.
— А самимъ въ Кунанинѣ кутить съ красотками можно? — улыбаясь сказалъ адвокатъ.
— Это статья особая, — сказала, купецъ строго. — Прощенья просимъ, прибавилъ онъ, вставая. 3апахнулся, приподнялъ картузъ и, доставъ мѣшокъ, вышелъ на тормозъ.
ІІ.
Только что старикъ ушелъ, поднялся разговоръ въ нѣсколько голосовъ.
— Стараго завѣта папаша, — сказалъ прикащикъ.
— Вотъ домострой живой, — сказала дама. — Какое дикое понятіе о женщинѣ и бракѣ.
— Да-съ, далеки мы отъ европейскаго взгляда на бракъ, — сказалъ адвокатъ. — Во первыхъ — права женщины, затѣмъ гражданскій бракъ, за симъ разводъ, какъ нерѣшенный еще вопросъ…
— Вѣдь главное то, чего не понимаютъ такіе люди, — сказала дама: — это то, что только любовь освящаетъ бракъ и что бракъ истинный только тотъ, который освящаетъ любовь.
Прикащикъ слушалъ и улыбался, желая запомнить для употребленія, сколько можно больше изъ умныхъ разговоровъ.
— Какая же это любовь освящаетъ бракъ? — неожиданно сказалъ голосъ нервнаго господина, который незамѣтно подошелъ къ намъ. Онъ стоялъ, положивъ руки на спинку сидѣнія, и очевидно очень волновался: лицо его было красно, на лбу надулась жила и вздрагивалъ мускулъ щеки. — Какая это такая любовь освящаетъ бракъ? — повторилъ онъ.
— Какъ — какая любовь? — сказала дама. — Обыкновенная любовь между супругами.
— Какъ же это можетъ обыкновенная любовь освящать бракъ? — продолжалъ нервный господинъ. Онъ волновался, какъ будто сердился и хотѣлъ сказать непріятное дамѣ. Она чувствовала это и тоже волновалась.
— Какъ? очень просто, — сказала дама.
Нервный господинъ тотчасъ же подхватилъ это слово.
— Нѣтъ не просто!
— Онѣ говорятъ, — вступился адвокатъ, указывая на даму, — что бракъ долженъ вытекать во-первыхъ изъ привязанности, любви, если хотите, и что если на лицо есть таковая, то только въ этомъ случаѣ бракъ представляетъ изъ себя нѣчто, такъ сказать, освященное, затѣмъ, что всякій бракъ, въ основѣ котораго не положены естественныя привязанности, — любовь, если хотите, — не имѣетъ въ себѣ ничего нравственно обязательнаго. Такъ ли я понимаю? — обратился онъ къ дамѣ.
Дама движеніемъ головы выразила одобреніе разъясненію своей мысли.
— За симъ … — хотѣлъ продолжать свою рѣчь адвокатъ. Но нервный господинъ, очевидно, удерживался съ трудомъ и, не давъ адвокату договорить, началъ.
— Да-съ, но что разумѣть подъ любовью, которая одна освящаетъ бракъ?
— Всякій знаетъ, что такое любовь, — сказала дама.
— А вотъ я не знаю и желаю знать, какъ вы опредѣляете?
— Какъ? очень просто, — сказала дама, но задумалась. — Любовь! Любовь есть исключительное предпочтеніе одного или одной передъ всѣми остальными, — сказала она.
— Предпочтеніе на сколько времени? На мѣсяцъ? на два дня? на полъ-часа? — съ особенною злостью сказалъ господинъ.
— Нѣтъ, позвольте, вы очевидно не про то говорите.
— Нѣтъ, я про то самое, про предпочтеніе одного или одной передъ всѣми другими, но я только спрашиваю, предпочтеніе на сколько времени?
— На сколько времени? На долго, на всю жизнь иногда.
— Да вѣдь это только въ романахъ. А въ жизни — никогда. Въ жизни бываетъ это предпочтеніе одного передъ другими рѣдко на годы, чаще на мѣсяцы, а то на недѣли, на дни, на часы.
— Ахъ, что вы! Да нѣтъ. Нѣтъ, позвольте, — заговорили мы въ одинъ голосъ всѣ трое. Даже прикащикъ издалъ какой-то неодобрительный звукъ.
— Да-съ, я знаю, — перекрикивалъ онъ насъ, — вы говорите про то, что считается существующимъ, а я говорю про то, что есть. Всякій мущина испытываетъ то, что вы называете любовью, къ каждой красивой женщинѣ и менѣе всего къ своей женѣ. Но на то и пословица, она не вретъ: „Чужая жена — лебедушка, а своя — полынь горькая“.
— Ахъ, это ужасно, что вы говорите. Но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на мѣсяцы и годы, а на всю жизнь?
— Нѣтъ, нѣту. Если допустить даже, чтобы Менелай предпочелъ Елену на всю жизнь, то Елена предпочла бы Париса, а такъ всегда было и есть на свѣтѣ. И не можетъ быть иначе, также какъ не можетъ быть, чтобы въ возѣ гороха двѣ замѣченныя горошины легли рядомъ. Да кромѣ того тутъ не невѣроятность одна, а навѣрное — пресыщеніе Елены Менелаемъ или наоборотъ. Вся разница только въ томъ, что у одного раньше, у другого позднѣе. Только въ глупыхъ романахъ пишутъ, что они любили другъ друга всю жизнь. И только дѣти могутъ вѣрить этому. Любить всю жизнь одну или одного, — это все равно, что сказать, что одна свѣчка будетъ горѣть всю жизнь.
— Но вы все говорите про плотскую любовь. Развѣ вы не допускали любви, основанной на единствѣ идеаловъ, на духовномъ сродствѣ?
— Отчего же не допускать, но въ такомъ случаѣ незачѣмъ спать вмѣстѣ (простите за грубость). А то единство идеаловъ встрѣчается не между старухами, а все между красивыми и молодыми, — сказалъ онъ и непріятно засмѣялся.
— Да-съ, я утверждаю, что любовь, настоящая любовь, не освящаетъ бракъ, какъ мы привыкли разумѣть его, на всю жизнь, а напротивъ разрушаетъ его.
— Но позвольте, — сказалъ адвокатъ, — фактъ противорѣчитъ тому, что вы говорите; мы видимъ, что супружества существуютъ, что все человѣчество, или большинство его живетъ брачной жизнью и многіе честно проживаютъ продолжительную брачную жизнь.
Нервный господинъ злобно засмѣялся.
— Такъ какъ же? Вы говорите, что браки основываются на любви. Когда же я выражаю сомнѣнія въ существованіи любви кромѣ чувственной, вы мнѣ доказываете существованіе любви браками. Да бракъ-то въ наше время — обманъ и насиліе.
— Нѣтъ-съ, позвольте, — сказалъ адвокатъ, — я говорю только, что существовали и существуютъ браки.
— Да какъ и отъ чего они существуютъ! Они существовали и существуютъ у тѣхъ людей, которые въ бракѣ видятъ нѣчто таинственное. Таинство, которое обязываетъ передъ Богомъ. У тѣхъ они существуютъ, а у насъ ихъ нѣтъ, и они только лицемѣріе и насиліе. И вотъ мы чувствуемъ это, чтобы избавиться отъ этого, проповѣдуемъ свободную любовь. Въ сущности же проповѣдь свободной любви есть ничто иное, какъ призывъ къ возвращенію назадъ, къ смѣшенію половъ, — извините меня, — обратился онъ къ дамѣ, — къ свальному грѣху. Износилась старая основа, надо найти новую, а не проповѣдовать развратъ.
Онъ такъ горячился, что всѣ замолчали и смотрѣли на него.
— А вотъ переходное-то положеніе и ужасно. Люди чувствуютъ, что нельзя же допустить свальный грѣхъ, надо какъ-нибудь опредѣлить половыя сношенія, а основы для этого нѣтъ, кромѣ старой, въ которую никто не вѣритъ. И люди женятся по старому, не вѣря въ то, что они дѣлаютъ, и выходитъ или обманъ, или насиліе. Когда обманъ, то это легче переносится. Мужъ и жена только обманываютъ людей, что они въ единобрачіи, а живутъ въ многоженствѣ и многомужествѣ. Это скверно, но еще идетъ; но когда, какъ это чаще всего бываетъ, мужъ и жена приняли на себя обязательство жить вмѣстѣ — всю жизнь и сами не знаютъ, зачѣмъ, за что, и со втораго мѣсяца уже желаютъ разойтись и всетаки живутъ, тогда это выходитъ тотъ страшный адъ, отъ котораго и спиваются, стрѣляются, убиваютъ и втравливаютъ себя и другъ друга.
Всѣ помолчали. Было неловко.
— Да, бываютъ критическіе эпизоды супружеской жизни. Вотъ, напримѣръ, дѣло Позднышева, — сказалъ адвокатъ, желая остановить неприлично-горячій разговоръ. — Какъ онъ изъ ревности убилъ жену, — читали вы?
Дама сказала, что не читала. Нервный господинъ ничего не сказалъ и измѣнился въ лицѣ.
— Вы, какъ я вижу, узнали, кто я? — вдругъ сказалъ онъ.
— Нѣтъ, я не имѣю удовольствія.
— Удовольствіе не большое. Я — Позднышевъ.
Произошло молчаніе. Онъ покраснѣлъ, опять поблѣднѣлъ.
— Ну все равно, — сказалъ онъ. — Впрочемъ извините. Я не буду стѣснять васъ! — И онъ ушелъ на свое мѣсто.
ІІІ.
Я вернулся тоже на свое мѣсто. Господинъ съ дамою шептались. Я сидѣлъ рядомъ съ Позднышевымъ и молчалъ. Я хотѣлъ поговорить съ нимъ, но не зналъ, съ чего начать, такъ мы проѣхали часъ до станціи. На слѣдующей станціи господинъ съ дамой и также прикащикъ вышли, и мы остались одни во всемъ вагонѣ съ Позднышевымъ.
— Они говорятъ! И или лгутъ, или не понимаютъ.
— Т. е. о чемъ это вы?
— Да все о томъ-же.
Онъ облокотился руками на колѣни и сжалъ виски руками.
— Любовь, бракъ, семья! Все ложь, ложь, ложь!… — Онъ всталъ, задернулъ занавѣску у фонаря и легъ, облокотившись на подушку, и закрылъ глаза. Онъ пролежалъ такъ минуту.
— Вамъ не непріятно сидѣть со мною, зная, кто я?
— О нѣтъ.
— Вы не хотите спать?
— Совсѣмъ не хочу.
— Такъ хотите — я вамъ разскажу свою жизнь ?
Въ это время прошелъ кондукторъ; онъ проводилъ его молча злыми глазами и началъ только тогда, когда этотъ ушелъ. Въ продолженіи же разсказа потомъ онъ уже ни разу не останавливался и ни даже вновь входящіе пассажиры не прерывали его. Во время его разсказа лицо его нѣсколько разъ перемѣнилось совершенно такъ, что ничего не было похожаго съ прежнимъ лицомъ, и глаза, и ротъ, и усы, борода даже — все было другое: то было прекрасное, трогательное, новое лицо. И перемѣны эти происходили въ полусвѣтѣ вдругъ, и минутъ пять было одно лицо и нельзя было никакъ видѣть прежняго, а потомъ неизвѣстно какъ дѣлалось другимъ и тоже нельзя было никакъ измѣнить его.
ІѴ.
— Ну, такъ я разскажу вамъ свою жизнь и всю свою страшную исторію. Страшную, именно страшную. Вся исторія страшнѣе конца.
Онъ помолчалъ, потеръ руками закрытое лицо и началъ:
— Коли разсказывать, то надо разсказывать все сначала; надо разсказать, какъ и отчего я женился и какимъ я былъ до женитьбы. Во-первыхъ скажу вамъ, кто я. Я сынъ богатаго степнаго дворянина, бывшаго предводителя, и воспитанникъ университета, кандидатъ, юристъ. Женился я 30-ти съ чѣмъ-то лѣтъ, но прежде чѣмъ сказать о женитьбѣ, надо сказать, какъ я жилъ прежде и какъ смотрѣлъ на семейную жизнь. Жилъ я до женитьбы, какъ живутъ всѣ такъ называемые порядочные люди нашего круга, т. е. развратно, и такъ же, какъ и большинство людей нашего круга, живя развратно, былъ убѣжденъ, что я среди развратныхъ людей исключительно нравственный человѣкъ. Происходило это, т. е. то, что я считалъ себя нравственнымъ, оттого, что въ нашей семьѣ не было того особеннаго, спеціальнаго разврата, который былъ такъ обыкновененъ въ нашей помѣщичьей средѣ, и что потому, воспитавшись въ семьѣ, гдѣ ни отецъ, ни мать не измѣняли другъ другу; я съ раннихъ лѣтъ лелѣялъ мечту о самой возвышенной и поэтической семейной жизни. Жена моя должна была быть верхомъ совершенства.
Любовь наша взаимная должна была быть самая возвышенная. Чистоты наша семейная жизнь должна была быть голубиной.
Думать — я такъ думалъ и все время хвалилъ себя за такія возвышенныя мысли. И вмѣстѣ съ этимъ лѣтъ десять жилъ взрослымъ человѣкомъ, не торопясь жениться, и велъ то, что я называлъ степенную, благоразумную холостую жизнь, которой я даже гордился передъ моими сверстниками и сотоварищами, предававшимися разнымъ спеціальнымъ развратамъ. Я не былъ соблазнителенъ, не имѣлъ неестественныхъ вкусовъ, не дѣлалъ изъ этого главной цѣли жизни, а отдавался разврату въ приличныхъ общепринятыхъ формахъ, и наивно былъ увѣренъ, что я вполнѣ нравственный человѣкъ. Женщины, съ которыми я сходился, были не мои, и мнѣ до нихъ не было никакого дѣла, кромѣ удовольствія, которое онѣ мнѣ доставляли. И мнѣ тутъ не казалось ничего безобразнаго. Напротивъ, я въ этомъ-то, въ томъ, что я не сближался съ ними сердцемъ, а платилъ имъ деньгами, я въ этомъ-то и видѣлъ свою нравственность. Я избѣгалъ тѣхъ женщинъ, которыя рожденіемъ ребенка или привязанностью ко мнѣ могли связать меня. Впрочемъ, — можетъ быть, и были дѣти и были привязанности, и я дѣлалъ, какъ будто ихъ не было… И живя такъ, я считалъ себя нравственнымъ человѣкомъ. Я не понималъ, что развратъ не состоитъ въ чемъ либо физическомъ, что никакое безобразіе физическое не есть еще развратъ, а что истинный развратъ состоитъ именно въ освобожденіи отъ нравственныхъ отношеній къ женщинѣ, съ которою входишь въ физическое общеніе. А это-то освобожденіе я и ставилъ себѣ въ заслугу. Помню, какъ я мучился разъ, не успѣвъ заплатить женщинѣ, которая, вѣроятно, полюбивъ меня, отдалась мнѣ. Я успокоился только тогда, когда послалъ ей деньги, показавъ этимъ, что я нравственно ничѣмъ не считаю себя связаннымъ съ нею.
— Вы не качайте головой, какъ будто вы согласны со мной, — вдругъ крикнулъ онъ на меня. — Вѣдь я знаю эту штуку. Вы всѣ, и вы — вы въ лучшемъ случаѣ, если вы не рѣдкое исключеніе, вы тѣхъ самыхъ взглядовъ, какихъ я былъ. Если вы согласны, то теперь, а прежде этого вы не думали. И я не думалъ, и если бы мнѣ сказали то, что я теперь вамъ говорю, не было бы того, что со мною было.
— Ну все равно, вы простите меня, — продолжалъ онъ, — но дѣло въ томъ, что это ужасно, ужасно, ужасно! Та пучина заблужденія и разврата, въ которой мы живемъ, по отношеніи къ истинному женскому вопросу…
— Т. е., что вы понимаете подъ истиннымъ женскимъ вопросомъ?
— Вопросъ о томъ, что такое-то особенное отъ мущинъ организованное существо и какъ она сама и мущина должны смотрѣть на нее.
Ѵ.
— Да, я 10 лѣтъ жилъ въ самомъ безобразномъ развратѣ, мечтая о чистой, возвышенной любви, даже во имя ея. Да, я хочу разсказать, какъ я убилъ свою жену, и чтобы разсказать это, долженъ разсказать, какъ я развратился. Я убилъ ее прежде, чѣмъ я ее зналъ, я убилъ женщину въ первый разъ, когда, не любя, позналъ ее, и тогда уже убилъ жену свою. Да-съ, только перестрадавъ, перемучившись, какъ я перемучился, только благодаря этому я понялъ, гдѣ корень всего, понялъ себя, свой и нашъ общественный грѣхъ. Такъ извольте видѣть, вотъ какъ и когда началось то, что привело меня къ моему несчастію. Началось это тогда, когда мнѣ было невступно 16 лѣтъ. Случилось это, когда я былъ еще въ гимназіи, а братъ мой старшій былъ студентомъ 1-аго курса. Я не зналъ еще женщинъ, но я, какъ и всѣ несчастныя дѣти нашего круга, уже не былъ невиннымъ мальчикомъ. Уже второй годъ я былъ развращенъ мальчишками, уже женщина не какая-нибудь, а женщина, какъ сладкое нѣчто, женщины, всякая женщина, нагота женщины уже мучала меня. Уединенія мой были нечистыя. Я мучился, навѣрное и вы мучились, и такъ мучаются 99 % нашихъ мальчиковъ. Я ужасался, я страдалъ, я молился и падалъ. Я уже былъ развращенъ въ воображеніи и въ дѣйствительности, но послѣдній шагъ еще не былъ сдѣланъ мною. Я погибалъ одинъ, но еще не налагая руки на другое человѣческое существо. Я бы могъ еще спастись. И вотъ товарищъ брата, студентъ весельчакъ, такъ называемый добрый малый, т. е. самый большой негодяй, выучившій насъ и пить и въ карты играть, уговорилъ послѣ попойки ѣхать туда. Мы, поѣхали. Братъ тоже былъ ещё невиненъ и упалъ въ эту ночь. И я 16-ти лѣтній мальчишка осквернилъ себя самого и содѣйствовалъ оскверненію сестры-женщины, вовсе не понимая того, что я дѣлалъ. Я вѣдь ни отъ кого отъ старшихъ не слыхалъ, чтобъ то, что я дѣлалъ, было дурно. Правда, было это въ заповѣди, но заповѣди вѣдь нужны только на то, чтобы отвѣчать на экзаменѣ батюшкѣ, да и то не очень-нужны, далеко не такъ, какъ заповѣдь объ употребленіи ut въ условныхъ предложеніяхъ. Такъ отъ тѣхъ старшихъ людей, мнѣніе которыхъ я уважалъ, я ни отъ кого не слыхалъ, чтобы это было дурно. Напротивъ, я слыхалъ отъ людей, которыхъ я уважалъ, что это было хорошо. Я слышалъ, что мои борьбы и страданія утишатся послѣ этого, я слышалъ это и читалъ; слышалъ отъ старшихъ, что для здоровья это будетъ хорошо; отъ товарищей-же слышалъ, что въ этомъ есть нѣкоторая заслуга, молодчество. Такъ что вообще, кромѣ хорошаго, тутъ ничего не видѣлось. Опасность болѣзни? но и та была предвидѣна. Правительство заботится объ этомъ. Оно слѣдитъ за правильною дѣятельностью домовъ терпимости и обезпечиваетъ развратъ для насъ, для гимназистовъ! И доктора́ за жалованіе слѣдятъ за этимъ. Такъ и слѣдуетъ! Они утверждаютъ, что развратъ бываетъ полезенъ для здоровья, они-же и учреждаютъ правильный, аккуратный развратъ. Я знаю матерей, которыя заботятся въ этомъ смыслѣ о здоровіи сыновей. И наука посылаетъ ихъ въ дома́ терпимости…
— Отчего-же наука? — сказалъ я.
— Да кто же доктора́? Жрецы науки.
— Кто развращаетъ юношей, утверждая, что это нужно для здоровья? Они. Кто развращаетъ женщинъ, научая и придумывая средства не рожать? Кто лѣчитъ сифилисъ съ восторгомъ? Они.
— Да отъ чего же не лѣчить сифилисъ?
— А вотъ отъ того, что лѣчить сифилисъ все равно, что обезпечивать развратъ, все равно, что воспитательный домъ для младенцевъ.
— Нѣтъ, но все-таки…
— Да, только если 0,01 этихъ усилій, которыя положены на лѣченіе сифилиса, были бы положены на лѣченіе разврата, сифилиса давно не было бы и помину. А то усилія употреблены не на искорененіе разврата, а на поощреніе его, на обезпеченіе безопасности разврата. Ну, да не въ томъ дѣло. Дѣло въ томъ, что со мной да и съ 0,9, если не больше, не только нашего сословія, но всѣхъ, даже крестьянъ, случилось то ужасное дѣло, что я палъ, не потому, что я подпалъ естественному соблазну прелести извѣстной женщины. Нѣтъ, никакая женщина не соблазнила меня, а я палъ, потому что окружающая меня среда видѣла въ томъ, что было паденіе, одни — самое законное и полезное для здоровья отправленіе, другіе — самую естественную и не только простительную, но даже невинную забаву для молодаго человѣка. Я и не понималъ, что тутъ есть паденіе, я просто началъ предаваться тѣмъ отчасти удовольствіямъ, отчасти потребностямъ, которыя свойственны, какъ мнѣ было внушено, извѣстному возрасту, какъ я началъ пить, курить. А все-таки въ этомъ первомъ паденіи было что-то особенное и трогательное. Помню, мнѣ тотчасъ-же, тамъ же, не выходя изъ комнаты, сдѣлалось грустно, грустно такъ, что хотѣлось плакать. Плакать о погибели своей невинности, о на вѣки погубленномъ отношеніи къ женщинѣ. Да-съ, отношенія къ женщинѣ были погублены на вѣки. Чистаго отношенія къ женщинѣ ужъ у меня съ тѣхъ поръ не было и не могло быть. Я сталъ тѣмъ, что называютъ блудникомъ. А быть блудникомъ есть физическое состояніе, подобное состоянію морфиниста, пьяницы, курильщика. Какъ морфинистъ, пьяница, курильщикъ уже ненормальный человѣкъ, такъ и человѣкъ, познавшій нѣсколькихъ женщинъ для своего удовольствія уже ненормальный, а испорченный — навсегда человѣкъ — блудникъ. Какъ пьяницу и морфиниста можно узнать тотчасъ же по лицу, по пріемамъ, точно также и блудника. Блудникъ можетъ воздерживаться, бороться, но простаго, яснаго, чистаго отношенія къ женщинѣ, братскаго у него уже никогда не будетъ. По тому, какъ онъ взглянетъ, оглядитъ молодую женщину, сейчасъ можно узнать блудника. И я сталъ блудникомъ и остался такимъ.
ѴІ.
— Да такъ съ. Потомъ пошло дальше, дальше, были всякаго рода отклоненія. Боже мой! Какъ вспомню я всѣ мои мерзости въ этомъ отношеніи, ужасъ беретъ. О себѣ, надъ которымъ товарищи смѣялись за мою такъ называемую невинность, и такъ вспоминаю. Какъ послышишь о золотой молодежи, объ офицерахъ, о парижанахъ! И всѣ эти господа и я, когда мы 30-ти лѣтніе развратники, имѣющіе на душѣ сотни самыхъ разнообразныхъ, ужасныхъ преступленіи, относительно женщинъ, когда мы 30-ти лѣтніе развратники входимъ, чисто на чисто вымытые, выбритые, надушенные въ чистомъ бѣльѣ, во фракѣ или мундирѣ, въ гостиную, или на балъ — эмблема чистоты, прелесть… О! о мерзость! Да придетъ же время, что обличится эта мерзость и ложь. — Ну вотъ такъ я жилъ до 30-ти лѣтъ, ни на минуту не оставляя намѣренія жениться и устроить себѣ самую возвышенную, семейную жизнь, и съ этой цѣлью приглядывался къ подходящимъ для этой цѣли дѣвушкамъ. Я гвоздался въ гноѣ разврата и вмѣстѣ съ тѣмъ разглядывалъ дѣвушекъ, по своей чистотѣ достойныхъ меня. Многихъ я забраковалъ именно потому, что онѣ были недостаточно чисты для меня; но наконецъ я нашелъ такую, которую счелъ достойной себя. Это была одна изъ двухъ дочерей когда-то очень богатаго, но разорившагося Пензенскаго помѣщика. По правдѣ сказать, безъ ложной скрытности, меня ловили и поймали, мамаша, папаши не было, устроивала всякія ловушки и одна — именно катанье на лодкахъ, удалась.
Я рѣшилъ въ одинъ вечеръ, послѣ того, какъ мы ѣздили на лодкѣ и ночью, при лунномъ свѣтѣ, возвращались домой, и я сидѣлъ рядомъ съ ней и любовался ея стройной фигурой и обтянутымъ джерсей и ея локонами, я вдругъ рѣшилъ, что это она. Мнѣ показалось въ этотъ вечеръ, что она понимаетъ все, все, что я думаю и чувствую, и что чувствую я и думаю самыя возвышенныя вещи. Въ сущности же было только то, что джерсей былъ ей особенно къ лицу, также и локоны, и что послѣ проведеннаго въ близости съ нею дня, хотѣлось еще большей близости. Я вернулся въ восторгѣ домой и рѣшилъ, что она верхъ совершенства и что потому-то она достойна быть моей женой, и на другой день сдѣлалъ предложеніе. Нѣтъ, какъ хотите, мы живемъ по уши въ такомъ омутѣ лжи, что если насъ не треснетъ по головѣ, какъ меня, мы не можемъ опомниться. Вѣдь что это за путаница! Изъ 1000 женящихся мущинъ, не только въ нашемъ быту, но къ несчастью и въ народѣ, едва-ли есть одинъ, который бы не былъ женатъ уже разъ десять прежде. (Есть теперь, правда, я слышалъ, молодые люди, чистые, чувствующіе и знающіе, что это не шутка, а великое дѣло. Помоги имъ Богъ! Но въ мое время не было ни одного такого на 1000). И всѣ знаютъ это и притворяются, что не знаютъ. Во всѣхъ романахъ до подробности описаны чувства героевъ, пруды, кусты, около которыхъ они ходятъ, но описывая ихъ великую любовь къ какой нибудь дѣвицѣ, ничего не пишется о томъ, что было съ нимъ, съ интереснымъ героемъ, прежде; ни слова о его посѣщеніяхъ домовъ, о горничныхъ, кухаркахъ, чужихъ женахъ. Если-же есть такіе неприличные романы, то ихъ не даютъ въ руки дѣвушкамъ. Всѣ передъ дѣвушками, а наконецъ и сами передъ собой притворяются, что то, что наполняетъ половину жизни нашихъ городовъ и деревень даже, т. е. распутство, какъ удовольствіе жизни, въ которомъ всѣ принимаютъ участіе, что этого нѣтъ. И притворяются такъ старательно, что наконецъ сами начинаютъ вѣритъ. Дѣвушки же, тѣ бѣдныя, вѣрятъ въ это совсѣмъ серьезно, такъ вѣрила и моя несчастная жена. Помню, какъ я, уже будучи женихомъ, показалъ ей свой дневникъ, изъ котораго она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное про мою послѣднюю связь, которая была у меня и о которой она могла узнать отъ другихъ и про которую я потому-то и чувствовалъ необходимость сказать ей. Помню ея ужасъ, отчаяніе и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видѣлъ, что она хотѣла бросить меня тогда. И какое бы это было счастіе для насъ! — Онъ помолчалъ.
— Нѣтъ, впрочемъ, такъ лучше, такъ лучше! — вскрикнулъ онъ. — Подѣломъ мнѣ! Но не въ томъ дѣло. Я хотѣлъ сказать, что обмануты тутъ вѣдь только однѣ несчастныя дѣвушки. Матери же знаютъ это, особенно матери, воспитанныя своими мужьями, знаютъ это. И притворяясь, что вѣрятъ въ чистоту мущинъ, онѣ на дѣлѣ дѣйствуютъ совсѣмъ иначе. Онѣ знаютъ, на какую удочку ловить мущинъ для себя и для своихъ дочерей. Вѣдь мы, мущины, только не знаемъ и не знаемъ потому, что не хотимъ знать, — женщины же знаютъ очень хорошо, что самая возвышенная, поэтическая, какъ мы ее называемъ, любовь зависитъ не отъ нравственныхъ достоинствъ, а отъ физической близости и при томъ прически, цвѣта, покроя платья. Скажите опытной кокеткѣ, задавшей себѣ задачу плѣнить человѣка, чѣмъ она скорѣе хочетъ рисковать: тѣмъ, чтобы быть въ присутствіи того, кого она прельщаетъ, изобличенной во лжи, жестокости, даже распутствѣ, или тѣмъ, чтобы показаться при немъ въ дурно сшитомъ и некрасивомъ платьѣ?
— Всякая всегда предпочтетъ первое. Она знаетъ, что нашъ братъ все вретъ о высокихъ чувствахъ — ему нужно только тѣло и потому онъ проститъ всѣ гадости, а уродливаго, безвкуснаго, дурнаго тона костюма не проститъ. Кокетка знаетъ это сознательно, всякая невинная дѣвушка знаетъ это безсознательно, какъ знаютъ это животныя. Отъ того эти джерсей мерзкія, эти нашлепки на зады, эти голыя плечи, руки, почти груди. Женщины, особенно прошедшія мужскую школу, очень хорошо знаютъ, что разговоръ о высокихъ предметахъ разговорами, а что нужно мущинѣ тѣло и все то, что выставляетъ его въ самомъ обманчивомъ свѣтѣ, и это самое и дѣлается. Вѣдь если откинуть только тѣ условныя разъясненія, почему и для чего это дѣлается, главное откинуть ту привычку къ этому безобразію, которая стала для насъ второй природой, а взглянуть на жизнь нашихъ высшихъ да и нисшихъ классовъ, какъ она есть, со всѣмъ ея безстыдствомъ — вѣдь это одинъ сплошной домъ терпимости. Вы не согласны? Позвольте, я докажу, — заговорилъ онъ, перебивая меня.
— Вы говорите, что женщины въ нашемъ обществѣ живутъ иными интересами, чѣмъ женщины въ домахъ терпимости, а я говорю, что нѣтъ, и докажу. Если люди различны по цѣлямъ жизни, по внутреннему содержанію жизни, то это различіе непремѣнно отразится и во внѣшности и внѣшность будетъ различная, но посмотрите на тѣхъ, на несчастныхъ презираемыхъ, и на самыхъ высшихъ свѣтскихъ барынь: тѣ же наряды, тѣ же фасоны, тѣ же духи, то же оголеніе рукъ, плечъ, грудей и обтягиваніе зада, та же страсть къ камушкамъ, къ дорогимъ блестящимъ вещамъ, тѣ же увеселенія, танцы, и музыка, и пѣніе. Какъ тѣ заманиваютъ всѣми средствами, такъ и эти. Никакой разницы. Строго опредѣляя, надо сказать, что проститутки на короткіе сроки обыкновенно презираемы, проститутки на долгіе — уважаемы.
— Да, такъ вотъ меня эти джерсей и локоны и нашлепки поймали.
ѴІІ.
Поймать же меня легко было, потому что я воспитанъ былъ въ тѣхъ условіяхъ, при которыхъ, какъ огурцы на парахъ, выгоняются влюбляющіеся молодые, люди. Вѣдь наша возбуждающая излишняя пища, при совершенной физической праздности, есть ничто иное, какъ систематическое разжиганіе похоти. Мужчины нашего міра содержатся и кормятся, какъ случные жеребцы. Стоитъ вѣдь только придержать спасительный клапанъ, т. е. развратному молодому человѣку пожить немного времени воздержанной жизнью и тотчасъ же получится страшное безпокойство и возбужденіе, которое, проходя черезъ призму искусственныхъ условій нашей общественной жизни, выражается влюбленіемъ. Всѣ наши любови и браки, всѣ, большею частью, обусловлены пищей. Вы удивляетесь? А надо удивляться, какъ мы не видимъ этого. Около меня нынче весной работали на насыпи желѣзной дороги мужики. Обыкновенную пищу малаго изъ крестьянъ вы знаете: хлѣбъ, квасъ, лукъ — онъ живъ, бодръ, здоровъ, работаетъ легкую полевую работу. Онъ поступаетъ на желѣзную дорогу — и харчи у него: каша, фунтъ мяса. Но за то онъ выпускаетъ это мясо на 16-ти часовой работѣ съ тачкой въ 30 пудовъ. И ему какъ разъ такъ. Ну, а мы, поѣдающіе по 2 фунта мяса, дичи и всякія горячительныя яства и напитки — куда это идетъ? На чувственные эксессы. И если идетъ туда — спасительный клапанъ открытъ — все благополучно; но прикройте клапанъ, какъ я прикрывалъ его временно, и тотчасъ же получается возбужденіе, которое, если его перегнать чрезъ призму романовъ, повѣстей, стиховъ, музыки — черезъ праздную, роскошную обстановку нашей жизни, — и будетъ влюбленіе самой чистой воды. И я влюбился, какъ всѣ влюбляются. И все было на лицо: и восторгъ, и умиленіе, и поэзія. Въ сущности же эта моя любовь была устроена мамашей и портнихами. Не будь катаній на лодкѣ, не будь портнихъ съ таліями и т. п., а будь моя жена одѣта въ нескладный капотъ и сиди она дома, я бы не влюбился и меня бы не поймали.
ѴІІІ.
— Замѣтьте еще лганье міра. Это то, какимъ образомъ устраиваются наши браки. Вѣдь естественно что? Дѣвка созрѣла, надо ее выдать; кажется какъ просто, когда дѣвка не уродъ и есть мущины, желающіе жениться. Анъ нѣтъ! Тутъ начинается новое лганье. Въ старину вошла въ возрастъ дѣва, ея родители, знающіе больше жизнь, не увлекающіеся влюбленіемъ минутнымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ любящіе ее не меньше себя, — родители устраивали бракъ. Такъ дѣлалось, дѣлается во всемъ человѣчествѣ, у китайцевъ, индѣйцевъ, магометанъ, у насъ въ народѣ, такъ дѣлается въ родѣ человѣческомъ, по крайней мѣрѣ въ 0,99 его части. Только 0,01 или меньше насъ распутниковъ нашли, что это не хорошо, и выдумали новое. Да что-же новое-то? А новое то, что дѣвы сидятъ, а мущины, какъ на базарѣ, ходятъ и выбираютъ. А дѣвки ждутъ и думаютъ, но не смѣютъ сказать: батюшка, меня! нѣтъ меня, не ее, у меня смотри какія плечи и другое! А мы, мущины, похаживаемъ, поглядываемъ. И толкуемъ о нравахъ женщинъ, о свободѣ, которая какъ-то пріобрѣтается на курсахъ.
…Такъ какъ же быть? сказалъ я. Что же? женщинѣ дѣлать предложеніе?
— Да ужъ я не знаю какъ. Только если равенство, такъ равенство. Если нашли, что сватовство унизительно, то ужъ это въ 1000 разъ больше. Тамъ права и шансы равны, а здѣсь женщина — раба на базарѣ, и такъ какъ она не можетъ согласиться быть рабой, не можетъ и сама дѣлать предложеніе, то вотъ и начинается эта еще другая и безобразнѣйшая ложь, которая иногда называется „выѣзжать въ свѣтъ“, иногда — веселиться, и которая есть ничто иное, какъ ловленіе жениховъ. Скажите какой-нибудь матушкѣ или самой дѣвушкѣ правду, что она только тѣмъ и занята, чтобы ловить жениха — Боже, какая обида! А вѣдь онѣ всѣ только это и дѣлаютъ и больше имъ дѣлать нечего. И что вѣдь ужасно — это видѣть занятыхъ этимъ иногда совершенно молоденькихъ, бѣдныхъ, невинныхъ дѣвушекъ. И опять, если бы это открыто дѣлалось, а то все обманъ. Ахъ, происхожденіе видовъ! Какъ интересно! Ахъ, Лили очень интересуется живописью! А вы будете на выставкѣ? Какъ поучительно!… А на тройкахъ?… А спектакль?… А симфонія ?… Ахъ, какъ замѣчательно!… Моя Лиза безъ ума отъ музыки. А вы почему не раздѣляете этихъ убѣжденій? —
А мысль одна: „возьми, возьми меня, мою Лизу! Нѣтъ меня! Ну, хоть попробуй!“
ІХ.
— Вы знаете, — вдругъ перебилъ онъ, — то властвованіе женщинъ, отъ котораго страдаетъ міръ, — все это происходитъ отъ этого.
„Какъ властвованіе женщинъ?“ сказалъ я. „Всѣ плачутся на то, что онѣ не имѣютъ правъ, что онѣ задавлены“.
— Это, это самое, — подхватилъ онъ. — Это самое то, что я хочу сказать, это-то и объясняетъ то необыкновенное явленіе, что съ одной стороны совершенно справедливо, то, что женщина доведена до самой низкой степени униженія, съ другой — что она властвуетъ. Точно такъ же, какъ Евреи. Какъ они своей денежной властью отплачиваютъ за свое угнетеніе, такъ и женщины. „А вы хотите, чтобы мы были только торговцы? Хорошо, мы, торговцы, завладѣемъ вами“, говорятъ Евреи. „А вы хотите, чтобы мы были только предметъ чувственности? Хорошо, мы какъ предметъ чувственности и поработимъ васъ“, говорятъ женщины. Не въ томъ отсутствіе правъ женщины, что она не можетъ вотировать или быть судьей. Заниматься этими дѣлами не составляетъ никакихъ правъ; а въ томъ, чтобы въ половомъ общеніи быть равной мущинѣ, имѣть право пользоваться мущиной, воздерживаться отъ него, по своему желанію избирать мущину, а не быть избираемой. Вы говорите, что это безобразно. Хорошо. Тогда чтобъ и мущина не имѣлъ этихъ правъ. Теперь же женщина не лишена того права, которое имѣетъ мущина. И вотъ, чтобы возмѣстить это право, она дѣйствуетъ на чувственность мущины, черезъ чувственность покоряетъ его такъ, что онъ только формально выбираетъ, а въ дѣйствительности выбираетъ она. А разъ, овладѣвъ этимъ средствомъ, она уже злоупотребляетъ имъ и пріобрѣтаетъ страшную власть надъ людьми.
„Да гдѣ же эта особенная власть?“ спросилъ я.
— Гдѣ власть? Да вездѣ, во всемъ. Пройдите въ каждомъ большомъ городѣ по магазинамъ. Милліоны тутъ, не оцѣнить положенныхъ туда трудовъ людей. А посмотрите, въ 0,9 этихъ магазиновъ, есть-ли хоть что нибудь для мужскаго употребленія? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Сочтите всѣ фабрики. Огромная доля ихъ работаетъ безполезныя украшенія на женщинъ. Милліоны людей, поколѣнія родовъ гибнутъ въ этомъ каторжномъ трудѣ на фабрикахъ только для прихоти женщинъ. Женщины, какъ царицы, держатъ въ плѣну рабства и тяжелаго труда 0,9 рода человѣческаго. А все отъ того, что ихъ унизили, лишили ихъ равныхъ правъ съ мущинами. И вотъ онѣ мстятъ дѣйствіемъ на нашу чувственность, уловленіемъ насъ въ свои сѣти. Да, все отъ этого. Женщины устроили изъ себя такое орудіе воздѣйствія на чувственность, что молодой человѣкъ, да и старый, не можетъ спокойно обращаться съ женщиной. Посмотрите въ праздникъ въ народѣ и на нашихъ вечерахъ и балахъ, женщина знаетъ, какъ она дѣйствуетъ, это вы можете видѣть въ ея торжественной улыбкѣ. И вотъ какъ только молодой человѣкъ подошелъ къ женщинѣ, такъ и подпалъ подъ ея дурманъ и ошалѣлъ. И прежде мнѣ всегда бывало неловко, жутко, когда я видѣлъ разряженную женщину и бабу въ красномъ платкѣ съ подкладными юбками и нашу даму въ бальномъ платьѣ, но теперь мнѣ прямо страшно, я прямо вижу нѣчто опасное для людей и противозаконное и хочется крикнуть полицейскаго, звать защиту противъ того, чтобы убрали, устранили опасный предметъ. И это вовсе не шутка. Я увѣренъ, что придетъ время и, можетъ быть, очень скоро, что люди поймутъ это и будутъ удивляться, какъ могло существовать общество, въ которомъ допускались такіе нарушающіе общественное спокойствіе поступки, какъ тѣ, прямо вызывающіе чувственность: украшеніе своего тѣла, которое допускается нашими женщинами. Вѣдь это все равно, что разставить по гуляніямъ, по дорожкамъ всякіе капканы… — хуже!
Х.
Ну вотъ такъ-то и меня поймали. Я былъ то, что называется влюбленъ. Я не только представлялъ ее себѣ верхомъ совершенства, я и себя за это время жениховства представлялъ такимъ же совершеннымъ человѣкомъ. Вѣдь нѣтъ такого негодяя, который поискавъ не нашелъ бы негодяевъ въ какомъ нибудь отношеніи хуже себя и который поэтому не могъ бы найти повода гордиться и быть довольнымъ собой. Такъ и я: я женился не на деньгахъ — корысть была не при чемъ — не такъ, какъ большинство моихъ знакомыхъ женились изъ-за денегъ или связей; я былъ богатъ, она бѣдна. Это одно; другое, чѣмъ я гордился, было то, что другіе женились съ намѣреніемъ впередъ продолжать жить въ такомъ многоженствѣ, въ какомъ они жили до брака; я же имѣлъ твердое намѣреніе держаться послѣ свадьбы единобрачія, и не было предѣловъ моей гордости передъ собой за это. Да, свинья я былъ ужасная и воображалъ себѣ, что я — ангелъ. Время, пока я былъ женихомъ, продолжалось недолго. Безъ стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства. Какая гадость! Вѣдь подразумѣвается любовь духовная, а не чувственная. Ну, если любовь духовная, духовное общеніе, то словами, разговорами, бесѣдами должно бы выразиться это духовное общеніе. Ничего же этого не было. Говорить, бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая то это была Сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чемъ было. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей насъ, устройствѣ, планахъ — было сказано, а дальше что? Вѣдь если бы мы были животныя, то такъ бы и знали, что говорить намъ не полагается, а тутъ, напротивъ, говорить надо и нечего, потому что занимаетъ не то, что разрѣшается разговорами. А при этомъ еще тотъ безобразный обычай конфектъ, грубаго обжорства сладкимъ и всѣ эти мерзкія приготовленія къ свадьбѣ, только о квартирѣ, спальнѣ, постеляхъ, капотахъ, халатахъ, бѣльѣ, туалетахъ. Вѣдь вы поймите, что если женятся по Домострою, какъ говорилъ этотъ старикъ, то пуховики, приданое, постель, — все это подробности освященнаго таинства. Но у насъ, когда изъ десяти брачущихся, едва ли есть одинъ, который не то, что вѣритъ въ таинство (вѣритъ или не вѣритъ въ это не важно), но не вѣритъ въ то, что онъ обѣщаетъ, когда изъ ста мущинъ едва ли есть одинъ уже не женатый прежде и изъ пятидесяти, который впередъ не готовился бы измѣнять своей женѣ, когда большинство смотритъ на поѣздку въ церковь только, какъ на особенное условіе обладанія извѣстной женщиной. Подумайте, какое ужасное значеніе получаютъ при этомъ всѣ эти подробности. Выходитъ что-то въ родѣ продажи. Развратнику продаютъ невинную дѣвушку и обставляютъ эту продажу самымъ пріятнымъ образомъ.
ХІ.
Такъ всѣ женятся, такъ и я женился. И если бы только знали молодые люди, мечтающіе о медовомъ мѣсяцѣ, какое это разочарованіе. И всегда разочарованіе! Но почему-то всѣ считаютъ нужнымъ скрывать это. Я ходилъ разъ въ Парижѣ по всѣмъ зрѣлищамъ и зашелъ посмотрѣть по вывѣскѣ женщину съ бородой и водяную собаку. Оказалось, что это было больше ничего, какъ мущина декольте въ женскомъ платьѣ и собака, засунутая въ моржовую кожу и плавающая въ ваннѣ съ водой. Все было очень мало интересно, но когда я выходилъ, то меня учтиво провожалъ показыватель и, обращаясь къ публикѣ у входа, указывая на меня, говорилъ: „вотъ спросите господина, стоить ли смотрѣть. Заходите, заходите, по франку съ человѣка“. Мнѣ почему-то совѣстно было сказать, что смотрѣть не стоитъ, а показывающій, вѣроятно, разсчитывалъ на это. Такъ, вѣроятно, бываетъ и съ тѣми, которые испытали всю мерзость медоваго мѣсяца и не разочаровываютъ другихъ. Я тоже не разочаровывалъ никого, но теперь не вижу, почему не говорить правду. Восторговъ медоваго мѣсяца нѣтъ никакихъ, а, напротивъ, неловко, стыдно, гадко, жалко и главное скучно, до невозможности скучно. Это нѣчто вродѣ того, что испытываетъ юноша, когда пріучается курить, когда его тянетъ рвать и текутъ слюни, и онъ глотаетъ ихъ, дѣлая видъ, что ему очень пріятно. Наслажденіе отъ куренія, также какъ и отъ этого, если будетъ, то будетъ потомъ; надо, чтобы супруги воспитали въ себѣ этотъ порокъ для того, чтобы получить отъ него наслажденіе.
— Какъ порокъ? — сказалъ я. — Вѣдь вы говорите о самомъ естественномъ человѣческомъ свойствѣ.
— Естественномъ? — сказалъ онъ. — Естественномъ? Нѣтъ, я скажу вамъ напротивъ, что я пришелъ къ убѣжденію, что это неестественно. И это, убѣдился я, испорченный, развращенный человѣкъ. Что же бы было, если бы я не былъ развращенный человѣкъ? Для дѣвушки, для всякой неразвращенной дѣвушки, это въ высшей степени неестественно, точно для дѣтей. Моя сестра очень молодой вышла замужъ за человѣка вдвое старше ея и развратника. Я помню, какъ мы были удивлены въ ночь свадьбы, когда она, блѣдная, въ слезахъ убѣжала отъ него и, трясясь всѣмъ тѣломъ, говорила, что она ни за что, ни за что, что она не можетъ сказать даже того, чего онъ хотѣлъ отъ нея. Вы говорите естественно? Естественно ѣсть. И ѣсть — радостно, легко, пріятно и нестыдно съ самаго начала, здѣсь же и мерзко и стыдно и больно. Нѣтъ, это не естественно! И дѣвушка неиспорченная, я убѣдился, всегда ненавидитъ это. Дѣвушка чистая желаетъ одного — дѣтей. Дѣтей — да, но не мужа.
— Какъ же, — сказалъ я съ удивленіемъ, — какъ же бы продолжался родъ человѣческій?
— Да зачѣмъ же ему продолжаться? — неожиданно возразилъ онъ.
— Какъ зачѣмъ? Иначе бы насъ не было.
— Да зачѣмъ намъ быть?
— Какъ зачѣмъ? Да чтобы жить.
— Зачѣмъ жить? Вѣдь Шопенгауеры, Гартманы, да и всѣ Буддисты утверждаютъ, что благо въ томъ, чтобы не жить. И они правы въ томъ, что благо человѣческое совпадаетъ съ самоуничтоженіемъ. Только они не такъ выражаются: они говорятъ, что роду человѣческому надо уничтожиться. чтобы избавиться отъ страданій, что цѣль его — самоуничтоженіе. Это неправда. Цѣль человѣчества не можетъ быть избавленіе отъ страданій черезъ самоуничтоженіе, потому что страданія суть послѣдствія дѣятельности: цѣль дѣятельности не можетъ состоять въ уничтоженіи ея послѣдствій. Цѣль какъ человѣка, такъ и человѣчества — благо. Для достиженія-же блага человѣчеству данъ законъ, который оно должно исполнять. Законъ же въ единеніи людей. Мѣшаютъ этому единенію страсти. Изъ страстей самая сильная и злая — половая плотская любовь и потому, если уничтожатся страсти и послѣдняя, самая сильная изъ нихъ, плотская любовь, то единеніе совершится, человѣчество исполнитъ свой законъ и ему незачѣмъ будетъ жить.
— Ну, а пока не исполнится?
— Ну вотъ и данъ спасительный клапанъ. Признакъ неисполненнаго закона есть присутствіе плотской любви. А какъ только есть плотская любовь, такъ вслѣдствіе именно ея и является новое поколѣніе, въ которомъ можетъ осуществиться законъ. Не осуществило и то, опять слѣдующія — до тѣхъ поръ, пока осуществится все. Когда же осуществится, тогда вслѣдствіе этого самаго осуществленія и самъ собою уничтожится родъ человѣческій, по крайней мѣрѣ, мы не можемъ себѣ представить жизни, или той жизни, которую мы знаемъ при условіи полнаго единенія людей.
ХІІ.
— Странная теорія, — сказалъ я.
— Что тутъ страннаго? По всѣмъ ученіямъ церковнымъ придетъ конецъ міра, по всѣмъ ученіямъ научнымъ неизбѣжно тоже самое. Такъ что же страннаго, что по ученію нравственному выходитъ то же самое? „Могущіе вмѣстить — да вмѣстятъ сказалъ Христосъ. И я прямо понимаю это, какъ онъ сказалъ. Для того, чтобы между людьми была нравственность въ половомъ отношеніи, нужно, чтобы цѣлью они себѣ ставили полное цѣломудріе. Стремясь къ цѣломудрію, человѣкъ падаетъ; падетъ и будетъ бракъ нравственный; но если человѣкъ, какъ въ нашемъ обществѣ, стремится уже прямо къ плотской любви, то хотя бы онъ и облекъ ее и въ мнимо-нравственную форму брака, будетъ только разрѣшеніе на развратъ съ одной, будетъ всетаки безнравственная жизнь, та, въ которой я погибъ и ее погубилъ и которая у насъ называется нравственной, семейной жизнью. Вы замѣтьте, какое у насъ извращеніе понятій, когда самое счастливое положеніе для человѣка — свобода, безбрачіе считается чѣмъ то жалкимъ, смѣшнымъ. Высшій идеалъ, лучшее положеніе женщины — быть чистой, весталкой, дѣвственницей — есть страхъ и посмѣшище въ нашемъ обществѣ. Сколько и сколько молодыхъ дѣвушекъ приноситъ въ жертву свою чистоту этому Молоху мнѣнія, выходя замужъ за негодяевъ, только бы не остаться дѣвой, т. е. высшимъ существомъ. Изъ страха, что она будетъ находиться въ высшемъ положеніи она губитъ себя.
Но я тогда не понималъ этого, не понималъ того, что слова евангелія о томъ, что смотрящій на женщину съ вожделѣніемъ уже прелюбодѣйствовалъ съ нею, относятся не къ однимъ чужимъ женамъ, а именно и главное къ своей женѣ. Я не понималъ этого и думалъ, что медовый мѣсяцъ и мои поступки въ этотъ медовый мѣсяцъ были самые прекрасные, что удовлетворить похоти съ своей женой есть нѣчто вполнѣ хорошее. Вы поймите, что вѣдь эти отъѣзды, уединенія, въ которыя съ разрѣшенія родителей отправляются молодые — вѣдь это ничто иное, какъ разрѣшеніе на развратъ. Я тогда не видѣлъ въ этомъ ничего дурнаго или стыднаго и, ожидая себѣ великихъ радостей, сталъ производить медовый мѣсяцъ. И разумѣется ничего не выходило. Но я вѣрилъ въ медовый мѣсяцъ и во что бы то ни стало старался устроить его себѣ.
Но чѣмъ больше я усиливался, тѣмъ меньше выходило. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно, тяжело. Кажется на 3-ій или 4-ый день я засталъ ее скучною, сталъ спрашивать о чемъ, сталъ обнимать ее, что по моему было все, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплакала.
— О чемъ? — Она не умѣла сказать, но ей было грустно, тяжело. Вѣроятно, ея измученные нервы подсказали ей истину о гадости нашихъ сношеній, но она не умѣла сказать. Я сталъ допрашивать, она что-то сказала, что ей грустно безъ матери. Мнѣ показалось, что это неправда. Я сталъ уговаривать ее, промолчавъ о родителяхъ. Я не понялъ, что ей просто было тяжело, а родители были только отговорка. Она не слушала меня, тогда я упрекнулъ ее въ капризѣ и что-то подтрунилъ надъ ея печалью, и вдругъ слезы исчезли и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня въ эгоизмѣ, въ жестокости. Я взглянулъ на нее. Все лицо ея выражало одну злобу и злоба эта была направлена на меня. Не могу передать того ужаса, который я испыталъ, увидавъ это. — Какъ? Что? думалъ я. — Любовь — союзъ душъ и вмѣсто этого ненависть ко мнѣ? Ко мнѣ! Что это такое? за что? Да не можетъ быть! Да это не она! Я попробовалъ было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стѣну холодной, ядовитой враждебности, что не успѣлъ я оглянуться, какъ раздраженіе охватило и меня, и мы наговорили другъ другу кучу непріятностей. Впечатлѣніе этой первой ссоры было ужасно. Я называлъ это ссорой, но это была не ссора, это было только обнаруженіе той пропасти, которая въ дѣйствительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетвореніемъ чувственности, и остались мы другъ противъ друга въ нашемъ дѣйствительномъ отношеніи другъ къ другу, т. е. два совершенно чуждые другъ другу эгоиста, желающіе получить себѣ какъ можно больше удовольствія одинъ черезъ другого, двое, другъ другомъ хотящихъ воспользоваться людей. То, что я называлъ ссорой, было наше дѣйствительное отношеніе другъ къ другу, обнаруживавшееся при прекращеніи чувственности. Я тогда не понималъ, что это холодное и враждебное отношеніе было нашимъ нормальнымъ отношеніемъ, не понималъ это потому, что это враждебное отношеніе въ первое время очень скоро опять закрылось отъ насъ вновь поднявшеюся перегонной чувственностію, т. е. влюбленіемъ. И я думалъ, что мы поссорились и помирились и что больше этого уже не будетъ. Но въ этотъ же первый медовый мѣсяцъ очень скоро наступилъ еще періодъ пресыщенія, опять мы перестали быть нужными другъ другу и произошла другая ссора. Вторая ссора поразила меня еще больше, чѣмъ первая. Стало быть, первая не была случайностью, ошибкой, а такъ и должно быть, такъ и будетъ, думалъ я. Вторая ссора тѣмъ болѣе поразила меня, что она возникла по самому невозможному поводу. Что-то такое изъ-за денегъ, которыхъ я никогда не жалѣлъ и ужъ никакъ не могъ жалѣть для жены. Помню только, что она такъ какъ-то повернула дѣло, что какое-то мое замѣчаніе оказалось выраженіемъ моего желанія властвовать надъ ней черезъ деньги, на которыхъ я утверждалъ свое и исключительное право, что-то невозможно глупое, подлое, неестественное ни мнѣ, ни ей. Я раздражился, сталъ упрекать ее въ неделикатности, она меня, и пошло опять. И въ словахъ, и въ выраженіи ея лица и глазъ я увидалъ опять ту же прежде такъ поразившую меня ненависть. Съ братомъ, съ пріятелями, съ отцемъ, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенной ядовитой злобы, которая была тутъ. Но прошло нѣсколько времени и опять эта взаимная ненависть скрылась подъ влюбленіемъ, т. е. чувственностью, и я еще утѣшался мыслью, что эти двѣ ссоры были ошибки, которыя можно исправить. Но вотъ наступила третья, четвертая ссора и я понялъ, что это не ошибка, а что это такъ должно быть, такъ и будетъ; я уже не ужасался, а только удивлялся одному, почему я именно, я одинъ только такъ дурно, непохоже на то, чего я ожидалъ, живу съ женой, почему этого нѣтъ между другими супругами? Я не зналъ еще тогда, что со всѣми супружествами тоже самое. Но что всѣ, также какъ и я, думаютъ, что это ихъ исключительное несчастіе, скрываютъ это исключительное, постыдное свое несчастье не только отъ другихъ, но и отъ самихъ себя, вродѣ дурной болѣзни, сами себѣ не признаются въ этомъ. Такъ было и со мной. Началось съ первыхъ дней и продолжалось все время, и все усиливаясь и ожесточаясь. Въ глубинѣ души я съ первыхъ же недѣль почувствовалъ, что я попался, что вышло не то, чего я ожидалъ, что женитьба не только не счастье, но нѣчто очень тяжелое, но я, какъ и всѣ, не хотѣлъ признаться себѣ (я бы не признался себѣ и теперь, если бы не конецъ) и скрывалъ не только отъ другихъ, но и отъ себя. Теперь я удивляюсь, какъ я не видалъ своего настоящаго положенія. Его можно бы уже видѣть потому, что ссоры начинались изъ такихъ поводовъ, что невозможно было послѣ, когда онѣ кончались, вспомнить, изъ за чего. Разсудокъ не поспѣвалъ поддѣлать подъ постоянно существующую враждебность другъ къ другу достаточныхъ поводовъ. Какъ это бываетъ у весело смѣющейся молодежи, не успѣвающей придумывать смѣшное, чтобы смѣяться и смѣющейся своему смѣху, такъ и мы, не успѣвши придумать повода для своей ненависти, ненавидѣли другъ друга просто отъ того, что въ душѣ была ненависть другъ къ другу. Но еще поразительнѣе была недостаточность предлоговъ примиренія. Иногда бывали слова, объясненія, даже слезы, но иногда — всегда съ ужасомъ вспоминаю — послѣ самыхъ жестокихъ словъ другъ къ другу, вдругъ молча взгляды, улыбки, поцѣлуи, объясненія. — Фу, мерзость! какъ я могъ не видѣть всей гадости этого тогда….
ХІІІ.
— Всѣ, всѣ, и мущины, и женщины, всѣ мы воспитаны въ какомъ то благоговѣніи къ тому чувству, которое у насъ принято называть любовью. Я съ дѣтства готовился влюбляться и влюблялся и всю молодость влюблялся и радовался, что влюбленъ. Мнѣ было внушено, что это самое благородное и возвышенное въ мірѣ занятіе — быть влюбленнымъ. Ну вотъ, наконецъ, приходитъ это ожидаемое чувство, человѣкъ отдается ему. Но тутъ и обманъ — предполагается въ теоріи любовь идеальная, возвышенная, а на практикѣ любовь вѣдь есть нѣчто мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то такъ и надо понимать. А тутъ напротивъ люди дѣлаютъ видъ, что мерзкое и стыдное — прекрасно и вызвышенно. Буду грубо, коротко говорить. Какіе были первые признаки моей любви? А тѣ, что я предавался животнымъ излишествамъ, не только не стыдясь, но почему-то гордясь ими, почему то гордясь возможностью этихъ физическихъ излишествъ, не думая при томъ нисколько не только о ея духовной жизни, но даже и объ ея физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобленіе другъ къ другу. А дѣло было совершенно ясно. Озлобленіе это было ничто иное, какъ протестъ человѣческой природы противъ животнаго, которое подавляло его. И удивлялся нашей ненависти другъ къ другу. А вѣдь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была ничто иное, какъ ненависть взаимная сообщниковъ преступленія и за подстрекательство и за участіе въ преступленіи. Какъ же не преступленіе, когда она бѣдная забеременѣла въ первый же мѣсяцъ, а наша свиная связь продолжалась. Вы думаете, что я отступаю отъ разсказа? Нисколько! Это я все разсказываю вамъ, какъ я убилъ жену. Дурачье! Думаютъ, я убилъ ее тогда ножемъ, 5-го Октября. Я не тогда убилъ ее, а гораздо прежде, такъ точно, какъ они теперь убиваютъ всѣ, всѣ. Вы поймите, въ нашемъ мірѣ существуетъ раздѣляемый всѣми взглядъ, что женщина даетъ мущинѣ наслажденіе (и обратно вѣроятно, но я этого не знаю, я свое знаю) Wein, Weiber und Gesang, и такъ въ стихахъ поэты говорятъ. Женщина съ виномъ и пѣснями. Да что! возьмите всю поэзію, всю живопись, всю скульптуру, начиная съ ножекъ Пушкина и голыхъ Венеръ и Фринъ, вы видите, что женщина есть орудіе наслажденія: она такова на трубѣ, на Грачевкѣ и на придворномъ балѣ. И замѣтьте хитрость дьявола: ну гадость, такъ такъ бы и знать, что гадость, что женщина сладкій кусокъ. Нѣтъ, сначала рыцари увѣряютъ, что они боготворятъ женщину (боготворятъ, а всетаки смотрятъ на нее, какъ на орудіе наслажденія). Теперь же увѣряютъ, что уважаютъ женщину, одни уступаютъ ей мѣста, поднимаютъ платки, другіе признаютъ ея права на занятіе всѣхъ должностей, на участіе въ правленіи и т. д. Это всѣ дѣлаютъ, а взглядъ на нее все тотъ же. Она орудіе наслажденія. И она знаетъ это. Все равно, какъ рабство. Рабство вѣдь есть ничто иное, какъ пользованіе однихъ трудомъ многихъ. И потому, чтобы рабства не было, надо, чтобы люди не желали пользоваться трудами другихъ, считали бы это грѣхомъ или стыдомъ. А между тѣмъ возьмутъ, отмѣнятъ внѣшнюю форму рабства, устроятъ такъ, что нельзя больше совершать купчихъ на рабовъ и не видятъ и не хотятъ видѣть того, что рабство продолжаетъ быть, потому что люди точно такъ же любятъ и считаютъ хорошимъ и справедливымъ пользоваться трудами другихъ. А какъ скоро они считаютъ это хорошимъ, то всегда найдутся люди, которые сильнѣе или хитрѣе другихъ, которые съумѣютъ это сдѣлать. То же и съ эмансипаціею женщины. Рабство женщины вѣдь только въ томъ, что люди желаютъ и считаютъ очень хорошимъ пользоваться ею, какъ орудіемъ наслажденія. Ну, и вотъ освобождаютъ женщину, даютъ ей всякія права, равныя мущинѣ, но продолжаютъ смотрѣть на нее, какъ на орудіе наслажденія, такъ воспитываютъ ее въ дѣтствѣ и въ общественномъ мнѣніи. И вотъ она все такая же приниженная развращенная раба, а мущина все такой же развращенный рабовладѣлецъ. Да, какъ для уничтоженія рабства нужно, чтобы общественное мнѣніе считало позоромъ пользованіе трудами другихъ людей, для своего удовольствія, такъ и для освобожденія женщины нужно, чтобы общественное мнѣніе считало позорнымъ воззрѣніе на женщину, какъ на орудіе наслажденія. Эмансипація женщины не на курсахъ и не въ палатахъ, а въ спальнѣ. Да, борьба съ проституціей не въ домахъ терпимости, а въ семьяхъ. Освобождаютъ женщину на курсахъ и въ палатахъ, а смотрятъ на нее, какъ на предметъ наслажденія. Научите ее, какъ она научена у насъ, смотрѣть такъ на самое себя — и она всегда останется низшимъ существомъ. Или она будетъ съ помощью мерзавцевъ докторовъ предупреждать зарожденіе плода, т. е. будетъ вполнѣ проститутка, спустившаяся не на степень животнаго, но на ступень вещи, или она будетъ то, что есть въ большей части случаевъ, — больной, душевно-истеричной, несчастной, какія онѣ и есть безъ возможности духовнаго развитія.
— Да отчего же? — спросилъ я.
— Вотъ это то и удивительно, что никто не хочетъ знать того, что должны знать и проповѣдывать доктора, но про что они молчатъ. Мущина хочетъ наслаждаться и знать не хочетъ закона природы — дѣтей, но дѣти являются и становятся препятствіемъ для постояннаго наслажденія и желающему только наслаждаться мущинѣ приходится выдумывать средство обходитъ это препятствіе. И вотъ придумали три обхода. Одинъ — по рецепту мерзавцевъ — сдѣлать жену уродомъ, тѣмъ, что всегда составляло и должно составлять несчастіе женщины — безплодной; тогда онъ можетъ спокойно и постоянно наслаждаться; другой — многоженство; не честное, какъ магометанское, а подлое наше европейское, исполненное лжи и обмана; третій обходъ — даже не обходъ, а простое, грубое, прямое нарушеніе законовъ природы, которое совершаютъ всѣ мужья въ народѣ и большинство мужей въ такъ называемыхъ честныхъ семьяхъ. Такъ жилъ и я. Мы не дошли ни до Европы, до Парижа, до „Zwei Kinder-System“, ни до Магомета и своего ничего не придумали, потому что вовсе и не думали объ этомъ. Чуемъ, что что-то скверное и въ томъ и въ другомъ и хотимъ имѣть семью, но дикій взглядъ на женщину тотъ-же и потому выходитъ еще хуже.
Женщина должна быть у насъ и беременной и любовницей, и кормилицей и любовницей. А силъ не можетъ хватить. И оттого въ нашемъ быту истерика, нервы, а въ крестьянскомъ кликуши. Вы замѣтьте, у дѣвокъ нѣтъ кликушества, только у бабъ, и у бабъ, живущихъ съ мужьями. Ясно отъ чего, и вотъ отъ этого упадокъ духовной и нравственной женщины и ея приниженіе. Вѣдь только подумать, какое великое дѣло совершается въ женщинѣ, когда она носитъ или кормитъ. Растетъ то, что продолжаетъ замѣнять насъ. И это то святое дѣло нарушается…. чѣмъ же? Странно подумать. И толкуютъ о свободѣ, о правахъ женщинъ. Это все равно, что людоѣды откармливали людей плѣнныхъ на ѣду и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣряли бы, что они заботятся о ихъ правахъ и свободѣ.
Все это было ново и поразило меня.
— Такъ какъ-же? Если такъ, — сказалъ я, — то выходитъ, что любить жену можно разъ въ два года, а мущина…
— Мущинѣ необходимо, — подхватилъ онъ. — Опять милые жрецы науки увѣряли насъ всѣхъ. Я бы имъ, этимъ волхвамъ, велѣлъ исполнять должность тѣхъ женщинъ, которыя, по ихъ мнѣнію, необходимы мущинамъ, что бы они тогда заговорили? Внушите человѣку, что ему необходима водка, табакъ, опіумъ — и все это будетъ необходимо. Выходитъ, что Богъ не понималъ того, что нужно и потому, не спросившись у волхвовъ, дурно устроилъ. Извольте видѣть, дѣло не сходится. Мущинѣ нужно, необходимо, такъ рѣшили они, удовлетворять свою похоть, а тутъ замѣшались дѣторожденіе и кормленіе дѣтей, мѣшающія удовлетворенію этой потребности.
— Какъ же быть то? — Обратиться къ волхвамъ, они устроятъ. Они и придумали. Охъ, когда это развѣнчаются эти мерзавцы съ своими обманами! Пора! Дошло уже вотъ докуда, съ ума сходятъ, и стрѣляются, а все отъ этого. Да какъ же иначе?
— Животныя какъ будто знаютъ, что потомство продолжаетъ ихъ родъ и держатся извѣстнаго закона въ этомъ отношеніи. Только человѣкъ этого знать не знаетъ и не хочетъ. И озабоченъ только тѣмъ, чтобы имѣть какъ можно больше удовольствія. И это кто же? Царь природы, человѣкъ. Вѣдь вы замѣтьте, — животныя сходятся только тогда, когда могутъ производить потомство, а поганый царь природы — всегда, только бы пріятно. И мало того — возводитъ это обезьянное занятіе въ перлъ созданія, въ любовь. И во имя этой любви, т. е. пакости, губитъ, что же? Половину рода человѣческаго. Изъ всѣхъ женщинъ, которыя должны бы быть помощницами въ движеніи человѣчества къ истинѣ и благу, онъ во имя своего удовольствія дѣлаетъ не помощницъ, но враговъ. Посмотрите, что тормозитъ повсюду движеніе человѣчества впередъ? Женщина. А отчего онѣ такія? А только отъ этого.
ХІѴ.
— Да, много хуже животнаго человѣкъ, если онъ живетъ не по-человѣчески. И такимъ я былъ. Что-же было всего хуже, это то, что, живя этой скверной жизнью, я воображалъ, что потому, что я не соблазняюсь другими женщинами, что я живу честной семейной жизнью, — что я — нравственный человѣкъ и что я ни въ чемъ не виноватъ, а что если у насъ происходятъ ссоры, то виновата она, ея характеръ. Виновата же была, разумѣется, не она. Она была такая же, какъ и всѣ, какъ большинство. Воспитана она была, какъ того требуетъ положеніе женщины въ нашемъ обществѣ, и потому, какъ и воспитываются всѣ безъ исключенія женщины обезпеченныхъ классовъ и какъ онѣ не могутъ не воспитываться. Какъ часто приходится слышать и читать сужденія о неправильности женскаго воспитанія и о томъ, какъ слѣдуетъ измѣнить его. Но все это пустыя слова. Воспитаніе женщины вытекаетъ изъ истиннаго, а не притворнаго взгляда людей на призваніе женщины. По существующему въ нашемъ обществѣ взгляду — призваніе женщины главное въ томъ, чтобы давать наслажденіе мущинѣ, и такое дается ей воспитаніе. Съ молоду она обучается только тому, чѣмъ она можетъ увеличить свою привлекательность. И всякая дѣвушка пріучается думать только объ этомъ. Какъ крѣпостные были воспитываемы такъ, чтобы умѣть угождать господамъ, и это не могло быть иначе, такъ и всѣ онѣ, наши женщины, воспитываемы такъ, чтобы умѣть привлекать къ себѣ мущинъ, и это не можетъ быть иначе. Но вы скажете, можетъ быть, что это касается только дурно воспитанныхъ дѣвушекъ, то, что у насъ принято презрительно называть барышней, и что есть другое серьезное воспитаніе — гимназія — даже классическая, — акушерство, медицинскіе и высшіе курсы. Это неправда. Всякія, какія-бы то ни были женскія воспитанія, имѣютъ въ виду только плѣненіе мущинъ. Однѣ плѣняютъ музыкой и локонами, а другія ученостью и гражданской доблестью. Цѣль-то одна и не можетъ быть не одна, потому что другой нѣтъ, цѣль прельстить мущину, чтобы овладѣть имъ. Можете вы себѣ представить женскіе курсы и ученость женскую безъ мущинъ, т. е. что онѣ будутъ учены, но мущины не будутъ знать про это? Я не могу. Никакое воспитаніе, никакое образованіе не можетъ измѣнить этого до тѣхъ поръ, пока высшій идеалъ женщины будетъ бракъ, а не дѣвство и свобода отъ чувственности. До тѣхъ поръ она будетъ рабой.
Вѣдь стоитъ подумать только, забывъ про ихъ всеобщность, о тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ воспитывается наша барышня, чтобы не то, что удивляться тому разврату, который царствуетъ среди женщинъ нашихъ обезпеченныхъ классовъ, но чтобы удивляться обратному, какъ еще такъ мало разврата. Вѣдь вы подумайте только: съ ранняго дѣтства наряды, украшеніе себя, чистота, грація, танцы, музыка, чтеніе стиховъ, романовъ, пѣніе, театры, концерты въ наружномъ и внутреннемъ употребленіи, т. е. слушаютъ или сами играютъ. При этомъ полнѣйшая физическая праздность и холя для тѣла, и самая сладкая и жирная пища. Вѣдь мы только не знаемъ этого, потому что все это шито и крыто, что переживаютъ эти несчастныя дѣвушки отъ возбужденія чувственности, изъ 10 — 9 мучаются и страдаютъ невыносимо въ періодъ первой зрѣлости и потомъ, если за 20 лѣтъ не выходятъ замужъ. Вѣдь эго мы только хотимъ не видать, но у кого глаза есть, тотъ видитъ, что большинство этихъ несчастныхъ такъ возбуждены этой скрытой (хорошо, какъ еще скрытой) чувственностью, что онѣ ничего не могутъ дѣлать, онѣ оживляются только въ присутствіи мущинъ. Вся жизнь ихъ проходитъ въ приготовленіяхъ къ кокетству и въ кокетствѣ. При мущннахъ онѣ оживляются черезъ край, начинаютъ жить чувственною энергіею, но стоить уйти мущинѣ — и вся энергія падаетъ и жизнь кончается. И это не то, что извѣстный мущина, а всякій. Только бы онъ не былъ совсѣмъ отвратителенъ. Вы скажете: это исключеніе. Нѣть это правило. Только въ однѣхъ дѣвушкахъ это проявляется сильнѣе, въ другихъ — слабѣе, но всѣ онѣ не живутъ вполнѣ своею жизнью, а только въ зависимости отъ мущинъ. Пока же этого нѣтъ, всѣ онѣ одинаковы и не могутъ не быть одинаковы, потому, что для всѣхъ ихъ привлеченіе къ себѣ какъ можно больше мущинъ есть высшій идеалъ какъ ихъ дѣвичьей, такъ и замужней жизни. И отъ этого у нихъ нѣтъ чувства сильнѣе этого женскаго, не скажу — тщеславія, но животной потребности всякой самки привлекать къ себѣ какъ можно больше самцовъ съ тѣмъ, чтобы имѣть возможность выбора. Такъ это въ дѣвичьей жизни, такъ продолжается и въ замужней. Въ дѣвичьей жизни это нужно для выбора, въ замужней — для властвованія надъ мужемъ. Одно, что прекращаетъ или подавляетъ на время это стремленіе, — это дѣти и то тогда, когда женщина — не уродъ, т. е. сама кормитъ. Но, тутъ опять доктора́.
Съ моей женой, которая сама хотѣла кормить и кормила слѣдующихъ пятерыхъ дѣтей, случилось съ первымъ же ребенкомъ нездоровье. Доктора́ эти, которые цинически раздѣвали и ощупывали ее вездѣ, за что я долженъ былъ благодарить и платить имъ деньги, доктора эти милые нашли, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственнаго средства, которое могло избавить ее отъ кокетства. Кормила кормилица, т. е. мы воспользовались бѣдностью, нуждою и невѣжествомъ женщины, сманили ее отъ ея ребенка къ своему, а за это одѣли ее въ кокошникъ съ галунами. Но не въ этомъ дѣло. Дѣло въ томъ, что въ это время ея свободы отъ беременности и кормленія, въ ней съ особенной силой проявилось прежде заснувшее это самое женское кокетство. И во мнѣ, соотвѣтственно этому съ особенной же силой проявились мученія ревности, которыя я испытывалъ и прежде, но только въ гораздо меньшей степени.
ХѴ.
— Да, ревность — это еще одинъ изъ всѣмъ извѣстныхъ и отъ всѣхъ скрываемыхъ секретовъ супружества. Кромѣ общей причины ненависти другъ къ другу супруговъ, заключающейся въ соучастіи оскверненія человѣческаго существа и еще другихъ причинъ, источникъ постоянной грызни супруговъ между собой есть еще взаимная ревность. Но по взаимному соглашенію рѣшено скрывать это отъ всѣхъ, и такъ и скрывается. Зная это, каждый про себя предполагаетъ, что это только его несчастная особенность, но не общій удѣлъ. Такъ было и со мной. Оно такъ и должно быть. Ревность не можетъ не быть между супругами, безнравственно живущими между собой. Если они оба не могутъ пожертвовать своимъ удовольствіемъ для блага своего ребенка, то оба справедливо заключаютъ, что они никакъ не пожертвуютъ своимъ удовольствіемъ для — не скажу — блага или спокойствія (потому что можно грѣшить такъ, что не узнаютъ), а только для добросовѣстности. Каждый хорошо знаетъ про другого, что сильныхъ нравственныхъ препятствій для измѣны нѣтъ ни у того, ни у другого, знаютъ это потому, что другъ съ другомъ нарушаютъ нравственныя требованія, и потому они не вѣрятъ другъ другу и караулятъ другъ друга.
— Охъ, какое это ужасное чувство — ревность! Я не говорю о той настоящей ревности, которая имѣетъ хоть какое-нибудь основаніе; эта ревность настоящая мучительна, но она имѣетъ и обѣщаетъ исходъ; но я говорю о той безсознательной ревности, которая неизбѣжно сопутствуетъ всякому безнравственному супружеству и которая, не имѣя причины, не имѣетъ и конца. То — нарывъ зубной, а это — одинъ зубъ болитъ своей костяной неподвижной болью, день, ночь и опять день, ночь, и такъ безъ конца. Ревность эта ужасна, именно ужасна. Ревность это такая: молодой мущина говоритъ съ женой, улыбаясь смотритъ на нее и, какъ мнѣ кажется, оглядываетъ ея тѣло. Какъ онъ смѣетъ думать про нее, думать про возможность романа съ ней! И какъ она, видя это, можетъ переносить это? Но она не только переноситъ, она видимо очень довольна. Даже я вижу, что она для него дѣлаетъ то, что она дѣлаетъ. И въ душѣ поднимается такая ненависть къ ней, что всякое слово, всякій жестъ ея — противенъ. Она замѣчаетъ это и не знаетъ, что ей дѣлать, и начинаетъ дѣлать видъ равнодушнаго оживленія. А я страдаю, а ей это-то и весело, она очень довольна! И ненависть удесятеряется, но не смѣешь дать ей хода, потому что въ глубинѣ души знаешь, что настоящихъ поводовъ нѣтъ. И сидишь, притворяешься равнодушнымъ, напускаешь на себя особенное вниманіе и учтивость къ нему. Потомъ самъ на себя сердишься и хочешь выйти изъ комнаты и оставить ихъ однихъ, и дѣйствительно выходишь. Но стоитъ выйти и тебя охватываетъ ужасъ о томъ, что тамъ безъ тебя дѣлается. Входишь опять и придумываешь предлогъ, а иногда не входишь, а останавливаешься у двери и подслушиваешь. Какъ она можетъ такъ унижать себя и меня, ставя — кого же? — меня въ такое подлое положеніе подозрѣванья и подслушиванія! О мерзость! О животное гадкое! А онъ, онъ! Онъ что жъ?! Онъ то, что всѣ мущины, что былъ я, когда не былъ женатъ. Ему это удовольствіе. Онъ даже улыбается, глядитъ на меня, какъ будто говоритъ: „что же дѣлать! теперь мой чередъ“. Ужасно это чувство! Ядовитость этого чувства ужасна: стоило мнѣ излить это чувство хоть разъ на какого-нибудь человѣка, стоило разъ заподозрить человѣка въ замыслахъ на мою жену, и уже на вѣки этотъ человѣкъ былъ для меня испорченъ, точно сѣрной кислотой облитъ. Стоило мнѣ хоть разъ приревновать человѣка, и уже никогда я не могъ возстановить къ нему простыхъ человѣческихъ отношеній. На вѣки ужъ у меня съ нимъ бѣгаютъ мальчики въ глазахъ, когда мы глядимъ другъ на друга.
Жену же, которую я много и много разъ обливалъ этой сѣрной кислотой, этой ревнивой ненавистью, я уже всю изуродовалъ. Въ періодъ этой моей безосновательной ненависти къ ней я всю ее развѣнчалъ, изпозоривъ въ моемъ воображеніи. Я придумывалъ всѣ самыя невозможныя плутни съ ея стороны. Я подозрѣвалъ ее въ томъ, что совѣстно сказать, что она, какъ эта царица тысячи и одной ночи, измѣняетъ мнѣ съ рабомъ почти на моихъ глазахъ, смѣясь надо мною. Такъ что во всякій новый приливъ ревности (я все говорю о безосновательной ревности) я впадалъ въ прорытую уже прежде колею грязныхъ подозрѣніи о ней; и глубже и глубже прорывалъ эту колею. То же думала и она. Если я имѣлъ основанія ревности, то она, зная мое прошедшее, имѣла ихъ въ тысячу разъ больше. И она еще хуже ревновала меня. И страданія, испытываемыя мною отъ ея ревности, были совсѣмъ другія и тоже очень тяжелыя. Это выражалось такъ: живемъ болѣе или менѣе спокойно, я даже веселъ, доволенъ, вдругъ начинается разговоръ о самомъ обыкновенномъ и вдругъ она не соглашается, съ чѣмъ всегда, бывало, соглашалась. Мало того, я вижу, она безъ всякой надобности раздражается. Думаю, что она не въ духѣ или ей точно непріятно то, о чемъ говоримъ. Но начинается разговоръ о другомъ и опять то же, опять цѣпляетъ и опять раздраженіе. Я удивляюсь, ищу — что? отчего? Она молчитъ, отвѣчаетъ односложно или говоритъ, очевидно намекая на что-то. Я начинаю догадываться, что причина та, что я прошелъ по саду съ ея кузиной, о которой я и думать не думалъ, или что-нибудь подобное. Я начинаю догадываться, но сказать это нельзя. Тѣмъ, что я скажу, я подтвержу ея подозрѣнія. Я начинаю допытываться, спрашивать. Она не отвѣчаетъ, а догадывается, что я понимаю, и еще болѣе утверждается въ своихъ подозрѣніяхъ.
— Что съ тобой? — говорю я.
— Ничего. Я такая же, какъ всегда, — говоритъ она, а сама, какъ сумасшедшая говоритъ безсмысленныя, ничѣмъ необъяснимыя злыя слова.
— Терпишь иногда, но иногда прорвется, раздражишься и тогда прорывается и ея раздраженіе и выливается потокъ ругательствъ и какое нибудь уличеніе тебя въ воображаемомъ преступленіи. И все это, доведенное до самой превосходной степени, съ рыданіями, слезами, бѣганіемъ изъ дому въ самыя необычныя мѣста. Начинаешь искать. Совѣстно передъ людьми, дѣтьми, но дѣлать нечего. Она въ такомъ состояніи, что ты чувствуешь — она на все готова. Бѣгаешь за ней, отыскиваешь. Проходятъ мучительныя ночи. И оба съ истерзанными нервами, наконецъ, послѣ самыхъ жестокихъ словъ и обвиненіи, затихаемъ.
— Да-съ, ревность, безосновательная ревность, — это условіе нашей развращенной брачной жизни, и я все время моей женитьбы никогда не переставалъ испытывать ее и мучиться ей. Но были періоды, когда я особенно рѣзко страдалъ этимъ. Это были два періода: одинъ — это былъ послѣ перваго ребенка, когда доктора не велѣли кормить и кормила кормилица, я особенно ревновалъ, во первыхъ потому, что жена испытывала то свойственное матери безпокойство, которое должно вызвать безпричинное нарушеніе правильнаго хода жизни; главное-же потому, что, увидавъ, какъ она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и безсознательно заключалъ, что ей также легко будетъ отбросить и супружескую, тѣмъ болѣе, что она была совершенно здорова и не смотря на запрещеніе милыхъ докторо́въ, кормила слѣдующихъ дѣтей сама и выкормила прекрасно.
— Однако, вы не любите докторо́въ, — сказала, я, замѣтивъ особенно злое выраженіе лица и голоса, всякій разъ какъ онъ упоминалъ только о нихъ.
— Тутъ не дѣло любви и нелюбви. Они погубили мою жизнь, какъ они губили жизнь тысячъ людей, а я не могу не связывать слѣдствія съ причиной. Я понимаю, что имъ хочется такъ же, какъ и адвокатамъ и другимъ наживать деньги, и я бы охотно отдалъ имъ половину своего дохода и каждый, если бы понималъ то, что они дѣлаютъ, охотно бы отдалъ имъ половину своего достатка, только, чтобы они не вмѣшивались въ вашу семейную жизнь, никогда бы близко не подходили къ вамъ. Я вѣдь не собиралъ свѣдѣній, но я знаю десятки случаевъ — ихъ пропасть, — въ которыхъ они убили то ребенка въ утробѣ матери, увѣряя, что мать не можетъ родить, а мать потомъ рожаетъ прекрасно, то матерей подъ видомъ какой-то операціи… Вѣдь никто не считаетъ этихъ убійствъ, какъ не считали убійствъ инквизиціи, потому что предполагалось, что это на благо человѣчества. Перечесть нельзя преступленій, совершаемыхъ ими. Но всѣ эти преступленія — ничто въ сравненіи съ тѣмъ нравственнымъ растлѣніемъ матеріализма, которое они вносятъ въ міръ, особенно черезъ женщинъ. Ужъ не говорю про то, что если только слѣдовать ихъ указаніямъ, то благодаря заразамъ вездѣ, во всемъ, людямъ не надо идти къ единенію, а къ разъединенію. Всѣмъ надо, по ихъ ученію, сидѣть врозь и не выпускать изо рта спринцовки съ карболовой кислотой (впрочемъ нашли, что она не годится). Но и это ничего. Ядъ главный въ развращеніи людей, женщинъ особенно. Ныньче ужъ нельзя сказать: ты живешь дурно, живи лучше, — нельзя этого сказать ни себѣ, ни другому. А если дурно живешь, то причина не въ ненормальности нервныхъ отправленій или т. п. И надо пойти къ нимъ, и они пропишутъ на 35 коп. въ аптекѣ лѣкарства, и вы принимаете. Вы сдѣлаетесь еще хуже, тогда — еще лѣкарство, еще доктора́. Отличная штука!
— Но не въ этомъ дѣло. Я говорилъ про то, что она прекрасно кормила дѣтей и что это кормленіе и ношеніе дѣтей, вообще дѣти, умѣряли мои муки ревности, но за то вызывали другого рода мученія.
ХѴІ.
— Дѣти пошли скоро одинъ за другимъ и пошло все то, что бываетъ въ нашемъ мірѣ съ дѣтьми и съ доктора́ми. Да-съ, материнская любовь къ дѣтямъ — это тоже мудреная вещь. Дѣти для женщины нашего міра не радость, не гордость, не исполненіе призванія, а страхъ, тревога, не перестающее страданіе, казнь; онѣ прямо такъ и говорятъ, такъ и думаютъ, такъ и чувствуютъ. И дѣти для нихъ точно мученіе, не потому, что онѣ не хотятъ рожать, кормить и ходить за ними, онѣ, женщины, съ сильнымъ материнскимъ инстинктомъ, къ которымъ и принадлежала моя жена, готовы на это, но потому, что дѣти могутъ болѣть и умирать. Онѣ не хотятъ рожать для того, чтобы не полюбить, а полюбивъ не бояться за здоровье и жизнь ребенка. Для этого-же онѣ не хотятъ кормить. „Если буду кормить, говорятъ онѣ, я слишкомъ полюблю его, а что какъ онъ умретъ? Оказывается, что имъ бы лучше было, если бы ихъ дѣти были гуттаперчевыя, такія, которыя не могли бы болѣть и умирать, а такія, которыхъ бы всегда можно было починить. Вѣдь, что за путаница въ головахъ и въ сердцахъ этихъ несчастныхъ! Вѣдь для чего дѣлаютъ мерзости, чтобы не рожать? Для того, чтобы не полюбить. Любовь, самое радостное состояніе души, представляется опасностью. А отчего это? Оттого, что когда человѣкъ не живетъ по человѣчески, то ему много хуже животнаго. Вѣдь женщина наша не умѣетъ смотрѣть на ребенка иначе, какъ только какъ на удовольствіе. Больно, правда, рожать, но зато ручки… Ахъ, ручки! Ахъ ножки!… Ахъ, улыбается! Ахъ, все тѣльце! Ахъ и чмокаетъ, икаетъ, однимъ словомъ, животное материнское чувство — чувственность. Мысли-же о томъ таинственномъ значеніи появленія новаго человѣческаго существа, которое замѣнитъ насъ, нѣтъ никакой. Нѣтъ того, что при крещеніи говорятъ и дѣлаютъ надъ ребенкомъ. Вѣдь никто не вѣритъ въ это, а между тѣмъ вѣдь это было ничто иное, какъ напоминаніе о человѣческомъ значеніи младенца. Его бросили, не вѣрятъ, а ничѣмъ не замѣнили, и остались однѣ ленточки, кружева, ручки, ножки. Осталось то, что есть животнаго. Но дѣло въ томъ, что у животнаго нѣтъ воображенія, нѣтъ предвидѣнія, нѣтъ размышленія, нѣтъ докторо́въ, да, опять докторо́въ. У курицы, у коровы — зачичкается цыпленокъ, теленокъ издохнетъ, она поквокчетъ, помычитъ и живетъ дальше. А у насъ заболѣетъ ребенокъ, что такое? какъ лѣчить? гдѣ лѣчить? какого выписывать доктора? куда ѣхать? Ну, а если померъ, гдѣ-же ножки, ручки? Зачѣмъ все это было? Зачѣмъ эти мученья? Корова не спрашиваетъ этого, и вотъ отъ этого дѣти — мученье. У коровы нѣтъ воображенья и потому она не можетъ думать того, какъ бы она могла спасти ребенка, если бы сдѣлала то-то и то-то и поэтому ея горе, сливающееся съ ея физическимъ состояніемъ и продолжающееся опредѣленное короткое время, есть состояніе, а не горе, которое раздувается при праздности и сытости до отчаянія. У нея нѣтъ разсудка, который бы спрашивалъ, зачѣмъ это? зачѣмъ перенесены были всѣ страданія, зачѣмъ моя вся любовь, если они должны умереть? Нѣтъ разсужденія которое говорило-бы, что впредь и не нужно рожать, а если родить нечаянно, не нужно кормить и вообще не нужно любить, а то хуже. А такъ именно разсуждаютъ наши женщины. И выходитъ, что, когда человѣкъ не живетъ какъ человѣкъ, то ему хуже животнаго.
— Да какъ же надо, по вашему, по-человѣчески обращаться съ дѣтьми? — спросилъ я.
— Какъ? любить ихъ человѣчески.
— Ну что же? развѣ матери не любятъ своихъ дѣтей?
— Не любятъ по-человѣчески, почти никогда не любятъ, и поэтому не любятъ даже не по-собачьи. Вѣдь вы замѣтьте: курица, гусыня, волчица всегда будетъ для женщины недосягаемыми образцами животной любви. Рѣдкая женщина бросится съ опасностью жизни на слона отбивать у него своего ребенка, но ни одна курица, ни одна воробьиха даже не преминетъ броситься на собаку и всякая отдаетъ всю себя за дѣтей, тогда какъ женщина рѣдкая это сдѣлаетъ. Вы замѣтьте: женщинѣ-человѣку дана возможность воздержаться отъ физической любви къ дѣтямъ, чего не дано животному. Что-же, развѣ это оттого, что женщина ниже животнаго? Нѣтъ, оттого, что она — выше (да и выше неправильно: не выше, а женщина — другое существо), у нея другія обязанности — человѣческія, она можетъ воздержаться отъ животной любви, перенеся эту любовь на душу ребенка. Это-то свойственно женщинѣ-человѣку и этого-то никогда нѣтъ въ нашемъ мірѣ. Мы читаемъ про героинь матерей, жертвовавшихъ дѣтьми во имя чего то высшаго, и намъ кажется, что это только сказки изъ древняго міра, которыя до насъ не касаются. А между тѣмъ, я думаю, что если у матери нѣтъ того, во имя чего она можетъ пожертвовать животными чувствами къ своему ребенку, если она эту духовную силу, не находящую приложенія, перенесетъ на попытки дѣлать невозможное, физически сохранять своего ребенка, въ чемъ ей будутъ помогать доктора́, то ей будетъ много хуже и она будетъ страдать, какъ она страдаетъ. Такъ было съ моей женой. Одинъ-ли былъ ребенокъ или ихъ было пятеро — это было все равно. Даже лучше немножко, когда ихъ стало пятеро. Вся жизнь была постоянно отравлена страхомъ за дѣтей, дѣйствительными или воображаемыми болѣзнями дѣтей и даже самымъ присутствіемъ дѣтей. Я, по крайней мѣрѣ, все время всей моей женатой жизни постоянно чувствовалъ, что жизнь моя со всѣми моими интересами всегда виситъ на волоскѣ и зависитъ отъ здоровья дѣтей. Дѣти — важное дѣло, что говорить, но вѣдь надо всѣмъ жить! Въ наше же время большимъ уже жить нельзя. Правильной жизни для большихъ нѣтъ: вся жизнь семейная теперь всякую секунду виситъ на волоскѣ, и жизни семейной, жизни супруговъ — нѣтъ. Какое бы у васъ ни было для васъ важное дѣло, если вы вдругъ получаете извѣстіе, что Васю рветъ или Лиза сходила съ кровью, все мгновенно должно быть брошено, забыто, превращено въ ничто. Все ничтожно… Важны только доктора, клистиръ, температура. Не говоря уже о томъ, что никогда вы не начнете разговора, чтобы въ самомъ интересномъ мѣстѣ не прибѣжалъ Петя съ озабоченнымъ видомъ, спрашивая, можно ли ѣсть яблоко или какую надѣвать курточку, или не пришла бы няня съ ревущимъ ребенкомъ. Правильной, твердой семейной жизни нѣтъ. Какъ вы живете и гдѣ вы живете, а потому и чѣмъ занимаетесь, все это зависитъ отъ здоровья дѣтей, а здоровье дѣтей ни отъ кого не зависитъ, а благодаря доктора́мъ, которые говорятъ, что они могутъ помогать здоровью, ваша жизнь всякую минуту можетъ быть вся нарушена. Нѣтъ жизни. Это какая-то вѣчная опасность, вновь отчаянныя усилія и вновь спасеніе, постоянно такое положеніе, какъ на гибнущемъ кораблѣ. Иногда мнѣ казалось, что это нарочно дѣлалось, что она прикидывалась безпокоющейся о дѣтяхъ для того, чтобы побѣдить меня, такъ это заманчиво просто разрѣшало въ ея пользу всѣ вопросы. Мнѣ казалось тогда, что все, что она дѣлала и говорила тогда, она говорила на мой счетъ, но теперь я вижу, что сама она, моя жена, мучилась и казнилась постоянно съ дѣтьми, съ ихъ здоровьемъ и болѣзнями. Это была пытка для нея и для меня тоже. Но кромѣ того, дѣти для нея были еще и средствомъ забыться — пьянствомъ. Часто я замѣчалъ, когда ей очень бывало тоскливо, ей легче становилось, когда заболѣвалъ ребенокъ и она могла уйти въ это опьянѣніе. Но опьянѣніе было невольное. Вѣдь другого ничего не было. И со всѣхъ сторонъ внушалось, что вотъ у Екат. Сем. умерло двое, а у М. Н. докторъ такой-то спасъ, а у тѣхъ сейчасъ разъѣхались по гостинницамъ и тоже спасли. Разумѣется, доктора́ съ значительнымъ видомъ подтверждали все это, поддерживали ее въ этомъ. И она рада-бы не бояться, но докторъ сказалъ какое-нибудь словечко, — зараженіе крови, скарлатина, а помилуй Богъ, дифтеритъ, и все пропало. И нельзя вѣдь иначе. Вѣдь если бы у нихъ была, какъ въ старину у женщинъ, вѣра, что Богъ далъ, Богъ и взялъ, что ангельская душа къ Богу идетъ, что ему, умершему ребенку, лучше умереть невинному, чѣмъ умереть въ грѣхахъ и т. п., чему вѣдь вѣрили люди; если бы у нихъ было что-нибудь подобное этой вѣрѣ, то они могли бы переносить спокойно болѣзни дѣтей, а то вѣдь этого нѣтъ ничего, слѣда нѣтъ. Вѣры въ это нѣтъ. А вѣра должна быть во что нибудь и вотъ онѣ вѣрятъ, слѣпо вѣрятъ въ медицину, и не въ медицину, а въ докторо́въ, — одна въ И. И., другая въ М. Н., и такъ вѣрующія, не видятъ нелѣпости своей вѣры, вѣрятъ quia absurdum. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, если бы онѣ не вѣрили безсмысленно, вѣдь видна-же бы имъ была нелѣпость того, что предписываютъ эти разбойники. Скарлатина — заразительная болѣзнь, для этого надо въ большомъ городѣ переѣзжать изъ своего дома въ гостинницу половинѣ семьи (мы такъ два раза переѣзжали). Но вѣдь всякій человѣкъ въ городѣ — это центръ проходящихъ черезъ него безчисленныхъ діаметровъ, несущихъ нити всякой заразы, и преграды нѣтъ никакой: хлѣбникъ, портной, извощикъ, прачки. Такъ что я берусь для каждаго, переѣхавшаго изъ своего дома отъ извѣстной ему заразы въ другое мѣсто — въ этомъ другомъ мѣстѣ найти столь-же близкую другую или ту-же заразу. Но этого мало. Всѣ знаютъ богачей, послѣ дифтерита въ домѣ истребляющихъ все и во вновь отдѣланныхъ домахъ заболѣвающихъ, и всѣ знаютъ десятки людей, вмѣстѣ съ больными не заражающихся. Ну, да все вѣдь стоитъ только послушать. Одна говоритъ другой, что ея докторъ хорошій. Другая отвѣчаетъ: „помилуйте, онъ уморилъ того-то и того-то“. И наоборотъ. Ну, приведите къ барынѣ уѣзднаго доктора, она не повѣритъ ему; привезите въ каретѣ такого, который точно то-же знаетъ, по такимъ-же книгамъ и опытамъ лѣчитъ и скажетъ, что ему надо заплатить 100 рублей — она повѣритъ.
Все дѣло въ томъ, что наши женщины — дикія. Нѣтъ у нихъ вѣры въ Бога и потому однѣ вѣрятъ въ порчу, которую напускаютъ злые люди, а другія — въ доктора И. И. за то, что беретъ дорого за визиты. Кабы была у нихъ вѣра, такъ онѣ-бы знали, что скарлатины и т. п. совсѣмъ не такъ страшны, потому что отъ нихъ не можетъ нарушиться то, что можетъ и долженъ любить человѣкъ — душа, а можетъ произойти то, чего никто изъ насъ не можетъ избѣжать — болѣзни и смерть, а то какъ нѣтъ вѣры въ Бога, онѣ и любятъ только физически и вся энергія ихъ направлена на то, чтобы сохранить жизнь, то, чего нельзя и что только доктора́ увѣряютъ дураковъ и въ особенности дуръ, что они могутъ спасти. Ну и надо ихъ звать.
Такъ что присутствіе дѣтей не только не улучшило нашихъ отношеній, не соединяло, а напротивъ разъединяло насъ. Дѣти — это былъ только новый поводъ къ раздору. Съ тѣхъ поръ какъ были дѣти и чѣмъ больше они росли, тѣмъ чаще именно сами дѣти были орудіемъ борьбы, мы какъ будто дрались другъ съ другомъ дѣтьми. У каждаго изъ насъ былъ свой любимецъ ребенокъ, какъ орудіе драки. Я дрался больше Васей (старшимъ), а она Лизой. Кромѣ того, когда дѣти стали подростать и опредѣлились ихъ характеры, сдѣлалось то, что они стали союзниками, которыхъ мы привлекали каждый на свою сторону. Они страшно страдали отъ этого, бѣдняжки, но намъ въ нашей постоянной вознѣ не до того было, чтобы думать о нихъ. Дѣвочка была моя сторонница, мальчикъ же старшій, похожій на нее, ея любимецъ, часто былъ ненавистенъ мнѣ.
ХѴІІ.
— Мы жили сначала въ деревнѣ, потомъ въ городѣ. И если бы не случилось того, что случилось, и я такъ-же бы прожилъ еще до старости, я такъ бы и думалъ, умирая, что я прожилъ хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, какъ всѣ; я бы не понималъ той бездны несчастія и той гнусной лжи, въ которой я барахтался, но чувствовалъ, что что-то не ладно. Чувствовалъ я главное то, что я — мущина, который, по моимъ понятіямъ, долженъ былъ властвовать, что я попалъ, какъ говорятъ, подъ башмакъ и никакъ не могу изъ-подъ него выскочить. Главное, что держало меня подъ этимъ башмакомъ — это были дѣти. Я хотѣлъ подняться, утвердить свою власть, но никакъ это не выходило. У нея были дѣти и, опираясь на нихъ, она властвовала. Я не понималъ тогда того, что ей нельзя было не властвовать, главное потому, что она, выходя замужъ, нравственно была несравненно выше меня, какъ и всегда всякая дѣвушка несравненно выше мущины, потому что несравненно чище его. Вы замѣтьте удивительную вещь: женщина наша, средняя женщина нашего круга, большею частью очень плохое существо безъ нравственныхъ основъ, эгоистка, болтунья, самодурка, но дѣвушка, рядовая дѣвушка до 20-ти лѣтъ большею частью прелестное существо, готовое на все, самое прекрасное и высокое. Отчего это? Ясно, что это оттого, что мужья развращаютъ, нравственно принижаютъ своихъ женъ до своего уровня. Въ самомъ дѣлѣ, если мальчики и дѣвочки родятся одинаково, то всетаки преимущество дѣвушекъ огромно. Вопервыхъ, дѣвушка не подвергается тѣмъ развращающимъ условіямъ, которымъ подвергаемся мы; у нея нѣтъ ни куренія, ни вина, ни картъ, ни учебныхъ заведеній, ни товарищества, ни службы, а вовторыхъ и главное — она плотски чиста. И потому дѣвушка, выходя замужъ, всегда выше своего мужа. Она выше мущины и дѣвушкой и, становясь женщиной въ нашемъ быту, гдѣ для мущины нѣтъ необходимости непосредственнаго добыванія пропитанія, становится большею частью и выше его по важности того дѣла, которое она дѣлаетъ, когда начинаетъ рожать и кормить. Женщина, рожая и кормя, ясно видитъ, что дѣло ея болѣе важно, чѣмъ дѣло мущины, засѣдающаго въ земскомъ собраніи, въ судѣ, въ сенатѣ. Она знаетъ, что во всѣхъ этихъ дѣлахъ важно одно — получить за это деньги. Деньги-же получить можно различными другими способами и потому самое дѣло не есть несомнѣнно необходимое, какъ кормленіе ребенка. Такъ что женщина непремѣнно выше мущины и должна властвовать надъ нимъ. Мущина-же нашего круга не только не признаетъ этого, но, напротивъ, всегда смотритъ на женщину съ высоты своего величія, презирая ея дѣятельность.
Такъ моя жена презирала меня съ моей земской дѣятельностью на основаніи того, что она рожаетъ и кормитъ дѣтей. Я же, поддерживаемый установившимися взглядами мущинъ, я считалъ, что бабья возня: пеленки, сиськи, соски, соски, какъ я это шутливо называлъ, — есть дѣятельность самая презрѣнная, надъ которой можно и должно подтрунивать. „Бабы тамъ знаютъ, какъ управиться.“ Такъ что кромѣ всѣхъ другихъ насъ еще раздѣляло взаимное презрѣніе. Отношенія становились все враждебнѣе, и, наконецъ, дошло до того, что уже не разногласіе производило враждебность, но враждебность производила разногласіе. Чтобы она ни сказала, я уже впередъ былъ несогласенъ, и точно также и она. На 4-й годъ съ обѣихъ сторонъ рѣшено было какъ-то само собой, что общенія духовнаго нѣтъ и не можетъ быть, и не дѣлалось уже попытокъ. О самыхъ простыхъ вещахъ мы оставались неизмѣнно каждый при своемъ мнѣніи, не пытались даже убѣдить другъ друга. Съ самыми посторонними лицами и я и она — говорили о разнообразныхъ и задушевныхъ предметахъ, но не между собой. Иногда слушая, какъ она при мнѣ говорила съ другими, я говорилъ себѣ: какова! и все лжетъ! И я удивлялся, какъ собесѣдникъ ея не видѣлъ, что она лжетъ. Вдвоемъ мы почти были обречены на молчаніе или на такіе разговоры, которые — я увѣренъ — животныя могутъ вести между собой: „который часъ? Пора спать? Какой ныньче обѣдъ? Куда ѣхать? Что написано въ газетѣ? Послать за докторомъ; горло болитъ у Лизы.“
Стоило на волосокъ выступить изъ этого, до невозможно съузившагося кружка разговоровъ, чтобы вспыхнуло раздраженіе. Присутствіе 3-го лица облегчало насъ. Черезъ 3-ье лицо мы еще кое-какъ общались. Она считала себя всегда совершенно, вѣроятно, правой передо мной, а ужъ я для себя всегда былъ святъ передъ нею въ своихъ глазахъ.
Періоды того, что мы называли любовью, приходили такъ-же часто, какъ и прежде, но они были голѣе, грубѣе, безъ всякаго прикрытія. Но періоды эти были непродолжительны и тотчасъ смѣнялись періодами злобы безъ всякой причины, злобы, питаемой самыми непонятными предлогами. Выходили стычки и выраженія ненависти за кофе, скатерть, пролетку, за ходъ въ винтъ, все дѣла, которыя ни для того, ни для другого не могли имѣть никакой важности. Во мнѣ, по крайней мѣрѣ, ненависть къ ней кипѣла страшная. И смотрѣлъ какъ она наливала чай, махала ногой, подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала въ себя жидкость, и ненавидѣлъ и за это, какъ за самый дурной поступокъ. Я не замѣчалъ тогда, что періоды злобы возникали совершенно правильно и равномѣрно, соотвѣтственно періодамъ того, что мы называемъ любовью. Періодъ любви, — періодъ злобы; энергическій періодъ любви, длинный періодъ злобы; болѣе слабое проявленіе любви — короткій срокъ злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были то-же самое животное чувство, только съ разныхъ концовъ. Жить такъ было-бы ужасно, если-бы мы понимали свое положеніе; но мы не понимали, не видѣли его. Въ этомъ и спасеніе, и казнь человѣка, что, когда онъ живетъ неправильно, онъ можетъ себя затуманивать, чтобы не видѣть бѣдственности своего положенія. Такъ дѣлали и мы. Она старалась забыться напряженными, всегда поспѣшными занятіями: хозяйствомъ, обстановкой, наградами — своими и дѣтей, ученіемъ и — главное — здоровьемъ дѣтей. Все это были занятія, не вытекающія изъ прямой потребности, а относилась она къ нимъ всегда такъ, что какъ будто жизнь ея и дѣтей зависитъ отъ того, что пирожки къ супу не будутъ подожжены, что не будетъ повѣшена гардина, окончено платье, выученъ урокъ и принято такое-то лѣкарство. Мнѣ ясно было, что все это было для нея — главное средство забвенія, пьянствомъ такимъ, какимъ для меня было пьянство службы, охоты, картъ; правда, у меня было, кромѣ этого, въ прямомъ смыслѣ пьянство: табакомъ, котораго я выкуривалъ пропасть, и виномъ, которымъ я не напивался, но котораго я выпивалъ — передъ ѣдой водку, да за ѣдою стакана два вина, такъ что постоянный туманъ застилалъ отъ насъ неладность нашей жизни.
Эти новыя теоріи гипнотизма, душевныхъ болѣзней, истеричности — все это не простая, а вредная, гадкая глупость. Про жену мою Шарко непремѣнно бы сказалъ, что она была истерична, а про меня сказалъ бы, что я не нормаленъ и, пожалуй, сталъ бы лѣчить. А лѣчить тутъ нечего было. Вся эта душевная болѣзнь наша происходила просто отъ того, что мы жили безнравственно. Отъ безнравственной жизни намъ было больно, а чтобы заглушить эту боль, мы и дѣлали различнаго рода ненормальные поступки, — то самое, что эти доктора называютъ признаками душевной болѣзни, истеричностью. Лѣченіе этихъ болѣзней не у Шарко, не у нихъ. Никакими внушеніями и бромами этого вылѣчить нельзя, а надо ясно увидать, отъ чего боль — все равно, какъ на гвоздь сѣлъ: увидишь гвоздь, увидишь, что неправильно въ твоей жизни, и перестанешь дѣлать, прекратится боль и нечего будетъ заглушать. Отъ неправильности нашей жизни была боль: и мои муки ревности, и моя раздражительность, и моя потребность поддерживанія себя охотой, картами и — главное — виномъ и табакомъ въ постоянномъ состояніи опьяненія. Отъ этой-же неправильности было: ея страстность отношенія ко всѣмъ занятіямъ, ея измѣнчивость настроенія — то мрачности, то странной веселости, — ея болтливость все это вытекало изъ потребности постояннаго отвлеченія вниманія отъ себя самой, отъ своей жизни: постоянное опьяненіе какими-нибудь дѣлами, которыя всегда бывали къ спѣху. Такъ мы и жили въ постоянномъ туманѣ, не видя того положенія, въ которомъ находились. Мы были два ненавидящихъ другъ друга колодника, связанные одной цѣпью, отравляющіе жизнь другъ друга и старающихся не видѣть этого. Я еще не внялъ тогда, что 0,99 супружествъ живутъ въ такомъ же аду, какъ и я жилъ и что это не можетъ быть иначе. Тогда я еще не зналъ этого — ни про другихъ, ни про себя. Удивительно, какія совпаденія въ правильной и даже въ неправильной жизни! Какъ разъ, когда родителямъ становится жизнь невыносимой другъ отъ друга, необходимы дѣлаются и городскія условія для воспитанья дѣтей. И вотъ является потребность переѣзда въ городъ.
— Такъ и съ нами случилось, и мы переѣхали въ городъ.
Онъ замолчалъ и раза два издалъ странные звуки, которые теперь уже совсѣмъ похожи были на сдержанныя рыданія. Потомъ онъ выпилъ залпомъ оставшійся стаканъ чаю и продолжалъ.
ХѴІІІ.
— Ну, мы стали жить въ городѣ. Въ городѣ несчастливымъ людямъ жить лучше. Въ городѣ человѣкъ можетъ прожить сто лѣтъ и не хватиться того, что онъ давно умеръ и сгнилъ. Разбираться самимъ собой некогда, все занято: дѣло, общественныя отношенія, здоровье, искусство, здоровье дѣтей и ихъ воспитаніе; то надо принимать тѣхъ и этихъ, ѣхать къ тѣмъ и этимъ, то надо посмотрѣть эту, послушать этого или эту. Вѣдь въ городѣ во всякій данный моментъ есть одна, а то сразу двѣ-три знаменитости, которыхъ нельзя никакъ пропустить. То надо лѣчить себя, того или этого, то учителя́, репетиторы, гувернантки, а жизнь пустымъ пустехонька. Ну, такъ мы и жили — и меньше чувствовали боль отъ сожитья. Кромѣ того, первое время было чудесное занятіе: устройство въ новомъ городѣ, на новой квартирѣ, и еще занятіе переѣздовъ изъ города въ деревню, и изъ деревни въ городъ.
Прожили одну зиму, и въ другую зиму случилось еще слѣдующее, — никому незамѣтное, кажущееся ничтожнымъ обстоятельство, но такое, которое произвело все то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы не велѣли ей рожать и научили средству. Мнѣ это было отвратительно. Я боролся противъ этого, но она съ легкостью, но съ упорствомъ настояла на томъ, я покорился; послѣднее оправданіе свиной жизни — дѣти — было отнято, и жизнь стала еще гаже.
Мужику работнику дѣти нужны, и потому его супружескія отношенія имѣютъ оправданіе. Намъ-же людямъ, имѣющимъ дѣтей, еще дѣти не нужны, они лишняя забота, расходъ, сонаслѣдники, они тягость. И оправданій свиной жизни для насъ нѣтъ никакихъ. Но мы такъ нравственно пали, что мы даже не видимъ надобности въ оправданіи. Большинство теперешняго образованнаго міра предается этому разврату безъ малѣйшаго угрызенія совѣсти. Почему угрызать, потому что совѣсти въ нашемъ быту нѣтъ никакой, кромѣ, если можно такъ назвать, совѣсти общественнаго мнѣнія и уголовнаго закона. А тутъ и та и другая не нарушаются : совѣститься передъ обществомъ нечего — всѣ это дѣлаютъ — и М. И. и И. З. А то что-жъ разводить нищихъ или лишать себя возможности общественной жизни. Совѣститься передъ уголовнымъ закономъ или бояться его тоже нечего. Это безобразныя дѣвки и солдатки бросаютъ дѣтей въ пруды и колодези, — тѣхъ, понятно, надо сажать въ тюрьму; а у насъ все дѣлается современно и чисто.
Такъ прожили мы еще два года. Средство мерзавцевъ, очевидно, начинало дѣйствовать: она физически раздобрѣла и похорошѣла, какъ послѣдняя красота лѣта. Она чувствовала это и занималась собой. Въ ней сдѣлалась какая то вызывающая красота, безпокоющая людей. Она была во всей силѣ 30-ти лѣтней нерожающей, раскормленной и — раздраженной женщины. Видъ ея наводилъ страхъ: вродѣ какъ застоявшаяся, горячая, запряженная лошадь, съ которой сняли узду. Узды не было никакой и нѣтъ никакой у 0,99 нашихъ женщинъ. И я чувствовалъ это.
ХІХ.
Лицо его стало совсѣмъ другое, глаза жалкіе, совсѣмъ чужіе, носу почти нѣтъ, и усы и борода поднялись къ самымъ глазамъ, и ротъ сталъ огромный, страшный.
— Да-съ, такъ она пополнѣла съ тѣхъ поръ, какъ перестала рожать, и болѣзнь эта — страданіе вѣчное о дѣтяхъ — стала проходить. Не то, что проходить, а она какъ будто очнулась отъ пьянства, опомнилась, увидала, что есть цѣлый міръ Божій съ его радостями, про которыя она забыла, но въ которомъ она жить не умѣла, міръ Божій, котораго она совсѣмъ не понимала. „Какъ бы не пропустить! Уйдетъ — время — не воротишь!“ Такъ мнѣ представляется, что она думала или скорѣе чувствовала, да и нельзя ей было думать и чувствовать иначе: ее воспитали на томъ, что есть въ мірѣ только одно, достойное вниманія, — любовь. Она вышла замужъ, получила кое-что изъ этой любви, но не только далеко не то, что обѣщалось и что ожидалось, но и много разочарованій и страданій, и тутъ-же неожиданную муку — дѣтей. Мука эта изтомила ее и вотъ, благодаря услужливымъ докторамъ, она узнала, что можно обойтись и безъ дѣтей. Она обрадовалась, испытала это и ожила и опять для одного этого, что она знала — для любви. Но любовь съ огаженнымъ, и ревностью, и всякой злостью, мужемъ была уже не то. Ей стало представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь, — по крайней мѣрѣ, я такъ думалъ про нее. И вотъ она стала оглядываться, какъ будто ожидая чего-то. Я видѣлъ это и не могъ не тревожиться. Сплошь да рядомъ стало случаться то, что она, какъ и всегда, разговаривая со мной черезъ посредство другихъ, т. е. говоря съ посторонними, но обращая рѣчь ко мнѣ, выражала смѣло, совсѣмъ не думая о томъ, что она часъ тому назадъ говорила противоположное, — выражала полушутливо, полусерьезно мысль, что материнская забота — это обманъ, что не сто́итъ того отдавать свою жизнь дѣтямъ, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась дѣтьми меньше, не съ такимъ отчаяніемъ, какъ прежде, но больше и больше занималась собой, своей наружностью — хотя она и скрывала это — и своими удовольствіями и даже усовершенствованіемъ себя. Она опять съ увлеченіемъ взялась за фортепьяно, которое прежде было совершенно брошено. Съ этого все и началось.
— Явился этотъ человѣкъ… — (Онъ замялся и раза два произвелъ носомъ свои особенные звуки). Я думалъ, что ему мучительно было называть этого человѣка, вспомнить, говорить о немъ. Но онъ сдѣлалъ усиліе и, какъ будто прорвавъ то препятствіе, которое мѣшало ему, рѣшительно продолжалъ.
— Дряной онъ былъ человѣкъ, — на мои глаза, на мою оцѣнку, и не потому, какое онъ значеніе получилъ въ моей жизни, а потому, что онъ дѣйствительно былъ такой. Впрочемъ то, что онъ былъ плохъ, служило только доказательствомъ того, что невмѣняема была она. Да-съ, это былъ музыкантъ, скрипачъ, непрофесіональный музыкантъ, а полупрофесіональный, полуобщественный человѣкъ. Отецъ его — помѣщикъ, сосѣдъ моего отца. Онъ, отецъ, разорился и дѣти — три было мальчика — всѣ устроились; одинъ только меньшой — этотъ — отданъ былъ своей крестной матери въ Парижъ. Тамъ его отдали въ консерваторію, потому что былъ талантъ къ музыкѣ, и онъ вышелъ оттуда скрипачемъ и игралъ въ концертахъ.
Очевидно желая сказать, что-то дурное про него, онъ воздержался, остановился и быстро сказалъ :
— Ну, ужъ тамъ я не знаю, какъ онъ жилъ; знаю только, что въ этотъ годъ онъ явился въ Россію и явился ко мнѣ. Миндалевидные влажные глаза, красныя, улыбающіяся губы, нафиксетуаренные усики, прическа послѣдняя, модная. Лицо по́шло-хорошенькое, то, что женщины называютъ недуренъ, сложенія слабаго, хотя и не уродливаго, съ особенно развитымъ задомъ, какъ женщины. Приличный, знаете, лѣзущій въ фамильярность, на сколько возможно, но чуткій и всегда готовый остановиться при малѣйшемъ отпорѣ, но съ соблюденіемъ внѣшняго достоинства и съ тѣмъ особеннымъ парижскимъ оттѣнкомъ ботинокъ съ пуговицами и яркихъ цвѣтовъ галстуховъ и другого, что усвоиваютъ себѣ иностранцы въ Парижѣ и что по своей особенной новизнѣ всегда дѣйствуетъ на женщинъ. Въ манерахъ — дѣланная внѣшняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками, какъ будто вы все это знаете, помните и можете сами дополнить. Вотъ онъ-то съ своей музыкой и былъ причиной всего. Вѣдь на судѣ было представлено дѣло такъ, что все случилось изъ ревности. Ничуть не было, т. е. не то, что ничуть не бывало, а то, да не то. На судѣ такъ и рѣшено было, что я — обманутый мужъ и что я убилъ, защищая свою поруганную честь, (такъ вѣдь это и называется по ихнему) и поэтому меня оправдали. И на судѣ старался выяснить смыслъ, но они понимали такъ, что я хочу реабилитировать честь жены. Отношенія ея съ этимъ музыкантомъ, какія бы они ни были, для меня это не имѣетъ смысла, да и для нея тоже. Имѣетъ же смыслъ то, что явился этотъ человѣкъ въ то время, когда между нами была та страшная пучина, о которой я вамъ говорилъ, то страшное напряженіе взаимной ненависти другъ къ другу, при которой перваго повода было достаточно для произведенія кризиса. Ссоры между нами становились въ послѣднее время чѣмъ-то страшнымъ и были особенно поразительны, смѣняясь тоже напряженной животной страстью.
Если бы явился не онъ, то другой бы явился. Если бы не предлогъ ревности, то другой. И настаиваю на томъ, что всѣ мужья, живущіе на тѣхъ-же основахъ брака, какъ я жилъ, должны или распутничать, или разойтись, или убить самихъ себя, или своихъ женъ, — какъ я сдѣлалъ. Если съ кѣмъ этого не случилось, то это особенно рѣдкое исключеніе. Я вѣдь прежде, чѣмъ кончить, какъ я кончилъ, былъ нѣсколько разъ на краю самоубійства, а она тоже отравлялась.
ХХ.
— Чтобы все понять, надо разсказать, какъ это бывало. Ну вотъ, живемъ мы: все кажется хорошо. Вдругъ начинается разговоръ о воспитаніи дѣтей. Не помню, какія слова я сказалъ или она, но начинается споръ, пререканія. Начинается перепрыгиваніе съ одного предмета на другой, попреки : „ну, да это давно извѣстно, всегда такъ“, „ты сказалъ“, „нѣтъ, я не говорилъ“, „стало быть, я лгу?“ и т. д. Чувствуешь, что вотъ начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчасъ начнется, и боишься этого, какъ огня, и потому хотѣлъ бы удержаться, но злоба охватываетъ все твое существо. Она въ томъ-же, еще худшемъ положеніи и понимаетъ, но нарочно перетолковываетъ всякое твое слово, каждое же ея слово пропитано ядомъ: все, что только мнѣ дорого, — все это она срамитъ и поганитъ. Дальше, больше; я кричу: „молчи!“ или что-то въ этомъ родѣ. Она выскакиваетъ изъ комнаты, бѣжитъ въ дѣтскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать, и схватываю ее за руку и дѣлаю ей больно. Она кричитъ: „дѣти! вашъ отецъ бьетъ меня!“ Я кричу: „не лги!“. Она продолжаетъ говорить что-то лживое, только для того, чтобы уязвить меня: „вѣдь это уже не въ первый разъ“, или что-нибудь подобное. Дѣти бросаются къ ней. Она успокаиваетъ ихъ. Я говорю: „не притворяйся“. Она говоритъ: „для тебя все притворство: ты убьешь человѣка и будешь говорить, что онъ притворяется. Теперь я поняла тебя: ты этого не хочешь“. „О, хоть бы ты издохла!“ кричу я. Помню я, какъ ужаснули меня эти страшныя слова. Я никакъ не ожидалъ, чтобы я могъ сказать такія страшныя, грубыя слова и удивляюсь тому, что они могли выскочить у меня. Я кричу эти страшныя слова и убѣгаю въ кабинетъ, сажусь и курю. Слышу, что она выходитъ въ переднюю и собирается уѣзжать. Я спрашиваю: „куда?“ Она не отвѣчаетъ. „Ну и чертъ съ ней“, говорю я себѣ, возвращаясь въ кабинетъ, и опять ложусь и курю. Тысячи разныхъ плановъ о томъ, какъ я, избавившись отъ нея, — и какъ все это будетъ прекрасно! — сойдусь съ другой прекрасной женщиной, совсѣмъ новой! Избавлюся тѣмъ, что она умретъ, или тѣмъ, что разведусь и придумываю, какъ это сдѣлать. Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно, но и для того, чтобы не видѣть, что я не то думаю, что нужно, — для этого я курю.
А жизнь дома идетъ. Приходитъ гувернантка, спрашиваетъ: „ou est madame?“ Когда вернется? Лакей спрашиваетъ, Подавать-ли чай. Прихожу въ столовую: дѣти — Лиза — старшая съ ужасомъ, вопросительно смотритъ на меня. А ее все нѣтъ; и два чувства смѣняются въ душѣ: ненависть къ ней за то, что она мучитъ меня и дѣтей своимъ отсутствіемъ, которое кончится же тѣмъ, что она пріѣдетъ, и страхъ того, что она пріѣдетъ и что нибудь сдѣлаетъ надъ собой. Но гдѣ искать ее? У сестры? Но это глупо — пріѣхать спрашивать. Да и Богъ съ ней; если она хочетъ мучить, пускай сама мучается. А что, какъ она не у сестры, а что-нибудь сдѣлаетъ или уже сдѣлала? 11, 12, 1 — не сплю, нейду въ спальню — глупо одному тамъ лежать и ждать; и тутъ не ложусь, хочу чѣмъ нибудь заняться: написать письма, читать — ничего не могу! сижу одинъ въ кабинетѣ, мучаюсь, злюсь, прислушиваюсь. Ея нѣтъ. Къ утру засыпаю. Просыпаюсь — ея нѣтъ. Все въ домѣ идетъ по старому, но все въ недоумѣніи, вопросительно, а дѣти укоризненно смотрятъ на меня. И опять то же чувство безпокойства за нее и ненависти за это самое безпокойство. Около 11-ти пріѣзжаетъ ея сестра — посолъ отъ нея. И начинается обычное: „она въ ужасномъ положеніи“, „ну что же это?“ „да вѣдь ничего не случилось“. Я говорю про невозможность ея характера и говорю, что я ничего не сдѣлалъ и перваго шага не сдѣлаю. Разводъ, такъ разводъ! Своячница не допускаетъ этой мысли и — такъ уѣзжаетъ ни съ чѣмъ. На меня находитъ упрямство и я смѣло сказалъ, говоря съ ней, что не сдѣлаю перваго шага; но какъ она уѣхала и я вышелъ и увидѣлъ дѣтей жалкихъ, испуганныхъ, я уже готовъ дѣлать первый шагъ. Но я связалъ себя своими словами. Опять хожу, курю, выпиваю за завтракомъ водки и вина и достигаю того, чего безсознательно желаю, — не вижу глупости, подлости своего положенія. Около 3-хъ пріѣзжаетъ она. Встрѣчая меня, она ничего не говоритъ. Я воображаю, что она смирилась, начинаю говорить о томъ, что я былъ вызванъ ея укоризнами. Она съ тѣмъ же строгимъ и страшно измученнымъ лицомъ говоритъ, что она пріѣхала не объясниться, а взять дѣтей; что жить вмѣстѣ мы не можемъ. Я начинаю говорить, что виноватъ не я, что она вывела меня изъ себя. Она строго-торжественно глядитъ на меня и потомъ говоритъ: „не говори больше, — ты раскаешься“. Я говорю, что терпѣть не могу комедій, тогда она выкрикиваетъ что-то, чего я не понимаю, и убѣгаетъ въ свою комнату. И за ней звенитъ ключъ, она заперлась. Я толкаюсь — нѣтъ отвѣта. Я съ злостью отхожу. Черезъ полчаса Лиза прибѣгаетъ въ слезахъ. „Что? что-нибудь сдѣлалось?“ — „Мамы не слышно.“ Идемъ. Я дергаю изо всѣхъ силъ дверь. Задвижка плохо задвинута, и обѣ половины отворяются. Я подхожу къ кровати. Она въ юбкахъ и высокихъ ботинкахъ лежитъ неловко на кровати безъ чувствъ. На столѣ пустая склянка съ опіемъ. Приводимъ въ чувство. Слезы и, наконецъ, примиреніе. Не примиреніе: въ душѣ, очевидно, у каждаго злоба другъ противъ друга, но надо же какъ-нибудь все это кончить пока, и жизнь идетъ по старому. Такъ, такія-то ссоры и хуже были безпрестанно; то разъ въ недѣлю, то разъ въ мѣсяцъ, то каждый день. И все одно и то же, одинъ раза, я совсѣмъ хотѣлъ бѣжать, но опять по какой-то слабости остался.
Тикъ вотъ, въ такихъ-то мы были отношеніяхъ, когда явился этотъ человѣкъ. Правда, человѣкъ дряной, но что же — такой же, какъ всѣ мы.
ХХІ.
Пріѣхавъ въ Москву, этотъ господинъ, — фамилія его Трухачевскій, — явился ко мнѣ; это было утромъ. Я принялъ его. Были мы когда-то на ты. Онъ попытался срединными фразами между ты и вы удержаться на ты, но я далъ прямо тонъ на вы и онъ тотчасъ же подчинился. Онъ мнѣ очень не понравился; съ перваго взгляда я понялъ, что это былъ грязный блюдникъ, и сталъ ревновать его еще прежде, чѣмъ увидалъ жену. Но странное дѣло: — какая-то странная, роковая сила влекла меня къ тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротивъ, приблизить. Вѣдь что могло быть проще того, чтобы поговорить съ нимъ, холодно проститься, не знакомя съ женой? Но нѣтъ, я какъ нарочно, заговорилъ объ его игрѣ. Онъ сказалъ, что — напротивъ того, что я слышалъ, что онъ бросилъ скрипку, — онъ играетъ теперь больше прежняго. Онъ сталъ вспоминать о томъ, что я игралъ прежде. Я сказалъ, что не играю больше, но что жена моя хорошо играетъ.
— Удивительное дѣло! отчего въ важныхъ событіяхъ нашей жизни, въ тѣхъ, въ которыхъ рѣшается судьба человѣка, какъ для меня она рѣшилась тогда, — отчего въ этихъ дѣлахъ нѣтъ ни прошедшаго, ни будущаго? Мои отношенія къ нему въ первый день, въ первый часъ моего свиданія съ нимъ были такія, какія они могли быть только послѣ всего, что случилось. У меня было сознаніе страшнаго бѣдствія, связаннаго съ этимъ человѣкомъ. Но, не смотря на это, я не могъ не быть ласковъ съ нимъ. Я представилъ его женѣ; она видимо обрадовалась, вѣроятно, сначала только потому, что будетъ имѣть удовольствіе играть со скрипкой, — что она очень любила, такъ что нанимала для этого скрипача изъ театра. Но увидавъ меня, она тотчасъ же поняла мое чувство и измѣнила свое выраженіе и — началась эта игра взаимнаго обманыванія. Я пріятно улыбался, дѣлая видъ, что мнѣ очень пріятно.
Онъ, глядя на жену такъ, какъ смотрятъ всѣ блудники на красивыхъ женщинъ, дѣлалъ видъ, что его интересуетъ только предметъ разговора, — именно то, что уже вовсе не интересуетъ его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое, фальшиво улыбающееся, выраженіе ревнивца, и его похотливый взглядъ, очевидно, возбуждали ее. Я видѣлъ, что съ перваго же свиданья у нея особенно заблестѣли глаза и, вслѣдствіе моей ревности, между нимъ и ею тотчасъ же установился какъ бы электрическій токъ, вызывающій одинаковость выраженія взгляда и улыбокъ. Мы говорили о музыкѣ, о Парижѣ, о всякихъ пустякахъ. Онъ всталъ, чтобы уѣзжать и, улыбаясь, со шляпой на подрагивающей ляшкѣ, стоялъ, — то глядя на нее, то на меня, — какъ бы ожидая, что мы сдѣлаемъ. Помню я эту минуту, именно потому, что я могъ не позвать его. Я могъ не позвать его, и тогда ничего бы не было; но я взглянулъ на него, на нее. „И не думай, чтобы я ревновалъ тебя“, мысленно сказалъ я ей и пригласилъ его привозить ныньче же вечеромъ скрипку, чтобы играть съ женой. Она съ удивленіемъ взглянула на меня и вспыхнула и, какъ будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что недостаточно хорошо играетъ. Этотъ отказъ ея еще больше раздражилъ меня. Помню то странное чувство, съ которымъ я смотрѣлъ на его затылокъ, бѣлую шею, отдѣлявшуюся отъ черныхъ, расчесанныхъ на обѣ стороны волосъ, когда онъ своей подпрыгивающей, — какой-то птичьей, походкой, выходилъ отъ насъ, я не могъ не признаться себѣ, что присутствіе этого человѣка мучило меня. Отъ меня зависитъ, думалъ я, сдѣлать такъ, чтобы никогда не видать его. Но неужели я, я боюсь его? нѣтъ, я не боюсь его. Это было бы слишкомъ унизительно, говорилъ я себѣ. И тутъ же въ передней, зная, что жена слышитъ меня, я настоялъ на томъ, чтобы онъ ныньче же вечеромъ пріѣхалъ со скрипкой. — Онъ обѣщалъ мнѣ и уѣхалъ. Вечеромъ онъ пріѣхалъ со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась; не было тѣхъ нотъ, которыя имъ были нужны, а которыя были, жена не могла играть безъ приготовленія. Я очень любилъ музыку и сочувствовалъ ихъ игрѣ, предлагалъ, помогалъ. И кое-что они сыграли. Какія-то пѣсни безъ словъ и сонату Моцарта. Онъ игралъ превосходно: и то, что называется — тонъ сильный, и нѣжность; трудностей же для него не существовало. Какъ только началъ онъ играть, лицо его измѣнилось: онъ сдѣлался серьезенъ и гораздо болѣе симпатиченъ, онъ былъ, разумѣется, гораздо сильнѣе жены и помогалъ ей просто и естественно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, учтиво хвалилъ ея игру. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и пріятна. Во весь вечеръ я самъ представлялся не только передъ другими, но и передъ самимъ собой заинтересованнымъ только музыкой. Въ сущности же я, не переставая, мучился ревностью. Съ первой минуты, какъ онъ встрѣтился глазами съ женой, я видѣлъ, что онъ смотрѣлъ на нее, какъ на не непріятную женщину, съ которой при случаѣ не непріятно вступить въ связь. Если бы я былъ чистъ, я бы не думалъ о томъ, чтобы онъ могъ про нее думать, но я также, какъ и большинство, думалъ про женщинъ и потому понималъ его и мучился этимъ. Мучился я особенно тѣмъ, что я видѣлъ несомнѣнно, что ко мнѣ у ней не было другого чувства, кромѣ постояннаго раздраженія, только изрѣдка прерываемаго чувственностью, а что этотъ человѣкъ и по своей внѣшней элегантности и новизнѣ и, главное, по несомнѣнно большому таланту къ музыкѣ, по сближенію, возникающему изъ совмѣстной игры, по вліянію, производимому на впечатлительныя натуры музыкой, особенно скрипкой, — что этотъ человѣкъ долженъ былъ не то, что нравиться, а несомнѣнно, безъ малѣйшаго колебанія, долженъ былъ побѣдить ее и сдѣлать изъ нея все, что захочетъ. Я этого не могъ не видѣть и не могъ не страдать и не ревновать. И я ревновалъ и страдалъ ужасно, но не смотря на то, — или, можетъ быть, вслѣдствіе этого, — какая-то сила противъ моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивымъ, но ласковымъ съ нимъ. Для жены ли я это дѣлалъ, чтобы показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтобы обмануть самого себя, — не знаю, только я не могъ съ первыхъ же сношеній моихъ съ нимъ быть простъ. Я долженъ былъ для того, чтобы не отдаться желанію сей часъ же убить его, ласкать его. Я поилъ его за ужиномъ, восхищался его игрой, съ особенно ласковой улыбкой говорилъ съ нимъ и позвалъ его въ слѣдующее воскресенье обѣдать и играть. Я сказалъ, что позову кое-кого изъ моихъ знакомыхъ, — любителей музыки, — послушать его. На второй или третій день послѣ этого дня, возвращаюсь откуда-то, вхожу въ переднюю и разговариваю съ знакомымъ и вдругъ чувствую, что-то тяжелое, какъ камень наваливается мнѣ на сердце, и не могу дать себѣ отчета, что это. Это что-то было то, что, проходя черезъ переднюю, я замѣтилъ что-то, напоминавшее его. Только въ кабинетѣ я далъ себѣ отчетъ въ томъ, что это было, и вернулся въ переднюю провѣрить себя. Да, я не ошибся, — это была его шинель. (Все, что его касалось, хотя я и не отдалъ себѣ въ этомъ отчета, я замѣчалъ съ необыкновенной внимательностью). Спрашиваю, — такъ и есть, онъ тутъ. Прохожу мимо гостиной черезъ классную. Лиза — дочь сидитъ за книжкой и няня съ маленькой у стола вертитъ какой-то крышкой. Въ гостиной слышу равномѣрное arpeggio и сдержанный голосъ его и ея отрицаніе. Она что-то сказала: „но нѣтъ, нѣтъ“ и еще что-то. Какъ будто кто-то нарочно на фортепіано заглушаетъ слова.
Боже мой, что тутъ поднялось во мнѣ! что я представилъ себѣ! какъ вспомню только про того звѣря, который жилъ во мнѣ, — ужасъ беретъ. Сердце вдругъ сжалось, остановилось и потомъ заколотило, какъ молоткомъ. Главнымъ чувствомъ, какъ и всегда во всякой злости, была жалость къ себѣ. При дѣтяхъ, при нянѣ! думалъ я. Она позоритъ меня. Уйду я, я не могу. Я Богъ знаетъ, что сдѣлаю. Но не могу и пройти. Няня взглянула на меня такъ, какъ будто она понимала и совѣтовала смотрѣть въ оба. Да нельзя не войти, сказалъ я себѣ; и самъ не помня себя, отворилъ дверь. Онъ сидѣлъ за фортепіано, дѣлалъ эти arpeggio своими изогнутыми кверху большими пальцами. Она стояла въ углу рояля передъ раскрытыми нотами. Она первая увидала или услыхала меня и взглянула на меня. Испугалась-ли она, притворялась, что не испугалась, или точно не испугалась, но она не вздрогнула, не пошевелилась, а только покраснѣла и то послѣ. „Какъ я рада, что ты пришелъ. Мы не рѣшили, что играть въ воскресеніе“, сказала она такимъ тономъ, которымъ она не говорила бы со мною, если бы мы были одни.
Это, и то, что она сказала „мы“ про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался съ нимъ. Онъ пожалъ мнѣ руку тотчасъ, съ улыбкой, которая мнѣ прямо казалась насмѣшливой, началъ объяснять мнѣ, что онъ принесъ ноты для приготовленія къ воскресенью и что вотъ между ними несогласіе, что играть: болѣе трудное и классическое, именно Бетховенскую сонату со скрипкой, — или маленькія вещицы? И говоря это, онъ взглянулъ на нее. Все было такъ естественно и просто, что нельзя было ни къ чему придраться, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, я видѣлъ и былъ увѣренъ, что все это было неправда, что они сговаривались о томъ, какъ обмануть меня.
Одно изъ самыхъ мучительнѣйшихъ отношеній для ревнивцевъ (а ревнивцы — всѣ въ нашей общественной жизни!) это извѣстныя свѣтскія условія, при которыхъ допускается самая большая и опасная близость между мущиной и женщиной, при извѣстныхъ допускаемыхъ обществомъ условіяхъ. Надо сдѣлаться посмѣшищемъ людей, если препятствовать близости на балахъ, близости докторовъ съ своей паціенткой, близости при занятіяхъ искусствомъ, живописью, а главное — музыкой. Люди занимаются вдвоемъ самымъ благороднымъ искусствомъ — музыкой; для этого нужна извѣстная близость и близость эта не имѣетъ ничего предосудительнаго и только глупый ревнивецъ — мужъ можетъ видѣть тутъ что-либо нежелательнаго. Мужъ не долженъ такъ думать, а тѣмъ болѣе совать свой носъ и мѣшать, а между тѣмъ всѣ знаютъ, что именно посредствомъ этихъ самыхъ занятій, въ особенности музыкой, и происходитъ большая доля прелюбодѣяній въ нашемъ обществѣ.
Я, очевидно, смутилъ ихъ тѣмъ, что долго ничего не могъ сказать. Я былъ, какъ перевернутая бутылка, изъ которой вода не идетъ отъ того, что она слишкомъ полна. Я хотѣлъ изругать, выгнать его, но я ничего не могъ сдѣлать. Напротивъ, я чувствовалъ, что я помѣшалъ имъ и что виноватъ въ этомъ. Я сдѣлалъ видъ, что одобрялъ все, и опять по тому страшному чувству, которое заставляло меня обращаться съ нимъ съ большей лаской, чѣмъ мучительнѣе было мнѣ его присутствіе. Я сказалъ ему, что полагаюсь на его вкусъ и ей совѣтую то же. Онъ побылъ настолько еще, насколько нужно было, чтобы сгладить первое непріятное впечатлѣніе, когда я вдругъ вошелъ съ испуганнымъ лицомъ, — и уѣхалъ, притворяясь, что теперь рѣшили, что играть завтра. Я же былъ вполнѣ увѣренъ, что въ сравненіи съ тѣмъ, что заманило ихъ, — вопросъ о томъ, что играть, былъ для нихъ совершенно безразличенъ. Я съ особенной учтивостью проводилъ его до передней (какъ не провожать человѣка, который пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобы нарушить спокойствіе и погубить счастье цѣлой семьи?). Я жалъ съ особенной лаской эту бѣлую, мягкую руку.
ХХІІ.
Цѣлый день этотъ я не говорилъ съ нею, — не могъ. Близость ея вызывала во мнѣ такую ненависть къ ней, что я боялся за себя. За обѣдомъ она при дѣтяхъ спросила меня о томъ, когда я ѣду? Мнѣ надо было на слѣдующей недѣлѣ ѣхать на съѣздъ въ уѣздъ. Я сказалъ когда. Она спросила, не нужно-ли мнѣ чего на дорогу? Я ничего не сказалъ и молча просидѣлъ за столомъ и молча же ушелъ въ кабинетъ. Послѣднее время она никогда не приходила ко мнѣ въ комнату, особенно въ это время. Вдругъ ея шаги, ея походка. И въ голову мнѣ пришла страшная, безобразная мысль о томъ, что она, какъ жена Урія, хочетъ скрыть уже совершенный грѣхъ свой и что она за тѣмъ въ такой неурочный часъ идетъ ко мнѣ. Неужели она идетъ ко мнѣ? думалъ я, слушая ея приближающіеся шаги. Если ко мнѣ, то я правъ, значить.
…И въ душѣ поднимается невыразимая ненависть къ ней. Ближе, ближе, ближе шаги, — неужели не пройдетъ мимо въ залу. Нѣтъ, дверь скрипнула, и въ дверяхъ ея высокая, граціозная, лѣнивая и гибкая фигура; и въ лицѣ, и въ глазахъ робость и заискиванье, которое она хочетъ скрыть, но которое я нижу и значеніе котораго я знаю. Я чуть не задохнулся, — такъ долго я удерживалъ дыханіе, и продолжая глядѣть на нее, схватился за папиросницу и сталъ закуривать.
„Ну что это, къ тебѣ прійдешь посидѣть, а ты закуриваешь!“ и она сѣла близко ко мнѣ на диванъ, прислоняясь ко мнѣ. Я отстранился, чтобы не касаться ея.
— Я вижу, что ты недоволенъ тѣмъ, что я хочу играть въ воскресеніе? — сказала она.
— Я нисколько не недоволенъ, — сказалъ я.
— Развѣ я не вижу?
— Ну поздравляю тебя, что ты видишь. Только тебѣ всякая подлость пріятна, а мнѣ ужасна.
— Да если ты хочешь браниться, какъ извощикъ, я уйду.
— Уходи; только знай, что если тебѣ не дорога честь семьи, то мнѣ не ты дорога, — чертъ съ тобой! — но честь семьи!…
— Да что, что?
— Убирайся, ради Бога убирайся!
Но она не ушла. Притворялась она, что не понимаетъ о чемъ, или дѣйствительно не понимала, но только она обидѣлась и разсердилась.
— Ты рѣшительно сталъ невозможенъ, — начала она, или что-то въ этомъ родѣ о моемъ характерѣ, стараясь, какъ всегда, уязвить меня какъ можно больнѣе, — послѣ твоего поступка съ сестрой, (это былъ случай съ сестрой, когда я вышелъ изъ себя и наговорилъ ей грубости; она знала, что это мучитъ меня, и въ это мѣсто кольнула меня) — меня ужъ ничто не удивитъ.
— Да, оскорбить, унизить, опозорить и поставить меня же въ виноватыхъ, — сказалъ я себѣ, и вдругъ меня охватила неописуемая злоба къ ней, какой я никогда еще не испытывалъ. Мнѣ въ первый разъ захотѣлось физически выразить эту злобу. Я вскочилъ, но въ ту же минуту, какъ я вскочилъ, я помню, что созналъ свою злобу и спросилъ себя: „хорошо-ли отдаться этой злобѣ?“ и тотчасъ же отвѣтилъ себѣ, что это хорошо, что это испугаетъ ее, и тотчасъ же, вмѣсто того, чтобы противиться этой злобѣ, я еще сталъ подстрекать ее и радоваться тому, что она больше и больше клокотала во мнѣ.
— Убирайся, или я тебя убью! — закричалъ я, нарочно, страшнымъ голосомъ и схватилъ ее за руку. Они не уходила. Тогда я повернулъ ее и сильно толкнулъ.
— Что съ тобой! Опомнись! — сказала она.
— Уходи! — заревѣлъ я еще громче, вскакивая: — только ты можешь довести меня до бѣшенства! Я не отвѣчаю за себя! Уходи!
Давъ ходъ своему бѣшенству, я упивался имъ, и мнѣ хотѣлось еще сдѣлать что-нибудь необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бѣшенства. Мнѣ страшно хотѣлось бить, убить ее, но я зналъ, что этого нельзя, и воздерживался. Я отошелъ отъ нея и, подбѣжавъ къ столу, схватилъ прессъ-папье и шнырнулъ его объ-земь мимо нея. Я очень хорошо цѣлилъ мимо. И тутъ-же, пока она еще не скрылась, (я сдѣлали, это, чтобы она видѣла), я схватилъ подсвѣчникъ, бросилъ о земь, барометръ со стѣны, продолжая кричать:
— Уйди, убирайся! Я не отвѣчаю за себя!
Она ушла, и я тотчасъ же пересталъ. Черезъ часъ ко мнѣ пришла няня и сказала, что у нея истерика. Я пришелъ: она рыдала, смѣялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всѣмъ тѣломъ. Она не притворялась, но была истинно больна. Послали за докторомъ, и я всю ночь ходилъ за ней. Къ утру она успокоилась, и мы помирились подъ вліяніемъ того чувства, которое мы называли любовью. Утромъ, когда послѣ примиренія я признался ей, что ревновалъ ее къ Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самымъ естественнымъ образомъ засмѣялась: такъ странна даже ей показалась возможность увлеченія къ такому человѣку.
— Развѣ къ такому человѣку возможно въ порядочной женщинѣ что-нибудь, кромѣ удовольствія музыки? Да если хочешь, я готова никогда не видѣть его. Даже въ воскресенье, хотя и позваны всѣ, напиши ему, что я нездорова, и — кончено. Одно противно, что кто-нибудь можетъ подумать, что онъ опасенъ. А я слишкомъ горда, чтобы позволить думать это.
И она вѣдь не лгала, она вѣрила въ то, что говорила, она надѣялась словами этими вызвать въ себѣ презрѣніе къ нему и защитить имъ себя отъ него, но ей не удалось это. Все было направлено противъ нея, въ особенности эта проклятая музыка. Такъ все и кончилось, и въ воскресенье собрались гости, и они опять играли.
ХХІІІ.
— Я думаю, что излишне говорить, что я былъ очень тщеславенъ. Если не быть тщеславнымъ въ обычной нашей жизни, то вѣдь нечѣмъ жить. Ну, и въ воскресенье я со вкусомъ занялся устройствомъ обѣда и вечера съ музыкой. Я самъ накупилъ вещей для обѣда и позвалъ гостей. Къ 6-ти часамъ собрались гости, и явился онъ во фракѣ, съ брильянтовыми запонками дурнаго тона. Онъ держалъ себя развязно; на все отвѣчалъ поспѣшно, съ улыбкой согласія и пониманія, — знаете, — съ тѣмъ особеннымъ выраженіемъ, что все, что вы сдѣлаете или скажете, есть то самое, что онъ ожидалъ. Все, что было въ немъ непорядочнаго, — все это я замѣчалъ теперь съ особеннымъ удовольствіемъ, потому что это все должно было успокаивать меня и показывать, что онъ стоялъ для моей жены на такой низкой ступени, до которой, какъ она и говорила, она не могла унизиться. Не столько отъ увѣреній жены, сколько отъ того мучительнаго страданія, которое я испытывалъ, ревнуя ее, я теперь уже не позволялъ себѣ ревновать. Но, не смотря на то, я все-таки былъ ненатураленъ съ нимъ и съ нею и во время обѣда, и первую половину вечера, пока не началась музыка. И невольно слѣдилъ за каждымъ движеніемъ, взглядомъ ихъ обоихъ. Обѣдъ былъ какъ обѣдъ — скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Онъ пошелъ за скрипкой. Жена подошла къ роялю и стала разбирать ноты. Ахъ, какъ я помню всѣ подробности этого вечера: помню, какъ онъ принесъ скрипку, отперъ ящикъ, снялъ вышитую ему дамой покрышку и сталъ строить. Помню, какъ жена сѣла съ притворно равнодушнымъ видомъ, подъ которымъ, я видѣлъ, что она скрывала большую робость, — робость преимущественно своимъ умѣніемъ, — съ притворнымъ видомъ сѣла за рояль, и начались обычныя па на фортепіано, пичикато скрипки, установка нотъ. Помню потомъ, какъ они взглянули другъ на друга, оглянувшись на усаживающихся, и потомъ сказали что-то другъ другу, и началось. Они въ одно время ударили аккордъ — она на рояли, онъ на скрипкѣ. Они играли Крейцерову сонату Бетховена, — знаете ли вы первое престо? Знаете? У!…
Онъ вскрикнулъ и долго молчалъ.
— Страшная вещь эта соната… Именно эта часть. И вообще, страшная вещь музыка! Что это такое? Я не знаю. Что такое музыка? Что она дѣлаетъ? И зачѣмъ она дѣлаетъ то, что она дѣлаетъ? Говорятъ, музыка дѣйствуетъ, страшно дѣйствуетъ, — я говорю про себя, — но вовсе не возвышающимъ душу образомъ. Она дѣйствуетъ ни возвышающимъ, ни принижающимъ душу образомъ, а раздражающимъ душу образомъ. Какъ вамъ сказать! Музыка заставляетъ меня забывать все мое истинное положеніе; она переноситъ меня въ какое-то другое, — не свое — положеніе; мнѣ, подъ вліяніемъ музыки, кажется, что я чувствую то, чего я не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тѣмъ, что музыка дѣйствуетъ, какъ зѣвота, какъ смѣхъ: мнѣ спать не хочется, но я зѣваю, глядя на зѣвающихъ; смѣяться не могу, но я смѣюсь, слыша смѣющихся. Она, музыка, сразу непосредственно переноситъ меня въ то душевное состояніе, въ которомъ находился тотъ, кто писалъ музыку. Я сливаюсь съ нимъ душою и вмѣстѣ съ этимъ переношусь изъ одного состоянія въ другое. Но зачѣмъ я это дѣлаю, я не знаю. Вѣдь тотъ, кто писалъ, хоть бы Крейцерову сонату — Бетховенъ, вѣдь онъ зналъ, почему онъ находился въ такомъ состояніи, это состояніе привело его къ извѣстнымъ поступкамъ и потому для него состояніе имѣло смыслъ; — для меня же — никакого. И потому музыка только раздражаетъ, не кончаетъ. Ну, маршъ воинственный сыграютъ, солдаты пройдутъ подъ маршъ, и музыка дошла; ну пропѣли мессу, я причастился, тоже музыка дошла… А то — только раздраженье, а того, что́ надо дѣлать, въ этомъ раздраженьи нѣтъ. И оттого музыка такъ страшна, такъ ужасно иногда дѣйствуетъ. Въ Китаѣ музыка — государственное дѣло. И это такъ и должно быть. Развѣ можно допустить, чтобы всякій, кто хочетъ, гипнотизировалъ одинъ другого или многихъ и потомъ дѣлалъ съ ними, что хочетъ. И главное, чтобы этимъ гипнотизаторомъ былъ первый попавшійся безнравственный человѣкъ? А то странное средство въ рукахъ кого-попало… Напримѣръ, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо, — да и много такихъ вещей есть, — развѣ можно играть въ гостиныхъ, среди декольтированныхъ дамъ, или въ концертахъ, — сыграть, потомъ похлопать и потомъ сыграть другое. Эти вещи можно играть только при извѣстныхъ важныхъ, значительныхъ обстоятельствахъ и тогда, когда требуется совершить извѣстные, соотвѣтствующіе этой музыкѣ поступки. — А то несоотвѣтственное ни мѣсту, ни времени вызываніе энергіи чувства, ничѣмъ не проявляющагося, — не можетъ не дѣйствовать губительно. На меня, по крайней мѣрѣ, вещь эта подѣйствовала ужасно: мнѣ какъ будто открылись новыя, казалось мнѣ, чувства, новыя возможности, о которыхъ я не зналъ до сихъ норъ. „Да, вотъ какъ, — совсѣмъ не такъ, какъ я прежде думалъ и жилъ, — а вотъ какъ“, какъ будто говорилось мнѣ въ душѣ. Что такое было то новое, что я узналъ, — я не могъ себѣ дать отчета, но сознаніе этого новаго состоянія было очень радостно. Въ этомъ новомъ состояніи ревность уже не имѣла мѣста. Всѣ тѣ же лица и — въ томъ числѣ и жена и онъ — представлялись совсѣмъ въ другомъ свѣтѣ. Меня вынесла эта музыка въ какой-то такой міръ, въ которомъ ревность уже не имѣла мѣста. Ревность и чувство это, вызывавшее ее, казались такими пустяками, о которыхъ не стоило думать.
Послѣ этого престо они доиграли прекрасное, но обыкновенно не новое andante съ пошлыми варіаціями, и совсѣмъ слабый финалъ. Потомъ еще играли по просьбѣ гостей, — то элегію Эрнста, то еще разныя вещицы; все это было хорошо, но все это не произвело на меня 0,01 того впечатлѣнія, которое произвело первое. Мнѣ было легко, весело, весь вечеръ. Жену же я никогда не видалъ такою, какою она была въ этотъ вечеръ. Эти блестящіе глаза, эта строгость, значительность выраженія, пока она играла, и эта совершенная растаянность; какая то слабая, жалкая и блаженная улыбка, послѣ того, какъ она кончила. Я все это видѣлъ, но не приписывалъ никакого другого значенія, кромѣ того, что она испытывала тоже, что и я, — что и ей, какъ и мнѣ, открывались, какъ будто вспоминались, новыя неиспытанныя чувства. Я весь вечеръ почти не ревновалъ.
Я долженъ былъ черезъ два дня ѣхать на съѣздъ и онъ, прощаясь, собралъ всѣ свои ноты и спрашивалъ, когда я вернусь, желая проститься со мной передъ отъѣздомъ. Изъ этого я могъ заключить, что онъ не считаетъ возможнымъ бывать у меня безъ меня, и это было мнѣ пріятно. Оказывалось, что я едва ли вернусь до его отъѣзда, такъ что мы съ нимъ прощались совсѣмъ. Я въ первый разъ съ истиннымъ удовольствіемъ пожалъ ему руку и благодарилъ за удовольствіе. Онъ также совсѣмъ простился и съ женой. И ихъ прощаніе показалось мнѣ самымъ натуральнымъ и приличнымъ. Все было прекрасно. Мы оба съ женой очень были довольны вечеромъ. Въ самыхъ общихъ выраженіяхъ говорили о впечатлѣніяхъ, произведенныхъ музыкой, но были такъ близки и дружны въ этотъ вечеръ, какъ рѣдко уже бывали въ послѣднее время
ХХІѴ.
— Черезъ два дня я уѣхалъ въ уѣздъ въ самомъ хорошемъ, спокойномъ настроеніи, простившись съ женой. Въ уѣздѣ всегда бывала пропасть дѣла, и совсѣмъ особенная жизнь, особенный мірокъ. Два дня я по 10 часовъ проводилъ въ присутствіи. Вечеромъ 2-го дня, вернувшись на свою квартиру въ уѣздномъ городѣ, я нашелъ отъ нея письмо, въ которомъ она писала мнѣ о дѣтяхъ, о дядѣ, о нянюшкѣ, о покупкахъ и между прочимъ, какъ о вещи самой обыкновенной, о томъ, что Трухачевскій заходилъ и принесъ обѣщанныя ноты и предлагалъ играть еще, но я отказалась. Я же не помнилъ, чтобы онъ обѣщалъ принесть ноты: мнѣ казалось, что онъ тогда простился совсѣмъ, и потому это непріятно поразило меня. Я перечелъ письмо; въ письмѣ было что-то натянутое, робкое, и мнѣ стало ужасно тяжело: сердце заныло, бѣшеный звѣрь ревности зарычалъ въ своей конурѣ и хотѣлъ выскочить, но я боялся этого звѣря и заперъ его скорѣе. Какое мерзкое чувство это — ревность! Что можетъ быть естественнѣе того, что она пишетъ? — сказалъ я себѣ и легъ въ постель, казалось, — спокойный. Я сталъ думать о дѣлахъ, предстоящихъ на завтра, и заснулъ безъ мысли о ней. Мнѣ всегда долго не спалось во время этихъ съѣздовъ на новомъ мѣстѣ, но тутъ я заснулъ сейчасъ же. И какъ это бываетъ, знаете, вдругъ толчекъ электрическій — и просыпаешься. Такъ я проснулся и проснулся съ мыслью о ней, о моей плотской любви къ ней и о Трухачевскомъ и о томъ, что между ней и имъ все кончено. Ужасъ и злоба стиснули мнѣ сердце. — Но я сталъ образумливать себя.
„Что за вздоръ, — говорилъ я себѣ, — нѣтъ никакихъ основаній; ничего нѣтъ и не было. И какъ я могу такъ унижать ее и себя, себя главное, предполагая такіе ужасы. Что то вродѣ наемнаго скрипача, извѣстный за дурнаго человѣка — и вдругъ — женщина почтенная, уважаемая, мать семейства, моя жена. Что за нелѣпость!“ представлялось мнѣ съ одной стороны. „Какъ же этому не быть?“ представлялось мнѣ съ другой. „Какъ же могло не быть — то самое простое и понятное, во имя чего я женился на своей женѣ, то самое, во имя чего я съ ней жилъ, чего одного въ ней нужно было и чего, поэтому, нужно было и другимъ, этому музыканту?… Онъ человѣкъ не женатый, здоровый, (помню, какъ онъ хрустѣлъ хрящемъ въ котлеткѣ и обхватывалъ жадно красными губами стаканъ съ виномъ), сытый, гладкій и не только безъ правилъ, но очевидно, съ правилами о томъ, чтобы пользоваться тѣми удовольствіями, которыя представляются. И между ними связь музыки — самой, самой утонченной похоти чувствъ. Что же можетъ удержать его? Ничто. Все, напротивъ, привлекаетъ его. Она? Она тайна, какъ была, такъ и есть. Я не знаю ее. Знаю ее, только какъ животное. А животное ничто не можетъ, не должно удержать. Только теперь я вспомнилъ ихъ лица въ тотъ вечеръ, когда они послѣ Крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу, не помню — кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. „Какъ я могъ уѣхать?“ говорилъ я себѣ, вспоминая ихъ лица, „развѣ неясно было, что между ними все совершилось въ этотъ вечеръ, и развѣ не видно было, что между ними не только не было уже никакой преграды, но что они оба, — главное она, — испытывали нѣкоторый стыдъ послѣ того, что случилось между ними? Помню, какъ она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, отирая потъ съ раскраснѣвшагося лица. Они уже тогда избѣгали смотрѣть другъ на друга, и только за ужиномъ, когда онъ наливалъ ей воды, они взглянули другъ на друга, и чуть улыбнулись. Я съ ужасомъ вспомнилъ теперь этотъ перехваченный мною ихъ взглядъ съ чуть замѣтной улыбкой. „Да, все кончено“, говорилъ мнѣ одинъ голосъ и тотчасъ же другой голосъ говорилъ совсѣмъ другое: „это что-то нашло на тебя. Этого не можетъ быть“, говорилъ тотъ другой голосъ. Мнѣ жутко стало лежать въ темнотѣ, я зажегъ спичку и мнѣ какъ-то страшно стало въ этой маленькой комнатѣ съ желтыми обоями. Я закурилъ папироску и, какъ всегда бываетъ, когда вертишься въ одномъ и томъ же кругу неразрѣшающихся противорѣчій — куришь, и я курилъ одну папироску за другой — для того, чтобы затуманить себя и не видать противорѣчій. Я не заснулъ всю ночь и въ 5 часовъ, хотя еще было темно, рѣшилъ, что не могу оставаться болѣе въ этомъ напряженіи и сейчасъ же поѣду. Поѣздъ отходилъ со станціи въ 8 часовъ. Я разбудилъ сторожа, который мнѣ прислуживалъ, и послалъ его за лошадями. Въ засѣданіе я послалъ записку о томъ, что я по экстренному дѣлу вызванъ въ Москву, потому прошу, чтобы меня замѣнилъ членъ. Въ 8 часовъ я сѣлъ въ тарантасъ и поѣхалъ.
ХХѴ.
— Ѣхать надо было 35 верстъ на лошадяхъ и 8 часовъ по чугункѣ. На лошадяхъ ѣхали — было прекрасно. Была морозная, осенняя пора съ яркимъ солнцемъ. Знаете, это — пора, когда шины выпечатываются по засаленной дорогѣ. Дороги гладкія, свѣтъ яркій и воздухъ бодрящій. Въ тарантасѣ ѣхать было хорошо. Я какъ-то глядя на лошадей, на поля, на встрѣчныхъ, забывалъ, куда я ѣду, катаюсь, такъ буду ѣхать до конца жизни и свѣта. И мнѣ особенно радостно бывало такъ забываться. Когда же я вспоминалъ, куда я ѣду, я говорилъ себѣ: „тогда видно будетъ, не думай“. На серединѣ дороги сверхъ того случилось событіе, задержавшее меня въ дорогѣ, еще больше развлекшее меня — тарантасъ, совершенно новый, сломался и надо было починить его. Поѣздка за телѣгой, починка, расплата, чай на постояломъ дворѣ, разговоры съ дворникомъ — все это еще больше развлекало меня. Сумерками все было готово, и я опять поѣхалъ; и ночью еще лучше было ѣхать, чѣмъ днемъ. Былъ молодой мѣсяцъ, маленькій морозъ, еще прекрасная погода, лошади, веселый ямщикъ, и я ѣхалъ и наслаждался, почти совсѣмъ не думая о томъ, что меня ожидаетъ, или именно потому особенно наслаждался, что зналъ, что ожидаетъ, и прощался съ радостями жизни. Но это спокойное состояніе мое, возможность подавлять чувство, кончилось съ поѣздкой на лошадяхъ. Какъ только я вошелъ въ вагонъ, началось совсѣмъ другое. Этотъ 8-ми часовый переѣздъ въ вагонѣ былъ для меня чѣмъ-то ужаснымъ, чего я не забуду во всю жизнь. Отъ того ли, что сѣвъ въ вагонъ, я живо представилъ себѣ уже пріѣхавшимъ, или отъ того, что желѣзная дорога такъ возбуждающе дѣйствуетъ на людей, но только съ тѣхъ поръ, какъ я сѣлъ въ вагонъ, я уже не могъ владѣть своимъ воображеніемъ, и оно, не переставая, съ необычайной яркостью начало рисовать картины, одну за другой, и одну циничнѣе другой, и все о томъ же: что происходило тамъ безъ меня, какъ она измѣнила мнѣ. Я сгоралъ отъ негодованія, злости и какого-то особеннаго чувства упоенія своимъ униженіемъ, созерцая эти картины, и не могъ оторваться отъ нихъ, не смотрѣть на нихъ, стереть ихъ, не вызывать ихъ. Мало того, чѣмъ болѣе я созерцалъ эти воображаемыя картины, тѣмъ болѣе я вѣрилъ въ ихъ дѣйствительность, забывая то, что не было никакого основанія къ этому. Яркость, съ которой представлялись мнѣ эти картины, какъ будто служила доказательствомъ, что то, что я воображалъ, было дѣйствительностью. Какой-то дьяволъ, точно противъ моей воли, придумывалъ и подсказывалъ мнѣ самыя ужасныя воображенія. Давнишній разговоръ съ братомъ Трухачевскаго вспомнился мнѣ, и я съ какимъ-то восторгомъ раздиралъ себѣ сердце этимъ разговоромъ, относя его къ Трухачевскому и моей женѣ. Это было очень давно, но я вспомнилъ это. Братъ Трухачевскаго, я помню, разъ на вопросъ о томъ, посѣщаетъ ли онъ публичные дома, сказалъ, что порядочный человѣкъ не станетъ ходить туда, гдѣ можно заболѣть, да и грязно и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. А вотъ онъ, его братъ, нашелъ мою жену. Правда, она уже не первой молодости, зуба одного нѣтъ сбоку, и есть пухлость нѣкоторая, думалъ я за нее, но что же дѣлать, надо пользоваться тѣмъ, что есть. Да, онъ дѣлаетъ снисхожденіе ей, что беретъ ее своей любовницей, говорилъ я себѣ. Притомъ она безопасна. Нѣтъ, это невозможно, ужасаясь, говорилъ я себѣ. Ничего, ничего подобнаго нѣтъ! И нѣтъ даже никакихъ основаній предполагать что-нибудь подобное. Развѣ она не говорила мнѣ, что ей унизительна даже мысль о томъ, что я могу ее ревновать къ нему. Да, но она лжетъ, выкрикивалъ я, и начиналось опять. Пассажировъ въ нашемъ вагонѣ было только двое — старушка съ мужемъ, оба очень неразговорчивые, и тѣ вышли на одной изъ станцій, и я остался одинъ. Я былъ, какъ звѣрь въ клѣткѣ: то я выскакивалъ, подходилъ къ окну, то шатаясь начиналъ ходить, стараясь подгонять вагонъ; но вагонъ со всѣми лавками и стеклами все точно также подрагивалъ, вотъ какъ нашъ.
И мой разскащикъ вскочилъ и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и опять сѣлъ.
— Охъ, боюсь я, боюсь я вагоновъ желѣзной дороги, ужасъ находитъ на меня! Ну, опять садился, — продолжалъ онъ, — и говорилъ себѣ: „буду думать о другомъ. Ну, положимъ, о хозяинѣ постоялаго двора, у котораго я пилъ чай. Ну, вотъ въ глазахъ воображенья возникаетъ дворникъ съ длинной бородой и его внукъ, мальчикъ однихъ лѣтъ съ моимъ Васей. Мой Вася! Онъ увидитъ, какъ музыкантъ цѣлуетъ его мать! Что сдѣлается въ его бѣдной душѣ? Да ей что? Она любитъ… И опять поднималось то же. Я страдалъ такъ, что наконецъ не зналъ, что съ собой дѣлать, и мнѣ пришла мысль, очень даже понравившаяся мнѣ, — выйти на путь, лечь подъ вагонъ, кончить все. Одно, что мѣшало это сдѣлать, была жалость къ себѣ, тотчасъ же непосредственно за собой вызывающая ненависть къ ней, къ нему, къ нему — не столько. Къ нему было какое-то странное чувство сознанія своего униженія и его побѣды, но къ ней — страшная ненависть.
Нельзя покончить съ собой и оставить ее; надо, чтобы она пострадала хоть сколько нибудь, хоть поняла бы, что я страдалъ, говорилъ я себѣ. На одной станціи я увидалъ, что пьютъ, и тотчасъ же самъ выпилъ водки. Рядомъ со мной стоялъ еврей и тоже пилъ. Онъ разговорился, и я, чтобы только не оставаться одному въ своемъ вагонѣ, пошелъ съ нимъ въ его грязный, накуренный и забрызганный шелухой отъ сѣмячекъ вагонъ 3-го класса. Тамъ я сѣлъ съ нимъ рядомъ и онъ много что-то разсказывалъ анекдотовъ.
Я сначала слушалъ его, но не могъ понимать того, что онъ говоритъ. Онъ замѣтилъ это и сталъ требовать къ себѣ вниманія; тогда я всталъ и ушелъ опять въ свой вагонъ.
Надо обдумать, говорилъ я себѣ, — правда-ли то, что я думаю, и есть ли основаніе мнѣ мучиться. Я сѣлъ, желая спокойно обдумать, но тотчасъ же вмѣсто спокойнаго обдумыванія началось опять то же: вмѣсто разсужденій — картины и представленія. „Сколько разъ я такъ мучился“, говорилъ я себѣ (я вспоминалъ прежніе подобные припадки ревности) и потомъ все кончалось ничѣмъ.
Такъ и теперь, можетъ быть, даже навѣрное, я найду ее спокойно-спящею: она проснется, обрадуется мнѣ, и по словамъ, по взгляду я почувствую, что ничего не было и что все это — вздоръ. О, какъ хорошо бы это! „Но нѣтъ, это слишкомъ часто было и теперь этого уже не будетъ“, говорилъ мнѣ какой-то голосъ… и опять начиналось. Да, вотъ гдѣ была казнь! Не въ сифилитическую больницу я сводилъ бы молодого человѣка, чтобы отбить у него охоту отъ женщинъ, но въ душѣ къ себѣ посмотрѣть на тѣхъ дьяволовъ, которые раздирали ее! Вѣдь ужасно было то, что я признавалъ за собой несомнѣнное полное право надъ ея тѣломъ, какъ будто это было мое тѣло, и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалъ, что владѣть я этимъ тѣломъ не могу, что оно не мое и что она можетъ распоряжаться имъ, какъ хочетъ, а хочетъ распоряжаться имъ не такъ, какъ я хочу. И я ничего не могу сдѣлать, ни ему, ни ей. Онъ, какъ Ванька-ключникъ, передъ висѣлицей споетъ пѣсеньку о томъ, какъ сахарныя уста бы поцѣловалъ и пр. И верхъ его. А съ ней еще меньше. Если она не сдѣлала, а хочетъ, а я знаю, что хочетъ, то еще хуже, — ужъ лучше бы сдѣлала, чтобы я зналъ, чтобы не было неизвѣстности. Я не могъ бы сказать, чего я желалъ. Я желалъ, чтобы она не хотѣла того, что она должна была хотѣть. Это было полное сумасшествіе.
ХХѴІ.
— На предпослѣдней станціи, когда кондукторъ пришелъ отбирать билеты, я, собравъ свои вещи, вышелъ на тормозъ, и сознаніе того, что близко вотъ оно рѣшеніе, еще усилило мое волненіе. Мнѣ стало холодно, я сталъ дрожать челюстями такъ, что стучалъ зубами. Я машинально съ толпой вышелъ изъ вокзала, взялъ извощика, сѣлъ и поѣхалъ. Я ѣхалъ, встрѣчая рѣдкихъ прохожихъ и дворниковъ, и читалъ вывѣски, ни о чемъ не думая. Отъѣхавъ съ полверсты, мнѣ стало холодно въ ногахъ, и я подумалъ о томъ, что снялъ въ вагонѣ шерстяные чулки и положилъ ихъ въ сумку. Гдѣ сумка? Тутъ ли? Тутъ. А гдѣ корзина? Я вспомнилъ, что я забылъ совсѣмъ о багажѣ, но вспомнивъ и доставъ разписку, рѣшилъ, что не стоитъ возвращаться за этимъ, и поѣхалъ дальше. Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никакъ не могу себѣ уяснить теперь, почему я такъ торопился. Помню только, что у меня было сознаніе того, что готовится что-то страшное и очень важное въ моей жизни. Отъ того ли произошло то важное, что я такъ думалъ, или отъ того, что предчувствовалъ, — не знаю. Можетъ быть и то, что послѣ того, что случилось, всѣ предшествующія минуты въ моемъ воспоминаніи получили мрачный оттѣнокъ. Я подъѣхалъ къ крыльцу. Былъ 1-й часъ. Нѣсколько извощиковъ стояли у крыльца, ожидая сѣдоковъ по освѣщеннымъ окнамъ (освѣщенныя окна были въ нашей квартирѣ — въ залѣ и гостиной). Не отдавая себѣ отчета въ томъ, почему есть еще свѣтъ такъ поздно въ нашихъ окнахъ, я въ томъ же состояніи ожиданія чего-то страшнаго, вошелъ на лѣстницу и позвонилъ. Лакей — добрый, старательный и очень глупый — Егоръ — отворилъ. Первое, что бросилось въ глаза въ передней, была на вѣшалкѣ, рядомъ съ другимъ платьемъ — шинель. Я бы долженъ былъ удивиться, но не удивился, потому что ждалъ этого. Такъ и есть, сказалъ я себѣ. Когда я спросилъ Егора, кто здѣсь, — и онъ назвалъ мнѣ Трухачевскаго. Я спросилъ, есть-ли еще кто-нибудь? Онъ сказалъ: „никого-съ“. Помню, какъ онъ отвѣтилъ мнѣ это съ такой интонаціей, какъ будто хотѣлъ порадовать меня и разсѣять сомнѣнія, что есть кто-нибудь. Такъ, такъ, какъ будто говорилъ я себѣ. А дѣти? „Слава Богу здоровы. Давно спятъ-съ.“ Я не могъ вздохнуть и не могъ продохнуть и не могъ остановить трясущихся челюстей. Да, стало быть не такъ, какъ я думалъ: то прежде я думалъ — несчастье, а оказывалось — хорошо, по старому. Теперь же вотъ не по-старому, а вотъ оно все то, что я представлялъ себѣ и думалъ, что только представляю, а вотъ оно все въ дѣйствительности. Вотъ оно все. Я чуть было не зарыдалъ, но тотчасъ-же дьяволъ подсказалъ: ты плачь, сантиментальничай, а они спокойно разойдутся, уликъ не будетъ и ты вѣкъ будешь сомнѣваться и мучиться. И тотчасъ чувствительность надъ собой исчезла и явилась животная потребность физической, ловкой, хитрой и рѣшительной дѣятельности. Я помню, что я сдѣлался звѣремъ, умнымъ звѣремъ. „Не надо, не надо, сказалъ я Егору, хотѣвшему было идти въ гостиную, — а ты вотъ что: ты поди поскорѣе, возьми извощика и поѣзжай, вотъ квитанція, получи вещи. Ступай.“ Онъ пошелъ по корридору за своимъ пальто. Боясь, что онъ спугнетъ ихъ, я проводилъ его до его каморки и подождалъ, пока онъ одѣлся. Въ гостиной, за другой комнатой слышенъ была, говоръ и звукѣ ножей и тарелокъ. Они ѣли и не слышали звонка. Только бы не вышли, не вышли теперь, думалъ я. Егоръ надѣлъ свое пальто съ астраханскимъ барашкомъ и вышелъ. Я выпустилъ его и заперъ за нимъ дверь, и мнѣ стало жутко, когда я почувствовалъ, что остался одинъ и что мнѣ надо сейчасъ дѣйствовать. Какъ? Я еще не зналъ. Я зналъ только, что теперь все кончено, что сомнѣній въ ея невинности не можетъ быть и что я сейчасъ кончаю мои отношенія съ нею. Прежде еще у меня были колебанія, и я говорилъ себѣ: „а, можетъ быть, это и неправда, можетъ быть я ошибаюсь.“ Теперь этого уже не было. Все было рѣшено безповоротно. Тайно отъ меня, одна съ нимъ ночью. Это уже совершенное забвеніе всего. Или еще хуже: нарочно такая смѣлость, дерзость въ преступленіи. Чтобы дерзость эта служила признакомъ невинности!… Все ясно. Сомнѣній нѣтъ. Я боялся только одного, какъ бы они разбѣжались, не придумали еще новаго обмана и не лишили меня тѣмъ и очевидности улики и мучительнаго наслажденія наказать, — да, — казнить. И съ тѣмъ, чтобы скорѣе застать ихъ, я на цыпочкахъ пошелъ въ гостиную, гдѣ они сидѣли, не черезъ залу, а черезъ корридоръ и дѣтскую. Въ первой дѣтской мальчики спали, во второй дѣтской няня зашевелилась, хотѣла проснуться, и я представилъ себѣ то, что она подумаетъ, узнавъ все, и такая жалость къ себѣ охватила меня при этой мысли, что я не могъ удержаться отъ слезъ и, чтобы не разбудить дѣтей, выбѣжалъ на цыпочкахъ въ корридоръ и къ себѣ въ кабинетъ, повалился на свой диванъ и зарыдалъ. — Я, честный человѣкъ, я, сынъ своихъ родителей, я, всю жизнь мечтавшій о счастьи семейной жизни, я, мущина, никогда не измѣнявшій ей… И вотъ! Пять человѣкъ дѣтей, и она обнимаетъ музыканта, оттого, что у него красныя губы. Нѣтъ, это не человѣкъ! Это сука, это мерзкая сука! Рядомъ съ комнатой дѣтей, въ любви къ которымъ она притворялась всю свою жизнь! И писала мнѣ то, что она писала!… Да что я знаю?! Можетъ быть, все время это такъ было! Можетъ быть, она давно съ лакеями прижила всѣхъ дѣтей, которыя считаются моими. И завтра бы пріѣхалъ, и она въ своей прическѣ, съ своей таліей и лѣнивыми, граціозными движеніями (я увидалъ все ея привлекательное, ненавистное лицо) встрѣтила бы меня, и звѣрь этотъ ревности на вѣки сидѣлъ бы у меня въ сердцѣ и раздиралъ бы его. Няня что подумаетъ? Егоръ?… И бѣдная Лизочка? Она уже понимаетъ что-то. И эта наглость! И эта ложь! И эта животная чувственность, которую я такъ знаю! говорилъ я себѣ.
Я хотѣлъ встать, но не могъ. Сердце такъ билось, что я не могъ устоять на ногахъ. Да, я умру отъ удара. Она убьетъ меня. Ей этого и надо. Чего жъ ей убивать? Да нѣтъ, это бы ей было слишкомъ выгодно и этого удовольствія я не доставлю ей. Да, я сижу, а они тамъ сидятъ и смѣются и… Да, не смотря на то, что она была уже не первой свѣжести, онъ не побрезгалъ ею, всетаки она была недурна, а главное-же — было, по крайней мѣрѣ, безопасно для его драгоцѣннаго здоровья. И зачѣмъ я не задушилъ ее тогда, сказалъ я себѣ, вспомнивъ ту минуту, когда я, недѣлю тому назадъ, вытолкалъ ее изъ кабинета и потомъ колотилъ вещи. Мнѣ, главное, вспоминалось то состояніе, въ которомъ я былъ тогда; не только вспомнилось, но я вступилъ въ то же звѣрское состояніе. Помню, какъ мнѣ захотѣлось дѣйствовать, и всякія соображенія, кромѣ тѣхъ, которыя нужны были для дѣйствія, выскочили у меня изъ головы, и я вступилъ въ то состояніе звѣря или человѣка подъ вліяніемъ физическаго возбужденія во время опасности, когда человѣкъ дѣйствуетъ точно, не торопливо, но и не теряя ни минуты, и все время съ одной опредѣленной цѣлью. Первое, что я сдѣлалъ, — я снялъ сапоги и, оставшись въ чулкахъ, подошелъ къ стѣнѣ надъ диваномъ, гдѣ у меня висѣли ружья и кинжалы, и взялъ кривой дамасскій кинжалъ, ни разу не употреблявшійся и очень острый. Я вынулъ его изъ ноженъ. Ножны, я помню, завалились за диванъ, и помню, что я сказалъ себѣ: „надо послѣ найти ихъ, а то пропадутъ“. Потомъ я снялъ пальто, которое все время было на мнѣ, и мягко ступая, въ однихъ чулкахъ пошелъ туда. Я не только не знаю, какъ я шелъ, какимъ шагомъ, черезъ какія комнаты я шелъ, какъ я подходилъ къ гостиной, какъ отворилъ дверь, какъ вошелъ въ нее, — я ничего не помню. —
ХХѴІІ.
— Помню только выраженіе ихъ лицъ, когда я открылъ дверь. Я помню то выраженіе, потому что выраженіе это доставило мнѣ мучительную радость. Это было выраженіе ужаса. Этого-то мнѣ и надо было. Я никогда не забуду выраженія отчаяннаго ужаса, которое выразилось въ первую секунду на обоихъ ихъ лицахъ, когда они увидали меня. Онъ сидѣлъ, кажется, за столомъ, но, увидавъ или услыхавъ меня, вскочилъ на ноги и остановился спиной къ шкафу. На его лицѣ было одно, очень несомнѣнное выраженіе ужаса. На ея лицѣ то же выраженіе ужаса, но съ нимъ вмѣстѣ было и другое; если бы оно было одно, можетъ быть, и не случилось бы того, что случилось, но въ выраженіи ея лица было, — по крайней мѣрѣ мнѣ показалось, — въ первое мгновеніе еще огорченье, недовольство тѣмъ, что нарушили ея увлеченье любовью и ея счастье съ нимъ. Ей какъ будто ничего не нужно было кромѣ того, чтобы ей не мѣшали быть счастливой теперь. То и другое выраженіе только мгновеніе держалось на ихъ лицахъ. Выраженіе ужаса въ его лицѣ тотчасъ же смѣнилось выраженіемъ вопроса. Можно лгать или нѣтъ? Если можно, то надо начинать. Если нѣтъ, то начнется что-то еще другое. Но что? Онъ вопросительно взглянулъ на нее. На ея лицѣ выраженіе досады и огорченія смѣнялось, какъ мнѣ казалось, когда она взглянула на него, заботой о немъ. На мгновеніе я остановился въ дверяхъ, держа кинжалъ за спиною. Въ это мгновеніе онъ улыбнулся и до смѣшнаго равнодушнымъ тономъ началъ: „а мы вотъ музицировали“… — „Вотъ не ждала“, въ то же время начала она, покоряясь его тону. Но ни тотъ, ни другой не договаривалъ. То самое бѣшенство, которое я испытывалъ недѣлю тому назадъ, овладѣло мной. Опять я испыталъ эту потребность разрѣшенія насилія и восторга бѣшенства и отдался ему.
Оба не договорили. Началось то другое, чего онъ боялся, что разрывало сразу все, что они говорили. Я бросился къ ней, все еще скрывая кинжалъ, чтобы онъ не помѣшалъ мнѣ ударить ее въ бокъ подъ грудью. Въ ту минуту, какъ я бросился къ ней, онъ увидалъ и, чего я никакъ не ждалъ отъ него, онъ схватилъ меня за руки и крикнулъ: „опомнитесь, что вы?!“ Я вырвалъ руку и молча бросился къ нему. Вѣрно я былъ страшенъ, потому что онъ вдругъ поблѣднѣлъ, какъ полотно, до губъ, глаза сверкнули какъ-то особенно, и чего я тоже никакъ не ожидалъ, онъ шмыгнулъ подъ фортепіано въ дверь. Я бросился было за нимъ, но на лѣвой рукѣ повисла тяжесть. Это была она. Я рванулся. Она еще тяжелѣе повисла и не выпускала. Неожиданная эта помѣха, тяжесть и ея отвратительное мнѣ прикосновеніе еще больше разожгли меня. Я чувствовалъ, что я вполнѣ бѣшеный и долженъ быть страшенъ, и радовался этому. Я размахнулся изо всѣхъ силъ лѣвой рукой и локтемъ попалъ ей въ самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотѣлъ бѣжать за нимъ, но вспомнилъ, что было бы смѣшно бѣгать въ чулкахъ за любовникомъ своей жены, а я не хотѣлъ быть смѣшонъ, а хотѣлъ быть страшенъ. Не смотря на страшное бѣшенство, въ которомъ я находился, я помнилъ все время, какое впечатлѣніе я произвожу на другихъ. И даже это впечатлѣніе отчасти руководило мною. Я повернулся къ ней. Она упала на кушеткѣ и, схватившись за разшибленные мною глаза, смотрѣла на меня. Въ лицѣ ея былъ страхъ и ненависть ко мнѣ, къ врагу, какъ у крысы, когда поднимаютъ мышеловку, въ которую она попалась. Я, по крайней мѣрѣ, ничего не видѣлъ въ ней, кромѣ этого страха и ненависти ко мнѣ, которую должна была вызвать любовь къ другому. Но еще можетъ быть, я удержался бы и не сдѣлалъ бы того, что я сдѣлалъ, если бы она молчала. Но она вдругъ начала говорить и хватать меня рукой за руку съ кинжаломъ: Опомнись! Что ты? что съ тобой? Ничего нѣтъ, ничего, ничего, клянусь!
Я бы еще помедлилъ, но эти послѣднія слова ея, по которымъ я заключилъ обратное, т. е. что все было, вызывали отвѣтъ. И отвѣтъ долженъ былъ быть соотвѣтственъ тому настроенію, въ которое я привелъ себя, которое все шло crescendo и должно было продолжать также возвышаться. У бѣшенства есть также свои законы.
— Не лги, мерзавка! — завопилъ я и лѣвой рукой схватилъ ее за руки, но она вырвалась. Тогда я, все-таки не выпуская кинжала, схватилъ ее лѣвой рукой за горло, опрокинулъ навзничь и сталъ душить. Она схватилась обѣими руками за мои руки, отдирая ихъ отъ горла, за которое я душилъ ее, и я ударилъ ее кинжаломъ въ лѣвый бокъ, ниже реберъ. Когда люди говорятъ, что они въ припадкѣ бѣшенства не помнятъ того, что они дѣлаютъ, — это вздоръ, неправда. Я все помнилъ и ни на секунду не переставалъ помнить. Чѣмъ сильнѣе я разводилъ самъ въ себѣ пары своего бѣшенства, тѣмъ ярче разгорался во мнѣ свѣтъ сознанія, при которомъ я не могъ не видѣть всего того, что я дѣлалъ. Всякую секунду я зналъ, что я дѣлалъ. Не могу сказать, чтобы я зналъ впередъ, что я буду дѣлать, но въ ту секунду, какъ я дѣлалъ, — даже, кажется, нѣсколько впередъ, я зналъ, что я дѣлаю какъ будто для того, чтобы возможно было раскаяться, что я могъ остановиться. Я зналъ, что ударяю ниже реберъ и что кинжалъ войдетъ. Въ ту минуту, какъ я дѣлалъ это, я зналъ, что я дѣлалъ нѣчто ужасное, — такое, какого я никогда не дѣлалъ и которое будетъ имѣть ужасныя послѣдствія. Но сознаніе это мелькнуло, какъ молнія, и за сознаніемъ тотчасъ же слѣдовалъ поступокъ. Поступокъ сознавался съ необычайною яркостью. Я слышалъ и помню мгновенье противодѣйствія корсета и еще чего-то и потомъ погруженія ножа во что-то мягкое. Она схватилась руками за кинжалъ, обрѣзала ихъ, но не удержала. —
Я долго потомъ въ тюрьмѣ, послѣ того, какъ нравственный переворотъ совершился во мнѣ, думалъ объ этой минутѣ, вспоминалъ, что могъ, и соображалъ. Помню то мгновеніе, предварявшее поступку, страшное сознаніе того, что я убиваю и убилъ женщину, беззащитную женщину, мою жену. Ужасъ этого сознанія я помню и потому заключаю и даже вспоминаю смутно, что, воткнувъ кинжалъ, я тотчасъ же вытащилъ его, желая поправить сдѣланное и остановить. Она вскочила на ноги и вскрикнула: „няня, онъ убилъ меня“. Услыхавшая шумъ няня стояла въ дверяхъ. Я все стоялъ, ожидая и не вѣря. Но тутъ изъ подъ ея корсета, какъ изъ гвоздя (?) хлынула кровь. Тутъ только я понялъ, что поправить нельзя, и тотчасъ же рѣшилъ, что и не надо, что я этого самаго и хочу и это самое долженъ былъ сдѣлать. Я подождалъ, пока она упала, и няня съ крикомъ „батюшки“ подбѣжала къ ней, и тогда только бросилъ кинжалъ прочь и пошелъ изъ комнаты. „Не надо волноваться, надо знать, что я дѣлаю“, сказалъ я себѣ, не глядя на нее и няню. Няня кричала, звала дѣвушку. Я пошелъ корридоромъ и, пославъ дѣвушку, пошелъ въ свою комнату. Что теперь надо дѣлать? — спросилъ я себя, и тотчасъ понялъ это. Войдя въ кабинетъ, я прямо подошелъ къ стѣнѣ, снялъ съ нея револьверъ, осмотрѣлъ его — онъ былъ заряженъ — и положилъ на столъ. Потомъ досталъ ножны изъ-за дивана и сѣлъ на диванъ всѣмъ тѣломъ. Долго я сидѣлъ такъ. Я ничего не думалъ, ничего не вспоминалъ. Я слышалъ, что тамъ что-то возились. Слышалъ, какъ пріѣхалъ кто-то, потомъ еще кто-то. — Потомъ слышалъ и видѣлъ, какъ Егоръ внесъ мою привезенную корзину въ кабинетъ. Точно зто кому нибудь нужно! „Слышалъ ты, что случилось?“ — сказалъ я: — „скажи дворнику, чтобы дали знать въ полицію“. Онъ ничего не сказалъ и ушелъ. Я всталъ, заперъ дверь и досталъ папироски и спичку и сталъ курить. Я не докурилъ папироску, какъ меня схватилъ и повалилъ сонъ. Я спалъ, вѣрно часа два. Помню, я видѣлъ во снѣ, что мы дружны съ ней, поссорились, но миримся, и что немножко что-то мѣшаетъ, но мы друзья. Меня разбудилъ стукъ въ дверь. Это полиція, подумалъ я, просыпаясь, вѣдь я убилъ, кажется. А можетъ быть — это она, и ничего не было. Въ дверь еще постучались. Я ничего не отвѣтилъ, рѣшалъ вопросъ: было это или не было? Да, было. Я вспомнилъ сопротивленіе корсета и потомъ… да, было. Да, было. Да, теперь надо и себя, сказалъ я себѣ. Но я говорилъ это и зналъ, что я не убью себя. Однако я всталъ и взялъ въ руки револьверъ. Но, странное дѣло: помню, какъ прежде много разъ я быль близокъ къ самоубійству, какъ въ тотъ день даже на желѣзной дорогѣ мнѣ это легко казалось, легко именно потому, что я думалъ, какъ я этимъ поражу ее. Теперь я никакъ не могъ не только убить себя, но и подумать объ этомъ. Зачѣмъ я это сдѣлаю? спросилъ я себя и отвѣта не было. Въ дверь постучались еще. Да, прежде надо узнать, кто это стучится! успѣю еще. Я положилъ револьверъ и покрылъ его газетой. Я подошелъ къ двери и отодвинулъ задвижку. Это была сестра жены, добрая, глупая вдова. „Вася, что это?“ сказала она, и всегда готовыя слезы полились. Что надо? грубо спросилъ я. Я видѣлъ, что совсѣмъ не надо было и не зачѣмъ было быть съ ней грубымъ, но я не могъ придумать никакого другого тона. — „Вася, она умираетъ. Иванъ Ѳедоровичъ сказалъ.“ И. Ѳ. — это былъ докторъ, ея докторъ, совѣтчикъ. „Развѣ онъ здѣсь?“ спросилъ я, и вся злоба на нее поднялась опять. „Ну такъ чтожъ?“ — „Вася, пойди къ ней. Ахъ какъ это ужасно!“ сказала она. — Пойти къ ней? задалъ я себѣ вопросъ. И тотчасъ же отвѣтилъ, что надо пойти къ ней, что, вѣроятно, всегда такъ дѣлается, что когда мужъ, какъ я, убилъ жену, то непремѣнно надо идти къ ней. „Если такъ дѣлается, то надо идти“, сказалъ я себѣ. Да, если нужно будетъ, всегда успѣю, подумалъ я о своемъ намѣреніи застрѣлиться и пошелъ за нею. „Теперь будутъ фразы, гримасы, но я не поддамся имъ“, сказалъ я себѣ. „Постой“, сказалъ я сестрѣ, „глупо безъ сапогъ, дай надѣну хоть туфли.“
ХХѴІІІ.
— И удивительное дѣло. Опять, когда я вышелъ изъ комнаты и пошелъ по привычнымъ комнатамъ, опять во мнѣ явилась надежда, что ничего не было, но запахъ этой докторской гадости — іодоформа, карболки — поразилъ меня. Нѣтъ, все было. Проходя по корридору мимо дѣтской, я увидалъ Лизаньку. Она смотрѣла на меня испуганными глазами. Мнѣ казалось даже, что тутъ были всѣ пятеро и смотрѣли на меня. Я подошелъ къ двери и горничная изнутри отворила мнѣ и вышла. Первое, что бросилось мнѣ въ глаза, было ея свѣтло-сѣрое платье на стулѣ, все черное отъ крови. На нашей двухспальной постели, (на моей даже постели къ ней былъ легче подходъ) лежала она съ поднятыми колѣнами. Она лежала очень отлого, на однихъ подушкахъ, въ разстегнутой кофтѢ. На мѣсто раны было что то наложено. Въ комнатѣ былъ тяжелый запахъ іодоформа. Прежде и болѣе всего поразило меня ея распухшее и синѣющее по отекамъ лицо, часть носа и подъ глазами. Это послѣдствіе моего удара локтемъ, когда она хотѣла удержать меня. Красоты не было никакой, а что то гадкое показалось мнѣ въ ней. Я остановился у порога. „Подойди, подойди къ ней“, говорила мнѣ сестра. Да, вѣрно она хочетъ покаяться, подумалъ я. Простить? Да, она умираетъ и можно простить ее, думалъ я, стараясь быть великодушнымъ. И подошелъ; она съ трудомъ подняла на меня глаза, изъ которыхъ одинъ былъ подбитъ, и съ трудомъ, съ запинками проговорила: „добился своего, убилъ“, и въ лицѣ сквозь физическія страданія и даже близость смерти выразилась та же старая, знакомая мнѣ холодная ненависть. „Дѣтей… я все таки… тебѣ… не отдамъ. Она (ея сестра) возьметъ“. О томъ же, что было главнымъ для меня, о своей винѣ, измѣнѣ, она какъ-бы считала нестоющимъ упоминать. „Да, полюбуйся на то, что ты сдѣлалъ“, сказала она, глядя на дверь и всхлипнула. Въ двери стояла сестра съ дѣтьми. „Да, вотъ что ты сдѣлалъ.“ Я взглянулъ на дѣтей, на ея съ подтеками, разбитое лицо, и въ первый разъ забылъ себя, свои права, свою гордость, въ первый разъ увидалъ въ ней человѣка, сестру. И такъ ничтожно мнѣ показалось все то, что оскорбляло меня, — вся моя ревность, и такъ значительно то, что я сдѣлалъ, что я хотѣлъ припасть лицомъ къ ея рукѣ и сказать: „прости!“, но не смѣлъ. Она молчала, закрывъ глаза, очевидно не въ силахъ говорить дальше. Потомъ изуродованное лицо ея задрожало, сморщилось. Она слабо оттолкнула меня. — „Зачѣмъ все это было? Зачѣмъ?“ „Прости меня!“ сказалъ я. „Да, если бы ты не убилъ меня!“ вдругъ вскрикнула она и глаза ея заблестѣли лихорадочно. — „Прости! все это вздоръ! Только бы не умереть! Да, ты добился своего. Ненавижу!“ Потомъ сдѣлался бредъ. Она стала пугаться, кричать: „стрѣляй, я не боюсь… Только всѣхъ бей. Ушелъ, ушелъ!“ Бредъ продолжался все время. Она не узнавала дѣтей, даже Лизаньку, которая прорвалась къ ней.
Въ тотъ же день къ полдню она умерла. Меня прежде этого въ 8 часовъ отвели въ часть, а оттуда въ тюрьму. И тамъ, просидѣвъ одиннадцать мѣсяцевъ, дожидаясь суда, я обдумалъ себя и свое прошедшее и понялъ его. Началъ понимать я на третій день. На третій день меня водили туда…
Онъ что-то хотѣлъ сказать и, не въ силахъ будучи сдержать рыданія, остановился. Собравшись съ силами, онъ продолжалъ:
— „Я началъ понимать только тогда, когда увидалъ ее въ гробу.“
Онъ всхлипнулъ, но тотчасъ же торопливо продолжалъ:
„Только когда я увидалъ ея мертвое лицо, я понялъ все, что я сдѣлалъ. Я понялъ, что я, я убилъ ее, что отъ меня сдѣлалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, вся холодная, и что поправить этого никогда, нигдѣ, ничѣмъ нельзя. Тотъ, кто не пережилъ этого, тотъ не можетъ понять.
Мы долго сидѣли молча. Онъ всхлипывалъ и трясся молча передо мною. Лицо его сдѣлалось тонкое, длинное и ротъ во всю ширину.
„Да, — сказалъ онъ вдругъ. — Если бы я зналъ, что я знаю теперь, какъ бы совсѣмъ другое было.“
Опять мы долго молчали.
— Да-съ. Вотъ что я сдѣлалъ и вотъ что я пережилъ. Да-съ, надо понять настоящее значеніе, что слова Евангелія Матѳ. V, 28. — о томъ, что всякій, кто смотритъ на женщину съ похотью, прелюбодѣйствуетъ, относятся къ женщинѣ, къ сестрѣ, не къ одной чужой, посторонней женщинѣ, а преимущественно къ своей женѣ.
26 Августа 1889 г.
•••
Послѣсловіе.
Я получалъ и получаю много писемъ отъ незнакомыхъ мнѣ лицъ, просящихъ меня объяснить въ простыхъ и ясныхъ словахъ то, что я думаю о предметѣ написаннаго мною разсказа подъ заглавіемъ „Крейцерова соната“. Попытаюсь это сдѣлать, т. е. въ короткихъ словахъ выразить, насколько это возможно, сущность того, что я хотѣлъ сказать въ этомъ разсказѣ и тѣхъ выводовъ, которые, по моему мнѣнію, можно сдѣлать изъ него.
Хотѣлъ я сказать во первыхъ то, что въ нашемъ обществѣ сложилось твердое, общее всѣмъ сословіямъ и поддерживаемое ложной наукой, убѣжденіе въ томъ, что половое общеніе есть дѣло, необходимое для здоровья, и что такъ какъ женитьба есть дѣло не всегда возможное, то и половое общеніе внѣ брака, не обязывающее мужчину ни къ чему кромѣ денежной платы, есть дѣло, совершенно естественное и потому долженствующее быть поощряемымъ.
Убѣжденіе это до такой степени стало общимъ и твердымъ, что родители по совѣту врачей устраиваютъ развратъ для своихъ дѣтей; правительства, единственный смыслъ которыхъ состоитъ въ заботѣ о нравственномъ благосостояніи своихъ гражданъ, учреждаютъ развратъ, т. е. регулируютъ цѣлое сословіе женщинъ, долженствующихъ погибать тѣлесно и душевно для удовлетворенія мнимыхъ потребностей мужчинъ, а холостые люди съ совершенно спокойной совѣстью предаются разврату.
И вотъ я хотѣлъ сказать, что это не хорошо, потому что не можетъ быть того, чтобы для здоровья однихъ людей нужно было губить тѣла и души другихъ людей; такъ же какъ не можетъ быть того, чтобы для здоровья однихъ людей нужно было пить кровь другихъ.
Выводъ же, который, мнѣ кажется, естественно сдѣлать изъ этого, тотъ, что поддаваться этому заблужденію и обману не нужно. А для того, чтобы не поддаваться, надо во первыхъ не вѣрить безнравственнымъ ученіямъ, какими бы они ни поддерживались мнимыми науками, а во вторыхъ понимать, что вступленіе въ такое половое общеніе, при которомъ люди или освобождаютъ себя отъ возможныхъ послѣдствій его дѣтей, или сваливаютъ всю тяжесть этихъ послѣдствій на женщину, или предупреждаютъ возможность рожденіи дѣтей, — что такое половое общеніе есть преступленіе противъ самаго простого требованія нравственности, есть подлость, и что потому холостымъ людямъ, не хотящимъ жить подло, надо не дѣлать этого.
Для того же, чтобы они могли воздерживаться, они должны, кромѣ того, что вести естественный образъ жизни: не пить, не объѣдаться, не ѣсть мяса и не избѣгать труда (не гимнастики, а утомляющаго, не игрушечнаго труда), не допускать въ мысляхъ своихъ возможности общенія съ чужими женщинами, такъ же какъ всякій человѣкъ не допускаетъ такой возможности между собой и матерью, сестрами, родными, женами друзей. Доказательствъ же того, что воздержаніе возможно и менѣе опасно и вредно для здоровья, чѣмъ невоздержаніе, всякій мужчина найдетъ вокругъ себя сотни.
Это первое.
Второе то, что въ нашемъ обществѣ, вслѣдствіе взгляда на любовное общеніе не только, какъ на необходимое условіе здоровья и на удовольствіе, но и какъ на поэтическое, возвышенное благо жизни, супружеская невѣрность сдѣлалась во всѣхъ слояхъ общества (въ крестьянскомъ особенно, благодаря солдатству) самымъ обычнымъ явленіемъ.
И я полагаю, что это не хорошо.
Выводъ же, который вытекаетъ изъ этого, тотъ, что этого не надо дѣлать.
Для того же, чтобы не дѣлать этого, надо, чтобы измѣнился взглядъ на плотскую любовь, чтобы мужчины и женщины воспитывались въ семьяхъ и общественнымъ мнѣніемъ такъ, чтобы они и до и послѣ женитьбы не смотрѣли на влюбленіе и связанную съ нимъ плотскую любовь, какъ на поэтическое и возвышенное состояніе, какъ на это смотрятъ теперь, а какъ на унизительное для человѣка животное состояніе; и чтобы нарушеніе обѣщанія вѣрности, даваемаго въ бракѣ, казнилось общественнымъ мнѣніемъ, по крайней мѣрѣ, такъ же, какъ казнятся имъ нарушенія денежныхъ обязательствъ и торговые обманы, а не воспѣвалось, какъ это дѣлается теперь, въ романахъ, стихахъ, пѣсняхъ, операхъ и т. д.
Это второе.
Третье то, что въ нашемъ обществѣ вслѣдствіе опять того же ложнаго значенія, которое придано плотской любви, рожденіе дѣтей потеряло свой смыслъ. И оно, вмѣсто того, чтобы быть цѣлью и оправданіемъ супружескихъ отношеній, стало помѣхой для пріятнаго продолженія любовныхъ отношеній, и что потому и внѣ брака и въ бракѣ по совѣту служителей врачебной науки, стало распространяться употребленіе средствъ лишающихъ женщину возможности дѣторожденія, или стало входить въ обычай и привычку то, чего не было прежде и теперь еще нѣтъ въ патріархальныхъ крестьянскихъ семьяхъ: продолженіе супружескихъ отношеніи при беременности и кормленіи.
И я полагаю, что это не хорошо.
Не хорошо употреблять средства противъ рожденія дѣтей во первыхъ потому, что это освобождаетъ людей отъ заботъ и трудовъ о дѣтяхъ, служащихъ искупленіемъ плотской любви, а во вторыхъ потому, что это нѣчто весьма близкое къ самому противному человѣческой совѣсти дѣйствію — убійству. И не хорошо невоздержаніе во времена беременности и кормленія, потому что это губитъ тѣлесныя, а главное душевныя силы женщины.
Выводъ же, который вытекаетъ изъ этого, тотъ, что этого не надо дѣлать. А для того, чтобы этого не дѣлать, надо понять, что воздержаніе, составляющее необходимое условіе человѣческаго достоинства при безбрачномъ состояніи, еще болѣе обязательно въ бракѣ.
Это третье.
Четвертое то, что въ нашемъ обществѣ, въ которомъ дѣти представляются или помѣхой для наслажденія или несчастной случайностью, или своего рода наслажденіемъ, когда ихъ рождается впередъ опредѣленное количество, эти дѣти воспитываются не въ виду тѣхъ задачъ человѣческой жизни, которыя предстоятъ имъ какъ разумнымъ и любящимъ существамъ, а только въ виду тѣхъ удовольствій, которыя они могутъ доставить родителямъ. И что вслѣдствіе этого дѣти людей воспитываются какъ дѣти животныхъ, такъ что главная забота родителей состоитъ не въ томъ, чтобы приготовить ихъ къ достойной человѣка дѣятельности, а въ томъ (въ чемъ поддерживаются родители ложной наукой, называемой медициной), чтобы какъ можно лучше напитать ихъ, увеличить ихъ, увеличить ихъ ростъ, сдѣлать ихъ чистыми, бѣлыми, сытыми, красивыми, (если въ низшихъ классахъ этого не дѣлаютъ, то только по необходимости, а взглядъ одинъ и тотъ же). И въ изнѣженныхъ дѣтяхъ, какъ и во всякихъ перекормленныхъ животныхъ, неестественно рано появляется непреодолимая чувственность, составляющая причину страшныхъ мученій этихъ дѣтей въ отроческомъ возрастѣ. Наряды, чтенія, зрѣлища, музыка, танцы, сладкая пища, вся обстановка жизни отъ картинокъ на коробочкахъ до романовъ и повѣстей и поэмъ, еще болѣе разжигаютъ эту чувственность, и вслѣдствіе этого самые ужасные половые пороки и болѣзни дѣлаются обычными условіями выростанія дѣтей обоего пола и часто остаются и въ зрѣломъ возрастѣ.
И я полагаю, что это не хорошо.
Выводъ же, который можно сдѣлать изъ этого, тотъ, что надо перестать воспитывать дѣтей людей, какъ дѣтей животныхъ и для воспитанія людскихъ дѣтей поставить себѣ другія цѣли, кромѣ красиваго выхоленнаго тѣла.
Это четвертое.
Пятое то, что въ нашемъ обществѣ, гдѣ влюбленіе между молодымъ мужчиной и женщиной, имѣющее въ основѣ все-таки плотскую любовь, возведено въ высшую поэтическую цѣль стремленій людей, свидѣтельствомъ чего служитъ все искусство и поэзія нашего общества, молодые люди лучшее время своей жизни посвящаютъ: мужчины на выглядываніе, пріискиванье и овладѣваніе наилучшихъ предметовъ любви въ формѣ любовной связи или брака; а женщины и дѣвушки на заманиваніе и вовлеченіе мужчинъ въ связь или бракъ.
И отъ этого лучшія силы людей тратятся не только не на производительную, но на вредную работу. Отъ этого происходитъ большая часть безумной роскоши нашей жизни, отъ этого — праздность мужчинъ и безстыдство женщинъ, не пренебрегающихъ выставленіемъ, по модамъ, заимствуемымъ отъ завѣдомо развратныхъ женщинъ, вызывающихъ чувственность частей тѣла.
И я полагаю, что это не хорошо.
Не хорошо это потому, что достиженіе цѣли соединенія въ бракѣ, или внѣ брака съ предметомъ любви, какъ бы оно ни было опоэтизировано, есть цѣль, недостойная человѣка, такъ же какъ недостойна человѣка представляющаяся многимъ людямъ высшимъ благомъ цѣль пріобрѣтенія себѣ сладкой и изобильной пищи.
Выводъ же, который можно сдѣлать изъ этого, тотъ, что надо перестать думать, что любовь плотская есть нѣчто особенно возвышенное, а надо понять, что цѣль, достойная человѣка: служенія ли человѣчеству, отечеству, наукѣ, искусству ли (не говоря ужъ о служеніи Богу), какая бы она ни была, если только мы считаемъ ее достойной человѣка, не достигается посредствомъ соединенія съ предметомъ любви въ бракѣ или внѣ его. А что, напротивъ, влюбленіе и соединеніе съ предметомъ любви (какъ бы ни старались доказывать противное въ стихахъ и прозѣ) никогда не облегчаетъ достиженіе достойной человѣка цѣли, но всегда затрудняетъ его.
Это пятое.
•••
Вотъ то существенное, что я хотѣлъ сказать и думалъ, что сказалъ въ своемъ разсказѣ. И мнѣ казалось, что можно разсуждать о томъ, какъ исправить то зло, на которое указывали эти положенія, но что не согласиться съ ними никакъ нельзя.
Мнѣ казалось, что не согласиться съ этими положеніями нельзя, во первыхъ потому, что положенія эти вполнѣ согласны съ прогрессомъ человѣчества, всегда шедшимъ отъ распущенности къ большей и большей цѣломудренности, и съ нравственнымъ сознаніемъ общества, съ нашей совѣстью, всегда осуждающей распущенность и цѣнящей цѣломудріе; и во вторыхъ потому, что эти положенія суть только неизбѣжные выводы изъ ученія Евангелія, которое мы или исповѣдуемъ или по крайней мѣрѣ, хотя и безсознательно, признаемъ основой нашихъ понятій о нравственности.
Но вышло не такъ.
Никто, правда, прямо не оспариваетъ положеніи о томъ, что развратничать не надо до брака, не надо и послѣ брака, что не надо искусственно уничтожать дѣторожденія, что не надо дѣлать изъ дѣтей забавы и не надо ставить любовное соединеніе выше всего остального — однимъ словомъ, никто не споритъ о томъ, что цѣломудріе лучше распущенности. Но говорятъ: „Если безбрачіе лучше брака, то очевидно, что люди должны дѣлать то, что лучше. Если же люди сдѣлаютъ это, то родъ человѣческій прекратится и потому не можетъ быть идеаломъ рода человѣческаго уничтоженіе его.“
Но не говоря уже о томъ, что уничтоженіе рода человѣческаго не есть понятіе новое для людей нашего міра, а есть для религіозныхъ людей догматъ вѣры, для научныхъ же людей неизбѣжный выводъ наблюденій объ охлажденіи солнца, въ возраженіи этомъ есть большое распространенное и старое недоразумѣніе.
Говорятъ: „Если люди достигнутъ идеала полнаго цѣломудрія, то они уничтожатся и потому идеалъ этотъ не вѣренъ.“ Но тѣ, которые говорятъ такъ, умышленно или неумышленно смѣшиваютъ двѣ разнородныя вещи — правило, предписаніе и идеалъ.
Цѣломудріе не есть правило или предписаніе, а идеалъ или, скорѣе одно изъ условій его.
А идеалъ только тогда идеалъ, когда осуществленіе его возможно только въ идеѣ, въ мысли, когда онъ представляется достижимымъ только въ безконечности и когда поэтому возможность приближенія къ нему безконечна. Если бы идеалъ не только могъ быть достигнутъ, но мы могли бы представить себѣ его осуществленіе, онъ бы пересталъ быть идеаломъ.
Таковъ идеалъ Христа — установленіе царства Бога на землѣ, предсказанный еще пророками о томъ, что наступитъ время, когда всѣ люди будутъ научены Богомъ, перекуютъ мечи на орала, копья на серпы, левъ будетъ лежать съ ягненкомъ и когда всѣ существа будутъ соединены любовью. Весь смыслъ человѣческой жизни заключается въ движеніи по направленію къ этому идеалу и потому стремленіе къ христіанскому идеалу во всей его совокупности и къ цѣломудрію, какъ къ одному изъ условій этого идеала, не только не исключаетъ возможности жизни, но напротивъ того, отсутствіе этого христіанскаго идеала уничтожило бы движеніе впередъ и слѣдовательно возможность жизни.
•••
Сужденіе о томъ, что родъ человѣческій прекратится, если люди всѣми силами будутъ стремиться къ цѣломудрію, подобно тому, которое сдѣлали бы (да и дѣлаютъ), что родъ человѣческій погибнетъ, если люди вмѣсто борьбы за существованіе будутъ всѣми силами стремиться къ осуществленію любви къ друзьямъ, къ врагамъ, ко всему живущему.
Сужденія такія вытекаютъ изъ непониманія различія двухъ пріемовъ нравственнаго руководства.
Какъ есть два способа указанія пути ищущему, указанія пути путешественнику, такъ есть два способа нравственнаго руководства для ищущаго правды человѣка. Одинъ способъ состоитъ въ томъ, что человѣку указываются предметы, долженствующіе встрѣтиться ему, и онъ направляется но этимъ предметамъ.
Другой способъ состоитъ въ томъ, что человѣку дается только направленіе по компасу, который человѣкъ несетъ съ собой и на которомъ онъ видитъ всегда одно неизмѣнное направленіе и потому, всякое свое отклоненіе отъ него.
Первый способъ нравственнаго руководства есть способъ внѣшнихъ опредѣленій правилъ: человѣку даются опредѣленные признаки поступковъ, которые онъ долженъ и которыхъ не долженъ дѣлать.
„Соблюдай субботу, обрѣзывайся, не кради, не пей хмельного, не убивай живого, отдавай десятину бѣднымъ, омывайся и молись пять разъ въ день, крестись, причащайся“ и т. п. — Таковы постановленія внѣшнихъ религіозныхъ ученій — браминскаго, буддійскаго, магометанскаго, еврейскаго и церковнаго (ложно называемаго христіанскимъ).
Другой способъ есть способъ указанія человѣку никогда недостижимаго имъ совершенства, стремленіе къ которому человѣкъ сознаетъ въ себѣ: человѣку указывается идеалъ, по отношенію къ которому онъ всегда можетъ видѣть степень своего удаленія отъ него.
„Люби Бога твоего всѣмъ сердцемъ и всей душой твоей и всѣмъ разумѣніемъ твоимъ и ближняго какъ самого себя. — Будьте совершенны, какъ Отецъ нашъ небесный.“
Таково ученіе Христа.
Повѣрка исполненія внѣшнихъ религіозныхъ ученій есть совпаденіе поступковъ съ опредѣленіями этихъ ученій и совпаденіе это возможно.
Повѣрка исполненія Христова ученія есть сознаніе степени несоотвѣтствія съ идеальнымъ совершенствомъ. (Степень приближенія не видна: видно одно отклоненіе отъ совершенства.) Человѣкъ, исповѣдующій внѣшній законъ, есть человѣкъ, стоящій въ свѣтѣ фонаря, привѣшаннаго къ столбу. Онъ стоитъ въ свѣтѣ этого фонаря, ему свѣтло и идти ему дальше некуда. Человѣкъ, исповѣдующій Христово ученіе, подобенъ человѣку, несущему фонарь передъ собой на болѣе или менѣе длинномъ шестѣ: свѣтъ всегда впереди его и всегда побуждаетъ его идти за нимъ и вновь открываетъ ему впереди его новое, влекущее къ себѣ освѣщенное пространство.
Фарисей благодаритъ Бога за то, что онъ исполняетъ все. Богатый юноша тоже исполнилъ все съ дѣтства и не понимаетъ, чего можетъ не доставать ему. И они не могутъ думать иначе; впереди ихъ нѣтъ того, къ чему бы они могли продолжать стремиться. Десятина отдана, суббота соблюдена, родители почтены, прелюбодѣянія, убійства, воровства нѣтъ. Чего же еще? Для исповѣдующаго же христіанское ученіе достиженіе всякой ступени совершенства вызываетъ потребность вступленія на высшую ступень, съ которой открывается еще высшая, и такъ безъ конца.
Исповѣдующій законъ Христа всегда въ положеніи мытаря. Онъ всегда чувствуетъ себя несовершеннымъ, не видя позади себя пути, который онъ прошелъ, а видя всегда впереди себя тотъ путь, по которому ему надо идти и который онъ не прошелъ еще.
Бъ этомъ состоитъ различіе ученія Христа отъ всѣхъ другихъ религіозныхъ ученій, различіе, заключающееся не въ различіи требованій, а въ различіи способа руководства людей.
Христосъ не давалъ никакихъ опредѣленій жизни, онъ никогда не устанавливалъ никакихъ учрежденій, никогда не устанавливалъ и брака. Но люди, непонимающіе особенности ученія Христа, привыкшіе къ внѣшнимъ ученіямъ и желающіе чувствовать себя правыми, какъ чувствуетъ себя правымъ фарисей, противно всему духу ученія Христа, изъ буквы его сдѣлали внѣшнее ученіе правилъ, называемое церковнымъ христіанскимъ ученіемъ и этимъ ученіемъ подмѣнили истинное Христово ученіе идеала.
Церковныя, называющія себя христіанскими, ученія по отношенію ко всѣмъ проявленіямъ жизни вмѣсто ученія идеала Христа поставили внѣшнія опредѣленія и правила, противныя духу ученія. Это сдѣлано по отношенію власти, суда, войска, церкви, богослуженія, это сдѣлано и по отношенію брака: не смотря на то, что Христосъ не только никогда не устанавливалъ брака, но ужъ если отыскивать внѣшнія опредѣленія, то скорѣе отрицалъ его („оставь жену и иди за мной“), церковныя ученія, называющія себя христіанскими, установили бракъ, какъ христіанское учрежденіе, т е. опредѣлили внѣшнія условія, при которыхъ плотская любовь можетъ для христіанина будто бы быть безгрѣшною, вполнѣ законною.
Но такъ какъ въ истинномъ христіанскомъ ученіи нѣтъ никакихъ основаній для учрежденія брака, то и вышло то, что люди нашего міра отъ одного берега отстали и къ другому не пристали, т. е. не вѣрятъ въ сущности въ церковныя опредѣленія брака, чувствуя, что это учрежденіе не имѣетъ основаній въ христіанскомъ ученіи и вмѣстѣ съ тѣмъ не видятъ передъ собой закрытаго церковнымъ ученіемъ идеала Христа, — стремленія къ полному цѣломудрію, — и остаются по отношенію брака безъ всякаго руководства. Отъ этого-то и происходитъ то, кажущееся сначала страннымъ, явленіе, что у евреевъ, магометанъ, ламаистовъ и другихъ признающихъ религіозныя ученія гораздо низшаго уровня, чѣмъ христіанское, но имѣющихъ точныя, внѣшнія опредѣленія брака, семейное начало и супружеская вѣрность несравненно тверже, чѣмъ у такъ называемыхъ христіанъ. У тѣхъ есть опредѣленное наложничество, многоженство, ограниченное извѣстными предѣлами. У насъ же существуетъ полная распущенность и наложничество, и многоженство, и многомужество, не подчиненное никакимъ опредѣленіямъ, скрывающееся подъ видомъ воображаемаго единобрачія.
Только потому, что надъ нѣкоторой частью соединяющихся совершается духовенствомъ за деньги извѣстная церемонія, называемая церковнымъ бракомъ, люди нашего міра наивно или лицемѣрно воображаютъ, что живутъ въ единобрачіи.
Христіанскаго брака быть не можетъ и никогда не было, какъ никогда не было и не можетъ быть ни христіанскаго богослуженія (Мѳ. ѴІ,5–12; Іоан. ІѴ, 21), ни христіанскихъ учителей и отцевъ (Мѳ. ХХІІІ, 8–10), ни христіанской собственности, ни христіанскаго войска, ни суда, ни государства.
Такъ и понималось это всегда христіанами первыхъ и послѣдующихъ вѣковъ.
Идеалъ христіанина есть любовь къ Богу и ближнему, есть отреченіе отъ себя для служенія Богу и ближнему, плотская же любовь — бракъ есть служеніе себѣ и потому есть во всякомъ случаѣ, препятствіе служенію Богу и людямъ, а потому съ христіанской точки зрѣнія, паденіе, грѣхъ.
Вступленіе въ бракъ не можетъ содѣйствовать служенію Богу и людямъ даже въ томъ случаѣ, если бы вступающіе въ бракъ имѣли цѣлью продолженіе рода человѣческаго: такимъ людямъ вмѣсто того, чтобы вступать въ бракъ для произведенія дѣтскихъ жизней, гораздо проще поддерживать и спасать тѣ милліоны дѣтскихъ жизней, которыя гибнутъ вокругъ насъ отъ недостатка, не говорю уже духовной, но матеріальной пищи.
Только въ томъ случаѣ могъ бы христіанинъ, безъ сознанія паденія грѣха, вступить въ бракъ, если бы онъ видѣлъ и зналъ, что всѣ существующія жизни дѣтей обезпечены.
Можно не принимать ученія Христа, того ученія, которымъ проникнута вся наша жизнь и на которомъ основана вся наша нравственность, но, принимая это ученіе, нельзя не признавать того, что оно указываетъ идеалъ полнаго цѣломудрія.
Въ Евангеліи вѣдь сказано ясно и безъ возможности какого либо перетолкованія во первыхъ то, что женатому не должно разводиться съ женой съ тѣмъ, чтобы взять другую, и должно жить съ той, съ которой разъ сошелся (Мѳ. Ѵ, 31, 32. ХІХ, 8 и сл.), во-вторыхъ то, что человѣку вообще и, слѣдовательно, какъ женатому, такъ и не женатому грѣшно смотрѣть на женщину какъ на предметъ наслажденія (Мѳ Ѵ, 28–29); и въ третьихъ то, что не женатому лучше не жениться вовсе, т. е. быть вполнѣ цѣломудреннымъ (Мѳ. ХІХ, 10–12).
Для многихъ и многихъ мысли эти покажутся странными и даже противорѣчивыми.
И онѣ дѣйствительно противорѣчивы, но не между собой, а мысли эти противорѣчатъ всей нашей жизни и невольно является сознаніе: кто правъ — мысли ли эти или жизнь милліоновъ людей и моя?
Это самое чувство испытывалъ и я въ сильнѣйшей степени, когда приходилъ къ тѣмъ убѣжденіямъ, которыя теперь высказываю; я никакъ не ожидалъ, что ходъ моихъ мыслей приведетъ меня къ тому, къ чему онъ привелъ меня. Я ужасался своимъ выводамъ, хотѣлъ не вѣрить имъ, но не вѣрить нельзя было. — И какъ не противорѣчатъ эти выводы всему строю нашей жизни, какъ ни противорѣчатъ тому, что я прежде думалъ и высказывалъ даже, я долженъ былъ признать ихъ.
•••
Но все это общія соображенія, которыя можетъ быть и справедливы, но относятся къ ученію Христа и обязательны для тѣхъ, которые исповѣдуютъ его, но жизнь есть жизнь, и нельзя, указавъ впереди недостижимый идеалъ Христа, оставить людей въ одномъ изъ самыхъ жгучихъ, общихъ и производящихъ наибольшія бѣдствія вопросовъ съ однимъ тѣмъ идеаломъ безъ всякаго руководства.
Молодой страстный человѣкъ сначала увлечется идеаломъ, но не выдержитъ, сорвется и, не зная и не признавая никакихъ правилъ, попадетъ въ полный развратъ.
Такъ разсуждаютъ обыкновенно.
„Христовъ идеалъ недостижимъ, поэтому не можетъ служить намъ руководствомъ въ жизни; о немъ можно говорить, мечтать, но для жизни онъ неприложимъ и потому надо отставить его.“
Намъ нуженъ не идеалъ, а правило — руководство, которое было бы по нашимъ силамъ, по среднему уровню нравственныхъ силъ нашего общества. Церковный, честный бракъ, или хоть даже не совсѣмъ честный бракъ, при которомъ одинъ изъ брачующихся, какъ у насъ, мужчина, уже сходился со многими женщинами, или хотя бы бракъ съ возможностью развода, или хотя бы гражданскій, или идя по тому же пути, хотя бы Японскій на срокъ, почему же не дойти и до домовъ терпимости.
Говорятъ: это лучше, чѣмъ уличный развратъ. — Въ томъ-то и бѣда, что, позволивъ себѣ принижать идеалъ по своей слабости, нельзя найти того предѣла, на которомъ надо остановиться.
Но вѣдь это разсужденіе съ самаго начала невѣрно; невѣрно, прежде всего, то, чтобы идеалъ безконечнаго совершенства не могъ быть руководствомъ въ жизни и чтобы нужно было, глядя на него, или махнуть рукой, сказавъ, что онъ мнѣ не нуженъ, такъ какъ я никогда не достигну его, или принизить идеалъ до тѣхъ ступеней, на которыхъ хочется стоять моей слабости.
Разсуждать такъ все равно, что мореплавателю оказать себѣ, что такъ какъ я не могу идти по той линіи, которую указываетъ компасъ, то я выкину компасъ или перестану смотрѣть на него, т. е. отброшу идеалъ, или прикрѣплю стрѣлку компаса къ тому мѣсту, которое будетъ соотвѣтствовать въ данную минуту ходу моего судна, т. е. принижу идеалъ къ моей слабости.
Идеалъ совершенства, данный Христомъ, не есть мечта или предметъ риторическихъ проповѣдей, а есть самое необходимое и всѣмъ доступное руководство нравственной жизни людей какъ компасъ — необходимое и доступное орудіе руководства морехода, только надо вѣрить какъ въ то, такъ и въ другое.
Въ какомъ бы ни находился человѣкъ положеніи, всегда достаточно идеала, даннаго Христомъ для того, чтобы получить самое вѣрное указаніе тѣхъ поступковъ, которые должно и не должно совершить. Но надо вѣрить этому ученію вполнѣ, этому одному ученію, перестать вѣрить во всѣ другія, точно такъ же, какъ надо мореходу вѣрить въ компасъ, перестать приглядываться и руководиться тѣмъ, что видимъ по сторонамъ.
Надо умѣть руководствоваться христіанскимъ ученіемъ, какъ умѣть руководствоваться компасомъ, а для этого, главное, надо понимать свое положеніе, надо умѣть не бояться съ точностью опредѣлять свое отклоненіе отъ идеальнаго даннаго направленія.
На какой бы ступени ни стоялъ человѣкъ, всегда есть для него возможность приближенія къ этому идеалу и никакое положеніе для него не можетъ быть такимъ, въ которомъ бы онъ могъ сказать, что онъ достигъ его и не могъ бы стремиться къ еще большему приближенію.
Таково стремленіе человѣка къ христіанскому идеалу вообще и таково же къ цѣломудрію въ частности.
Если представить себѣ по отношенію полового вопроса самыя различныя положенія людей отъ невиннаго дѣтства до брака, въ которомъ не соблюдается воздержаніе, на каждой ступени между этими двумя положеніями ученіе Христа, съ выставляемымъ имъ идеаломъ, будетъ всегда служить явнымъ и опредѣленнымъ руководствомъ того, что должно и не должно на каждой изъ этихъ ступеней дѣлать человѣку.
Что дѣлать чистому юношѣ, дѣвушкѣ? Соблюдать себя чистыми отъ соблазновъ и для того, чтобы быть въ состояніи — всѣ свои силы отдать на служеніе Богу и людямъ, стремиться къ большему и большему цѣломудрію мыслей и желаній.
Что дѣлать юношѣ и дѣвушкѣ, подпавшимъ соблазнамъ, поглощеннымъ мыслями о безпредметной любви или о любви къ извѣстному лицу и потерявшимъ отъ этого извѣстную долю возможности служить Богу и людямъ? Все то же: не попускать себя на паденіе, зная, что такое попущеніе не освободитъ отъ соблазна, а только усилить его и все также стремиться къ большему и большему цѣломудрію для возможности болѣе полнаго служенія Богу и людямъ.
Что дѣлать людямъ, когда они не осилили борьбы и пали? Смотрѣть на свое паденіе не какъ на законное наслажденіе какъ смотрятъ теперь, когда оно оправдывается обрядомъ брака, ни какъ на случайное удовольствіе, которое можно повторять съ другими, ни какъ на несчастіе, когда паденіе совершается съ неровней и безъ обряда, а смотрѣть на это первое паденіе, какъ на единственное, какъ на вступленіе въ неразрывный бракъ.
Вступленіе это въ бракъ своимъ вытекающимъ изъ него послѣдствіемъ рожденія дѣтей опредѣляетъ для вступившихъ въ бракъ новую болѣе ограниченную форму служенія Богу и людямъ. До брака человѣкъ непосредственно въ самыхъ разнообразныхъ формахъ могъ служить Богу и людямъ, вступленіе же въ бракъ ограничиваетъ его область дѣятельности и требуетъ отъ него возращенія и воспитанія происходящаго отъ брака потомства, будущихъ служителей Богу и людямъ.
Что дѣлать мужчинѣ и женщинѣ, живущимъ въ бракѣ и исполняющимъ то ограниченное служеніе Богу и людямъ черезъ возращеніе и воспитаніе дѣтей, которое вытекаетъ изъ ихъ положенія?
Все то же, стремиться вмѣстѣ къ освобожденію отъ соблазна, очищенію себя и прекращенію грѣха замѣной отношеній препятствующихъ и общему и частному служенію Богу и людямъ, замѣной плотской любви чистыми отношеніями сестры и брата.
•••
И потомъ, неправда то, что мы не можемъ руководиться идеаломъ Христа, потому что онъ такъ высокъ, совершененъ и недостижимъ. Мы не можемъ руководиться имъ только потому, что мы сами себѣ лжемъ и обманываемъ себя.
Вѣдь, если мы говоримъ, что нужно имѣть правила, болѣе осуществимыя, чѣмъ идеалъ Христа, а то иначе мы, не достигнувъ идеала Христа, впадаемъ въ развратъ, мы говоримъ не то, что для насъ слишкомъ высокъ идеалъ Христа, а только то, что мы въ него не вѣримъ и не хотимъ опредѣлять своихъ поступковъ по этому идеалу. Говоря, что разъ павши, мы впадаемъ въ развратъ, мы вѣдь этимъ говоримъ только, что мы впередъ уже рѣшили, что паденіе съ неровней не есть грѣхъ, а есть забава, увлеченіе, которое не обязательно поправить тѣмъ, что мы называемъ бракомъ. Если же мы бы понимали, что паденіе есть грѣхъ, который долженъ и можетъ быть искупленъ только неразрывностью брака и всею той дѣятельностью, которая вытекаетъ изъ воспитанія дѣтей, рожденныхъ отъ брака, то паденіе никакъ не могло бы быть причиной впаденія въ развратъ.
А это вѣдь все равно, какъ если бы земледѣлецъ не считалъ посѣвомъ тотъ посѣвъ, который не удался ему, а сѣя на другомъ и третьемъ мѣстѣ, считалъ бы настоящимъ посѣвомъ тотъ, который удается ему. Очевидно, что такой человѣкъ испортилъ бы много земли и сѣмянъ и никогда бы не научился сѣять.
Только поставьте идеаломъ цѣломудріе, считайте, что всякое паденіе кого бы то ни было съ кѣмъ бы то ни было есть единственный неразрывный на всю жизнь бракъ, и будетъ ясно, что руководство, данное Христомъ, не только достаточно, но единственно возможно.
„Человѣкъ слабъ, надо дать ему задачу по силамъ,“ говорятъ люди. Это все равно, что сказать: „рука моя слаба и я не могу провести линіи, которая была бы прямая, т. е. кратчайшая между двумя точками, и потому, чтобы обличить себя, я, желая проводить прямую, возьму за образецъ себѣ кривую или ломанную.
Чѣмъ слабѣе моя рука, тѣмъ нужнѣе мнѣ совершенный образецъ.
Нельзя, познавъ христіанское ученіе идеала, дѣлать такъ, какъ будто мы не знаемъ его, и замѣнять его внѣшними опредѣленіями.
Христіанское ученіе идеала открыто человѣчеству именно потому, что это можетъ руководить его въ теперешнемъ возрастѣ. Человѣчество уже выжило періодъ религіозныхъ внѣшнихъ опредѣленій и никто уже не вѣритъ въ нихъ. Христіанское ученіе идеала есть то единое ученіе, которое можетъ руководить человѣчествомъ.
Нельзя, не должно замѣнять идеалъ Христа внѣшними правилами, а надо твердо держать этотъ идеалъ передъ собой во всей чистотѣ его и главное — вѣрить въ него.
Плавающему недалеко отъ берега можно было говорить: „Держись того возвышенія, мыса башни и т. д. Но приходитъ время, когда пловцы удалились отъ берега и руководствомъ имъ должны и могутъ служить только недостижимыя свѣтила и компасъ, показывающій направленіе. А то и другое дано намъ.
☆☆☆
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.