Собраніе сочиненій. Томъ І
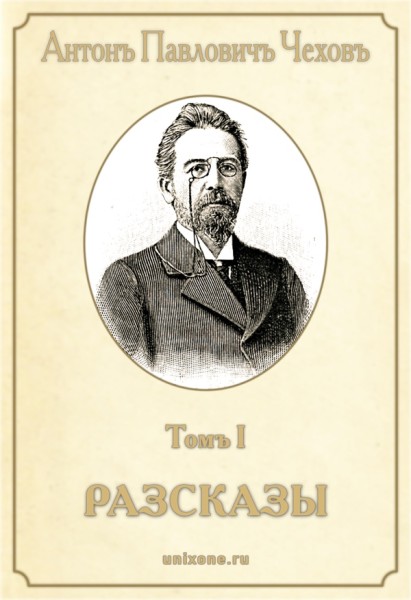
Содержаніе:
- Въ банѣ.
- Сирена.
- Толстый и тонкій.
- Женское счастье.
- Альбомъ.
- Случай съ классикомъ.
- Страшная ночь.
- Чтеніе. Разсказъ стараго воробья.
- Въ потемкахъ.
- Аптекарша.
- Ораторъ.
- Романъ съ контрабасомъ.
- Бракъ по разсчету. Романъ въ 2-хъ частяхъ.
- Ночь передъ судомъ. Разсказъ подсудимаго.
- Дачники.
- Броженіе умовъ. Изъ лѣтописи одного города.
- Сонная одурь.
- Тайна.
- Мститель.
- Заблудшіе.
- Репетиторъ.
- Симулянты.
- Господа обыватели. Пьеса въ двухъ дѣйствіяхъ.
- Отецъ семейства.
- Неудача.
- Экзаменъ на чинъ.
- Счастливчикъ.
- Средство отъ запоя.
- Житейскія невзгоды.
- Дорогая собака.
- Не въ духѣ.
- Надлежащія мѣры.
- Первый любовникъ.
- Хорошій конецъ.
- Много бумаги. Архивное изысканіе.
- Справка.
- Знакомый мужчина.
- Изъ дневника помощника бухгалтера.
- Злой мальчикъ.
- То была она!
- Интриги.
- Въ почтовомъ отдѣленіи.
- Мужъ.
- Въ номерахъ.
- Гриша.
- Необыкновенный.
- Левъ и Солнце.
- Антрепренеръ подъ диваномъ. Закулисная исторія.
- Жалобная книга.
- Лишніе люди.
- Скорая помощь.
- Загадочная натура.
Въ банѣ.
I.
— Эй, ты, фигура! — крикнулъ толстый, бѣлотѣлый господинъ, завидѣвъ въ туманѣ высокаго и тощаго человѣка съ жиденькой бородкой и съ большимъ мѣднымъ крестомъ на груди. — Поддай пару!
— Я, ваше высокородіе, не банщикъ, я цирюльникъ-съ. Не мое дѣло паръ поддавать. Не прикажете ли кровососныя баночки поставить?
Толстый господинъ погладилъ себя по багровымъ бедрамъ, подумалъ и сказалъ:
— Банки? Пожалуй, поставь. Спѣшить мнѣ некуда.
Цирюльникъ сбѣгалъ въ предбанникъ за инструментомъ, и черезъ какія-нибудь пять минутъ на груди и спинѣ толстаго господина уже темнѣли десять банокъ.
— Я васъ помню, ваше благородіе, — началъ цирюльникъ, ставя одиннадцатую банку. — Вы у насъ въ прошлую субботу изволили мыться и тогда же еще я вамъ мозоли срѣзывалъ. Я цирюльникъ Михайло… Помните-съ? Тогда же вы еще изволили меня насчетъ невѣстъ разспрашивать.
— Ага… Такъ что же?
— Ничего-съ… Говѣю я теперь и грѣхъ мнѣ осуждать, ваше благородіе, но не могу не выразить вамъ по совѣсти. Пущай меня Богъ проститъ за осужденія мои, но невѣста нынче пошла все непутящая, несмысленная… Прежняя невѣста желала выйтитъ за человѣка, который солидный, строгій, съ капиталомъ, который все обсудить можетъ, религію помнитъ, а нынѣшняя льстится на образованность. Подавай ей образованнаго, а господина чиновника, или кого изъ купечества и не показывай — осмѣетъ! Образованность разная бываетъ… Иной образованный, конечно, до высокаго чина дослужится, а другой весь вѣкъ въ писцахъ просидитъ, похоронить не на что. Мало ли ихъ нынче такихъ? Къ намъ сюда ходитъ одинъ… образованный. Изъ телеграфистовъ… Все превзошелъ, депеши выдумывать можетъ, а безъ мыла моется. Смотрѣть жалко!
— Бѣденъ, да честенъ! — донесся съ верхней полки хриплый басъ. — Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная съ бѣдностью, свидѣтельствуетъ о высокихъ качествахъ души. Невѣжа!
Михайло искоса поглядѣлъ на верхнюю полку… Тамъ сидѣлъ и билъ себя по животу вѣникомъ тощій человѣкъ съ костистыми выступами на всемъ тѣлѣ и состоящій, какъ казалось, изъ однихъ только кожи да реберъ. Лица его не было видно, потому что все оно было покрыто свѣсившимися внизъ длинными волосами. Видны были только два глаза, полные злобы и презрѣнія, устремленные на Михайлу.
— Изъ энтихъ… изъ длинноволосыхъ! — мигнулъ глазомъ Михайло. — Съ идеями… Страсть, сколько развелось нынче такого народу! Не переловишь всѣхъ… Ишь, патлы распустилъ, шкилетъ! Всякій христіанскій разговоръ ему противенъ, все равно, какъ нечистому ладанъ. За образованность вступился! Такихъ вотъ и любитъ нынѣшняя невѣста. Именно вотъ такихъ, ваше высокородіе! Нешто не противно? Осенью зоветъ меня къ себѣ одна священникова дочка. — «Найди, говоритъ, мнѣ, Мишель», — меня въ дома́хъ Мишелемъ зовутъ, потому, я дамъ завиваю, — «найди, говоритъ, мнѣ, Мишель, жениха, чтобъ былъ изъ писателей». А у меня, на ея счастье, былъ такой… Ходилъ онъ въ трактиръ къ Порфирію Емельянычу и все стращалъ въ газетахъ пропечатать. Подойдетъ къ нему человѣкъ за водку деньги спрашивать, а онъ сейчасъ по уху… «Какъ? Съ меня деньги? Да знаешь ты, кто я такой? Да знаешь ты, что я могу въ газетахъ пропечатать, что ты душу загубилъ?» Плюгавый такой, оборванный. Прельстилъ я его поповскими деньгами, показалъ барышнинъ портретъ и сводилъ. Костюмчикъ ему на прокатъ досталъ… Не понравился барышнѣ! «Меланхоліи, говоритъ, въ лицѣ мало». И сама не знаетъ, какого ей лѣшаго нужно!
— Это клевета на печать! — послышался хриплый басъ съ той же полки. — Дрянь!
— Это я-то дрянь? Гм!… Счастье ваше, господинъ, что я въ эту недѣлю говѣю, а то бы я вамъ за «дрянь» сказалъ бы слово… Вы, стало-бытъ, тоже изъ писателей?
— Я хотя и не писатель, но не смѣй говорить о томъ, чего не понимаешь. Писатели были въ Россіи многіе и пользу принесшіе. Они просвѣтили землю, и за это самое мы должны относиться къ нимъ не съ поруганіемъ, а съ честью. Говорю я о писателяхъ какъ свѣтскихъ, такъ равно и духовныхъ.
— Духовныя особы не станутъ такими дѣлами заниматься.
— Тебѣ, невѣжѣ, не понять. Димитрій Ростовскій, Иннокентій Херсонскій, Филаретъ Московскій и прочіе другіе святители церкви своими твореніями достаточно способствовали просвѣщенію.
Михайло покосился на своего противника, покрутилъ головой и крякнулъ.
— Ну, ужъ это вы что-то тово, сударь… — пробормоталъ онъ, почесавъ затылокъ. — Что-то умственное… Недаромъ на васъ и волосья такіе. Недаромъ! Мы все это очень хорошо понимаемъ и сейчасъ вамъ покажемъ, какой вы человѣкъ есть. Пущай, ваше благородіе, баночки на васъ постоятъ, а я сейчасъ… Схожу только.
Михайло, подтягивая на ходу свои мокрые брюки и громко шлепая босыми ногами, вышелъ въ предбанникъ.
— Сейчасъ выйдетъ изъ бани длинноволосый, — обратился онъ къ малому, стоявшему за конторкой и продававшему мыло, — такъ ты, тово… погляди за нимъ. Народъ смущаетъ… Съ идеями… За Назаромъ Захарычемъ сбѣгать бы…
— Ты скажи мальчикамъ.
— Сейчасъ выйдетъ сюда длинноволосый, — зашепталъ Михайло, обращаясь къ мальчикамъ, стоявшимъ около одежи. — Народъ смущаетъ. Поглядите за нимъ, да сбѣгайте къ хозяйкѣ, чтобъ за Назаромъ Захарычемъ послали — протоколъ составить. Слова разныя произноситъ… Съ идеями…
— Какой же это длинноволосый? — встревожились мальчики. — Тутъ никто изъ такихъ не раздѣвался. Всѣхъ раздѣвалось шестеро. Тутъ вотъ два татара, тутъ господинъ раздѣвшись, тутъ изъ купцовъ двое, тутъ дьяконъ… а больше и никого… Ты, знать, отца дьякона за длинноволосаго принялъ?
— Выдумываете, черти! Знаю, что говорю!
Михайло посмотрѣлъ на одежу дьякона, потрогалъ рукой ряску и пожалъ плечами… По лицу его разлилось крайнее недоумѣніе.
— А какой онъ изъ себя?
— Худенькій такой, бѣлобрысенькій… Бородка чуть-чуть… Все кашляетъ.
— Гм!… — пробормоталъ Михайло. — Гм!… Это я, значитъ, духовную особу облаялъ… Комиссія отца Денисія! Вотъ грѣхъ-то! Вотъ грѣхъ! А вѣдь я говѣю, братцы! Какъ я теперь исповѣдаться буду, ежели я духовное лицо обидѣлъ? Господи, прости меня, грѣшнаго! Пойду прощенія просить…
Михайло почесалъ затылокъ и, состроивъ печальное лицо, отправился въ баню. Отца дьякона на верхней полкѣ уже не было. Онъ стоялъ внизу у крановъ, и, сильно раскорячивъ ноги, наливалъ себѣ въ шайку воды.
— Отецъ дьяконъ! — обратился къ нему Михайло плачущимъ голосомъ. — Простите меня, Христа ради, окаяннаго!
— За что такое?
Михайло глубоко вздохнулъ и поклонился дьякону въ ноги.
— За то, что я подумалъ, что у васъ въ головѣ есть идеи!
II.
— Удивляюсь я, какъ это ваша дочь, при всей своей красотѣ и невинномъ поведеніи, не вышла до сихъ поръ замужъ! — сказалъ Никодимъ Егорычъ Потычкинъ, полѣзая на верхнюю полку.
Никодимъ Егорычъ былъ голъ, какъ и всякій голый человѣкъ, но на его лысой головѣ была фуражка. Боясь прилива къ головѣ и апоплексическаго удара, онъ всегда парился въ фуражкѣ. Его собесѣдникъ Макаръ Тарасычъ Пѣшкинъ, маленькій старичокъ, съ тонкими синими ножками, въ отвѣтъ на его вопросъ, пожалъ плечами и сказалъ:
— А потому она не вышла, что характеромъ меня Богъ обидѣлъ. Смиренъ я и кротокъ очень, Никодимъ Егорычъ, а нынче кротостью ничего не возьмешь. Женихъ нынче лютый, — съ нимъ и обходиться нужно сообразно.
— То-есть, какъ же лютый? Съ какой это вы точки?
— Балованный женихъ… Съ нимъ какъ надо? Строгость нужна, Никодимъ Егорычъ. Стѣсняться съ нимъ не слѣдоваетъ, Никодимъ Егорычъ. Къ мировому, по мордасамъ, за городовымъ послать — вотъ какъ надо! Негодный народъ. Пустяковый народъ.
Пріятели легли рядомъ на верхней полкѣ и заработали вѣниками.
— Пустяковый… — продолжалъ Макаръ Тарасычъ. — Натерпѣлся я отъ ихъ, каналіевъ. Будь я характеромъ посолиднѣе, моя Даша давно бы уже была замужемъ и дѣтокъ рожала. Да-съ… Старыхъ дѣвокъ теперь въ женскомъ полѣ, сударь мой, ежели по чистой совѣсти, половина на половину, пятьдесятъ процентовъ. И замѣтьте, Никодимъ Егорычъ, каждая изъ этихъ самыхъ дѣвокъ въ молодыхъ годахъ жениховъ имѣла. А почему, спрашивается, не вышла? По какой причинѣ? А потому, что удержать его, жениха-то, родители не смогли, дали ему отвертѣться.
— Это вѣрно-съ.
— Мужчина нынче балованный, глупый, вольнодумствующій. Любитъ онъ все это на шерамыжку, да съ выгодой. Задаромъ онъ тебѣ и шагу не ступитъ. Ты ему удовольствіе, а онъ съ тебя же деньги требуетъ. Ну, и женится тоже не безъ мыслей. Женюсь, молъ, такъ деньгу зашибу. Это бы еще ничего, куда ни шло — ѣшь, лопай, бери мои деньги, только женись на моемъ дитѣ, сдѣлай такую милость, но бываетъ, что и съ деньгами наплачешься натерпишься горя-гореванскаго. Иной сватается-сватается, а какъ дойдетъ до самой точки, до вѣнца, то и назадъ оглобли, къ другой идетъ свататься. Женихомъ хорошо быть, одно удовольствіе. Его и накормятъ, и напоятъ, и денегъ взаймы дадутъ — чѣмъ не жизнь? Ну, и строитъ изъ себя жениха до старости лѣтъ, покуда смерть, — и жениться ему не нужно. И ужъ лысина во всю голову, и сѣдой весь, и колѣни гнутся, а онъ все женихъ. А то бываютъ, которые не женятся по глупости… Глупый человѣкъ самъ не знаетъ, что ему надобно, ну, и перебираетъ: то ему не хорошо, другое не ладно. Ходитъ-ходитъ, сватается-сватается, а потомъ вдругъ ни съ того, ни съ сего? — «Не могу, говоритъ, и не желаю». Да вотъ хоть взять, къ примѣру, господина Катавасова, перваго Дашинаго жениха. Учитель гимназіи, титулярный тоже совѣтникъ… Науки всѣ выучилъ, по-французски, по-нѣмецки… математикъ, а на повѣрку вышелъ болванъ, глупый человѣкъ — и больше ничего. Вы спите, Никодимъ Егорычъ?
— Нѣтъ, зачѣмъ же-съ? Это я закрылъ глаза отъ удовольствія…
— Ну, вотъ… Началъ онъ около моей Даши ходитъ. А надо вамъ замѣтить, Дашѣ тогда и двадцати годочковъ еще не было. Такая была дѣвица, что просто всѣмъ на удивленіе. Финикъ! Полнота, формалистика въ тѣлѣ и прочее. Статскій совѣтникъ Цицероновъ-Гравіанскій — по духовному вѣдомству служитъ — на колѣняхъ ползалъ, чтобъ къ нему въ гувернантки пошла — не захотѣла! Началъ Катавасовъ ходить къ намъ. Ходитъ каждый день и до полночи сидитъ, все съ ней про разныя науки тамъ и физики… Книжки ей носитъ, музыку ея слушаетъ… Все больше на книжки напираетъ. Даша-то моя сама ученая, книги ей вовсе не надобны, баловство одно только, а онъ — то прочти, другое прочти; надоѣлъ до смерти. Полюбилъ ее, вижу. И она, замѣтно, ничего. «Не нравится, говоритъ, онъ мнѣ за то, что онъ, папаша, не военный». Не военный, а все-таки ничего. Чинъ есть, благородный, сытый, трезвый — чего же тутъ еще? Посватался. Благословили… Про приданое не спросилъ даже. Молчокъ… Словно онъ не человѣкъ, а духъ безплотный, и безъ приданаго можетъ. Назначили и день, когда вѣнчать. И что же вы думаете? А? За три дня до свадьбы приходитъ ко мнѣ въ лавку этотъ самый Катавасовъ. Глаза красные, личность блѣдная, словно съ перепугу, весь дрожитъ. Что угодно-съ? — «Извините, говоритъ, Макаръ Тарасычъ, но я жениться на Дарьѣ Макаровнѣ не могу. Я, говоритъ, ошибся. Я, говоритъ, взирая на ея цвѣтущую молодость и наивность, думалъ найти въ ней почву, такъ сказать, свѣжесть, говоритъ, душевную, а она уже успѣла пріобрѣсти склонности, говоритъ. Она наклонна, говоритъ, къ мишурѣ, не знаетъ труда, съ молокомъ матери всосала…» И не помню, что она тамъ всосала… Говоритъ, а самъ плачетъ. А я? Я, сударь мой, побранился только, отпустилъ его. И къ мировому не сходилъ, и начальству его не жаловался, по городу не срамилъ. Пойди-я къ мировому, такъ, небось, испугался бы срама, женился бы. Начальство, небось, не поглядѣло бы, что она тамъ всосала. Коли смутилъ дѣвку, такъ и женись. Купецъ, вонъ, Клякинъ, — слышали? — даромъ что мужикъ, а подикася какую штуку того… У него женихъ тоже упорствовать сталъ, въ приданомъ замѣтилъ что-то какъ будто не то, такъ онъ, Клякинъ-то, завелъ его въ кладовую, заперся, вынулъ, знаете ли, изъ кармана большой револьверъ съ пулями, какъ слѣдуетъ заряженный, и говоритъ: «Побожись, говоритъ, передъ образомъ, что женишься, а то, говоритъ, убью сію минуту, подлецъ этакой. Сію минуту!» Побожился и женился молодчикъ. Вотъ видите. А я бы такъ не способенъ. И драться даже не того… Увидалъ мою Дашу консисторскій чиновникъ, хохолъ Брюзденко. Тоже изъ духовнаго вѣдомства. Увидалъ и влюбился. Ходитъ за ней красный какъ ракъ, бормочетъ разныя слова, и изо рта у него жаръ пышитъ. Днемъ у насъ сидитъ, а ночью подъ окнами ходитъ. И Даша его полюбила. Глаза его хохлацкіе ей понравились. Въ нихъ, говоритъ, огонь и черная ночь. Ходилъ-ходилъ хохолъ и посватался. Даша, можно сказать, въ восторгѣ и восхищеніи, дала свое согласіе. — «Я, говоритъ, папаша, понимаю, это не военный, но все же изъ духовнаго вѣдомства, а это все равно, что интендантство, и поэтому я его очень люблю». Дѣвица, а тоже поди разбираетъ нынче: интендантство! Осмотрѣлъ хохолъ приданое, поторговался со мной и только носомъ покрутилъ — на все согласенъ, свадьбу бы только поскорѣй; но въ тотъ самый день, какъ обручать, поглядѣлъ на гостей, да какъ схватитъ себя за голову. — «Батюшки, говоритъ, сколько у нихъ родни! Не согласенъ! Не могу! Не желаю!» И пошелъ, и пошелъ… Я ужъ и такъ, и этакъ… Да ты, говорю, ваше высокородіе, съ ума сошелъ, что ли? Вѣдь больше чести, ежели родни много! Не соглашается! Взялъ шапку да и былъ таковъ.
Былъ и такой случай. Посваталъ мою Дашу лѣсничій Аляляевъ. Полюбилъ ее за умъ и поведеніе… Ну, и Даша его полюбила. Характеръ его положительный ей нравился. Человѣкъ онъ, дѣйствительно, хорошій, благородный. Посватался и все, этакъ, обстоятельно. Приданое все до тонкостей осмотрѣлъ, всѣ сундуки перерылъ, Матрену поругалъ за то, что та салопа отъ моли не уберегла. И мнѣ реестрикъ своего имущества доставилъ. Благородный человѣкъ, грѣхъ про него что худое сказать. Нравился онъ мнѣ, признаться, до чрезвычайности. Торговался онъ со мной два мѣсяца. Я ему восемь тысячъ даю, а онъ проситъ восемь съ половиной. Торговались-торговались; бывало, сядемъ чай пить, выпьемъ по пятнадцати стакановъ, и все торгуемся. Я ему двѣсти накинулъ — не хочетъ! Такъ и разошлись изъ-за трехсотъ рублей. Уходилъ бѣдный и плакалъ… Ужъ больно любилъ Дашу! Ругаю теперь себя, грѣшный человѣкъ, истинно говорю. Было бъ мнѣ отдать ему триста или же попугать, на весь городъ посрамить, или завести бы въ темную комнатку, да по мордасамъ. Прогадалъ я, вижу теперь, что прогадалъ, дурака сломалъ. Ничего не подѣлаешь, Никодимъ Егорычъ: характеръ у меня тихій!
— Смирны очень. Это вѣрно-съ. Ну, я пойду, пора… Голова тяжела стала…
Никодимъ Егорычъ въ послѣдній разъ ударилъ себя вѣникомъ и спустился внизъ. Макаръ Тарасычъ вздохнулъ и еще усерднѣе замахалъ вѣникомъ.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1885, № 10.
Сирена.
Послѣ одного изъ засѣданій N-скаго мирового съѣзда, судьи собрались въ совѣщательной комнатѣ, чтобы снять свои мундиры, минутку отдохнуть и ѣхать домой обѣдать. Предсѣдатель съѣзда, очень видный мужчина съ пушистыми бакенами, оставшійся по одному изъ только-что разобранныхъ дѣлъ «при особомъ мнѣніи», сидѣлъ за столомъ и спѣшилъ записать свое мнѣніе. Участковый мировой судья Милкинъ, молодой человѣкъ съ томнымъ, меланхолическимъ лицомъ, слывущій за философа, недовольнаго средой и ищущаго цѣли жизни, стоялъ у окна и печально глядѣлъ во дворъ. Другой участковый и одинъ изъ почетныхъ уже ушли. Оставшійся почетный, обрюзглый, тяжело дышащій толстякъ, и товарищъ прокурора, молодой нѣмецъ съ катаральнымъ лицомъ, сидѣли на диванчикѣ и ждали, когда кончитъ писать предсѣдатель, чтобы ѣхать вмѣстѣ обѣдать. Передъ ними стоялъ секретарь съѣзда Жилинъ, маленькій человѣчекъ съ бачками около ушей и съ выраженіемъ сладости на лицѣ. Медово улыбаясь и глядя на толстяка, онъ говорилъ вполголоса:
— Всѣ мы сейчасъ желаемъ кушать, потому что утомились и уже четвертый часъ, но это, душа моя, Григорій Саввичъ, не настоящій аппетитъ. Настоящій, волчій аппетитъ, когда, кажется, отца родного съѣлъ бы, бываетъ только послѣ физическихъ движеній, напримѣръ, послѣ охоты съ гончими, или когда отмахаешь на обывательскихъ верстъ сто безъ передышки. Тоже много значитъ и воображеніе-съ. Ежели, положимъ, вы ѣдете съ охоты домой и желаете съ аппетитомъ пообѣдать, то никогда не нужно думать объ умномъ; умное да ученое всегда аппетитъ отшибаетъ. Сами изволите знать, философы и ученые насчетъ ѣды самые послѣдніе люди, и хуже ихъ, извините, не ѣдятъ даже свиньи, ѣдучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчикѣ да закусочкѣ. Я разъ дорогою закрылъ глаза и вообразилъ себѣ поросеночка съ хрѣномъ, такъ со мной отъ аппетита истерика сдѣлалась. Ну-съ, а когда вы въѣзжаете къ себѣ во дворъ, то нужно, чтобы въ это время изъ кухни пахло чѣмъ-нибудь этакимъ, знаете ли…
— Жареные гуси мастера пахнуть, — сказалъ почетный мировой, тяжело дыша.
— Не говорите, душа моя, Григорій Саввичъ, утка или бекасъ могутъ гусю десять очковъ впередъ дать. Въ гусиномъ букетѣ нѣтъ нѣжности и деликатности. Забористѣе всего пахнетъ молодой лукъ, когда, знаете ли, начинаетъ поджариваться и, понимаете ли, шипитъ, подлецъ, на весь домъ. Ну-съ, когда вы входите въ домъ, то столъ уже долженъ быть накрытъ, а когда сядете, сейчасъ салфетку за галстукъ и не спѣша тянетесь къ графинчику съ водочкой. Да ее, мамочку, наливаете не въ рюмку, а въ какой-нибудь допотопный дѣдовскій стаканчикъ изъ серебра, или въ этакій пузатенькій съ надписью: «Его же и монаси пріемлютъ», и выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолокъ поглядите, потомъ, этакъ, не спѣша, поднесете ее, водочку-то, къ губамъ и — тотчасъ же у васъ изъ желудка по всему тѣлу искры…
Секретарь изобразилъ на своемъ сладкомъ лицѣ блаженство.
— Искры… — повторилъ онъ, жмурясь. — Какъ только выпили, сейчасъ же закусить нужно.
— Послушайте, — сказалъ предсѣдатель, поднимая глаза на секретаря, — говорите потише! Я изъ-за васъ уже второй листъ порчу.
— Ахъ, виноватъ-съ, Петръ Николаичъ! Я буду тихо, — сказалъ секретарь и продолжалъ полушопотомъ: — Ну-съ, а закусить, душа моя, Григорій Саввичъ, тоже нужно умѣючи. Надо знать, чѣмъ закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съѣли вы ея кусочекъ съ лучкомъ и съ горчичнымъ соусомъ, сейчасъ же, благодѣтель мой, пока еще чувствуете въ животѣ искры, кушайте икру саму по себѣ, или, ежели желаете, съ лимончикомъ, потомъ простой рѣдьки съ солью, потомъ опять селедки, но всего лучше, благодѣтель, рыжики соленые, ежели ихъ изрѣзать мелко, какъ икру, и, понимаете ли, съ лукомъ, съ прованскимъ масломъ… объяденіе! Но налимья печонка — это трагедія!
— М-да… — согласился почетный мировой, жмуря глаза. — Для закуски хороши также того… душоные бѣлые грибы.
— Да, да, да… съ лукомъ, знаете ли, съ лавровымъ листомъ и всякими спеціями. Откроешь кастрюлю, а изъ нея паръ, грибной духъ… даже слеза прошибаетъ иной разъ! Ну-съ, какъ только изъ кухни приволокли кулебяку, сейчасъ же, не медля, нужно вторую выпить.
— Иванъ Гурьичъ! — сказалъ плачущимъ голосомъ предсѣдатель. — Изъ-за васъ я третій листъ испортилъ!
— Чортъ его знаетъ, только объ ѣдѣ и думаетъ! — проворчалъ философъ Милкинъ, дѣлая презрительную гримасу. — Неужели, кромѣ грибовъ да кулебяки, нѣтъ другихъ интересовъ въ жизни?
— Ну-съ, передъ кулебякой выпить, — продолжалъ секретарь вполголоса; онъ уже такъ увлекся, что, какъ поющій соловей, не слышалъ ничего, кромѣ собственнаго голоса. — Кулебяка должна быть аппетитная, безстыдная, во всей своей наготѣ, чтобъ соблазнъ былъ. Подмигнешь на нее глазомъ, отрѣжешь этакій кусище и пальцами надъ ней пошевелишь вотъ этакъ, отъ избытка чувствъ. Станешь ее ѣсть, а съ нея масло, какъ слезы, начинка жирная, сочная, съ яйцами, съ потрохами, съ лукомъ…
Секретарь подкатилъ глаза и перекосилъ ротъ до самаго уха. Почетный мировой крякнулъ и, вѣроятно, воображая себѣ кулебяку, пошевелилъ пальцами.
— Это чортъ знаетъ что… — проворчалъ участковый, отходя къ другому окну.
— Два куска съѣлъ, а третій къ щамъ приберегъ, — продолжалъ секретарь вдохновенно. — Какъ только кончили съ кулебякой, такъ сейчасъ же, чтобъ аппетита не перебить, велите щи подавать… Щи должны быть горячія, огневыя. Но лучше всего, благодѣтель мой, борщокъ изъ свеклы на хохлацкій манеръ, съ ветчинкой и съ сосисками. Къ нему подаются сметана и свѣжая петрушечка съ укропцемъ. Великолѣпно также разсольникъ изъ потроховъ и молоденькихъ почекъ, а ежели любите супъ, то изъ суповъ наилучшій, который засыпается кореньями и зеленями: морковкой, спаржей, цвѣтной капустой и всякой тому подобной юриспруденціей.
— Да, великолѣпная вещь… — вздохнулъ предсѣдатель, отрывая глаза отъ бумаги, но тотчасъ же спохватился и простоналъ: — Побойтесь вы Бога! Этакъ я до вечера не напишу особаго мнѣнія! Четвертый листъ порчу!
— Не буду, не буду! Виноватъ-съ! — извинился секретарь и продолжалъ шопотомъ: — Какъ только скушали борщокъ или супъ, сейчасъ же велите подавать рыбное, благодѣтель. Изъ рыбъ безгласныхъ самая лучшая — это жареный карась въ сметанѣ; только, чтобы онъ не пахъ тиной и имѣлъ тонкость, нужно продержать его живого въ молокѣ цѣлыя сутки.
— Хорошо также стерлядку кольчикомъ, — сказалъ почетный мировой, закрывая глаза, но тотчасъ же, неожиданно для всѣхъ, онъ рванулся съ мѣста, сдѣлалъ звѣрское лицо и заревѣлъ въ сторону предсѣдателя: — Петръ Николаичъ, скоро ли вы? Не могу я больше ждать! Не могу!
— Дайте мнѣ кончить!
— Ну, такъ я самъ поѣду! Чортъ съ вами! Толстякъ махнулъ рукой, схватилъ шляпу и, не простившись, выбѣжалъ изъ комнаты. Секретарь вздохнулъ и, нагнувшись къ уху товарища прокурора, продолжалъ вполголоса:
— Хорошъ также судакъ или карпій съ подливкой изъ помедоровъ и грибковъ. Но рыбой не насытишься, Степанъ Францычъ; это ѣда не существенная, главное въ обѣдѣ не рыба, не соусы, а жаркое. Вы какую птицу больше обожаете?
Товарищъ прокурора сдѣлалъ кислое лицо и сказалъ со вздохомъ:
— Къ несчастью, я не могу вамъ сочувствовать: у меня катаръ желудка.
— Полноте, сударь! Катаръ желудка доктора выдумали! Больше отъ вольнодумства да отъ гордости бываетъ эта болѣзнь. Вы не обращайте вниманія. Положимъ, вамъ кушать не хочется, или тошно, а вы не обращайте вниманія и кушайте себѣ. Ежели, положимъ, подадутъ къ жаркому парочку дупелей, да ежели прибавить къ этому куропаточку, или парочку перепелочекъ жирненькихъ, то тутъ про всякій катаръ забудете, честное благородное слово. А жареная индѣйка? Бѣлая, жирная, сочная этакая, знаете ли, въ родѣ нимфы…
— Да, вѣроятно, это вкусно, — сказалъ прокуроръ, грустно улыбаясь. — Индѣйку, пожалуй, я ѣлъ бы.
— Господи, а утка? Если взять молодую утку, которая только-что въ первые морозы ледку хватила, да изжарить ее на противнѣ вмѣстѣ съ картошкой, да чтобъ картошка была мелко нарѣзана, да подрумянилась бы, да чтобъ утинымъ жиромъ пропиталась, да чтобъ…
Философъ Милкинъ сдѣлалъ звѣрское лицо и, повидимому, хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ причмокнулъ губами, вѣроятно, вообразивъ жареную утку, и, не сказавъ ни слова, влекомый невѣдомою силой, схватилъ шляпу и выбѣжалъ вонъ.
— Да, пожалуй, я поѣлъ бы и утки… — вздохнулъ товарищъ прокурора.
Предсѣдатель всталъ, прошелся и опять сѣлъ.
— Послѣ жарко́го человѣкъ становится сытъ и впадаетъ въ сладостное затменіе, — продолжалъ секретарь. — Въ это время и тѣлу хорошо, и на душѣ умилительно. Для услажденія можете выкушать рюмочки три запеканочки.
Предсѣдатель крякнулъ и перечеркнулъ листъ.
— Я шестой листъ порчу, — сказалъ онъ сердито. — Это безсовѣстно!
— Пишите, пишите, благодѣтель! — зашепталъ секретарь. — Я не буду! Я потихоньку. Я вамъ по совѣсти, Степанъ Францычъ, — продолжалъ онъ едва слышнымъ шопотомъ: — домашняя самодѣлковая запеканочка лучше всякаго шампанскаго. Послѣ первой же рюмки всю вашу душу охватываетъ обоняніе, этакій миражъ, и кажется вамъ, что вы не въ креслѣ у себя дома, а гдѣ-нибудь въ Австраліи, на какомъ-нибудь мягчайшемъ страусѣ…
— Ахъ, да поѣдемте, Петръ Николаичъ! — сказалъ прокуроръ, нетерпѣливо дрыгнувъ ногой.
— Да-съ, — продолжалъ секретарь. — Во время запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать, и въ это время въ голову приходятъ такія мечтательныя мысли, будто вы генералиссимусъ, или женаты на первѣйшей красавицѣ въ мірѣ, и будто эта красавица плаваетъ цѣлый день передъ вашими окнами въ этакомъ бассейнѣ съ золотыми рыбками. Она плаваетъ, а вы ей:
— «Душенька, иди поцѣлуй меня!»
— Петръ Николаичъ! — простоналъ товарищъ прокурора.
— Да-съ, — продолжалъ секретарь. — Покуривши, подбирайте полы халата и айда къ постелькѣ! Этакъ ложитесь на спинку, животикомъ вверхъ, и берите газетку въ руки. Когда глаза слипаются и во всемъ тѣлѣ дремота стоитъ, пріятно читать про политику: тамъ, глядишь, Австрія сплоховала, тамъ Франція кому-нибудь не потрафила, тамъ папа римскій наперекоръ пошелъ — читаешь, оно и пріятно.
Предсѣдатель вскочилъ, швырнулъ въ сторону перо и обѣими руками ухватился за шляпу. Товарищъ прокурора, забывшій о своемъ катарѣ и млѣвшій отъ нетерпѣнія, тоже вскочилъ.
— Ѣдемте! — крикнулъ онъ.
— Петръ Николаичъ, а какъ же особое мнѣніе? — испугался секретарь. — Когда же вы его, благодѣтель, напишете? Вѣдь вамъ въ шесть часовъ въ городъ ѣхать!
Предсѣдатель махнулъ рукой и бросился къ двери. Товарищъ прокурора тоже махнулъ рукой и, подхвативъ свой портфель, исчезъ вмѣстѣ съ предсѣдателемъ. Секретарь вздохнулъ, укоризненно поглядѣлъ имъ вслѣдъ и сталъ убирать бумаги.
Петербургская газета, 1887, № 231.
Толстый и тонкій.
На вокзалѣ Николаевской желѣзной дороги встрѣтились два пріятеля: одинъ толстый, другой тонкій. Толстый только-что пообѣдалъ на вокзалѣ, и губы его, подернутыя масломъ, лоснились, какъ спѣлыя вишни. Пахло отъ него хересомъ и флеръ-д’оранжемъ. Тонкій же только-что вышелъ изъ вагона и былъ навьюченъ чемоданами, узлами и картонками. Пахло отъ него ветчиной и кофейной гущей. Изъ-за его спины выглядывала худенькая женщина съ длиннымъ подбородкомъ — его жена, и высокій гимназистъ съ прищуреннымъ глазомъ — его сынъ.
— Порфирій! — воскликнулъ толстый, увидѣвъ тонкаго. — Ты ли это? Голубчикъ мой! Сколько зимъ, сколько лѣтъ!
— Батюшки! — изумился тонкій. — Миша! Другъ дѣтства! Откуда ты взялся?
Пріятели троекратно облобызались и устремили другъ на друга глаза, полные слезъ. Оба были пріятно ошеломлены.
— Милый мой! — началъ тонкій послѣ лобызанія. — Вотъ не ожидалъ! Вотъ сюрпризъ! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавецъ, какъ и былъ! Такой же душонокъ и щеголь! Ахъ, ты Господи! Ну, что же ты? Богатъ? Женатъ? Я уже женатъ, какъ видишь… Это вотъ моя жена, Луиза, урожденная Ванценбахъ… лютеранка… А это сынъ мой, Нафанаилъ, ученикъ III класса. Это, Нафаня, другъ моего дѣтства! Въ гимназіи вмѣстѣ учились!
Нафанаилъ немного подумалъ и снялъ шапку.
— Въ гимназіи вмѣстѣ учились! — продолжалъ тонкій. — Помнишь, какъ тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратомъ за то, что ты казенную книжку папироской прожегъ, а меня Эфіальтомъ за то, что я ябедничать любилъ. Хо-хо… Дѣтьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди къ нему поближе… А это моя жена, урожденная Ванценбахъ… лютеранка.
Нафанаилъ немного подумалъ и спрятался за спину отца.
— Ну, какъ живешь, другъ? — спросилъ толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь гдѣ? Дослужился?
— Служу, милый мой! Коллежскимъ асессоромъ уже второй годъ и Станислава имѣю. Жалованье плохое… ну, да Богъ съ нимъ! Жена уроки музыки даетъ, я портсигары приватно изъ дерева дѣлаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто беретъ десять штукъ и болѣе, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-какъ. Служилъ, знаешь, въ департаментѣ, а теперь сюда переведенъ столоначальникомъ по тому же вѣдомству… Здѣсь буду служить. Ну, а ты какъ? Небось, уже статскій? А?
— Нѣтъ, милый мой, поднимай повыше, — сказалъ толстый. — Я уже до тайнаго дослужился… Двѣ звѣзды имѣю.
Тонкій вдругъ поблѣднѣлъ, окаменѣлъ, но скоро лицо его искривилось во всѣ стороны широчайшей улыбкой; казалось, что отъ лица и глазъ его посыпались искры. Самъ онъ съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились… Длинный подбородокъ жены сталъ еще длиннѣе; Нафанаилъ вытянулся во фрунтъ и застегнулъ всѣ пуговки своего мундира…
— Я, ваше превосходительство… Очень пріятно-съ! Другъ, можно сказать, дѣтства и вдругъ вышли въ такіе вельможи-съ! Хи-хи-съ.
— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этотъ тонъ? Мы съ тобой друзья дѣтства — и къ чему тутъ это чинопочитаніе!
— Помилуйте… Что вы-съ… — захихикалъ тонкій, еще болѣе съеживаясь. — Милостивое вниманіе вашего превосходительства… въ родѣ какъ бы живительной влаги… Это вотъ, ваше превосходительство, сынъ мой Нафанаилъ… жена Луиза, лютеранка, нѣкоторымъ образомъ…
Толстый хотѣлъ-было возразить что-то, но на лицѣ у тонкаго было написано столько благоговѣнія, сладости и почтительной кислоты, что тайнаго совѣтника стошнило. Онъ отвернулся отъ тонкаго и подалъ ему на прощанье руку.
Тонкій пожалъ три пальца, поклонился всѣмъ туловищемъ и захихикалъ, какъ китаецъ: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаилъ шаркнулъ ногой и уронилъ фуражку. Всѣ трое были пріятно ошеломлены.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1883, № 40.
Женское счастье.
Хоронили генералъ-лейтенанта Запупырина. Къ дому покойника, гдѣ гудѣла похоронная музыка и раздавались командныя слова, со всѣхъ сторонъ бѣжали толпы, желавшія поглядѣть на выносъ. Въ одной изъ группъ, спѣшившихъ къ выносу, находились чиновники Пробкинъ и Свистковъ. Оба были со своими женами.
— Нельзя-съ! — остановилъ ихъ помощникъ частнаго пристава съ добрымъ, симпатичнымъ лицомъ, когда они подошли къ цѣпи. — Не-ельзя-съ! Пра-ашу немножко назадъ! Господа, вѣдь это не отъ насъ зависитъ! Прошу назадъ! Впрочемъ, такъ и быть, дамы могутъ пройти… пожалуйте, mesdames, но… вы, господа, ради Бога…
Жены Пробкина и Свисткова зардѣлись отъ неожиданной любезности помощника пристава и юркнули сквозь цѣпь, а мужья ихъ остались по сю сторону живой стѣны и занялись созерцаніемъ спинъ пѣшихъ и конныхъ блюстителей.
— Пролѣзли! — сказалъ Пробкинъ, съ завистью и почти ненавистью глядя на удалявшихся дамъ. — Счастье, ей-Богу, этимъ шиньонамъ! Мужскому полу никогда такихъ привилегій не будетъ, какъ ихнему, дамскому. Ну, что вотъ въ нихъ особеннаго? Женщины, можно сказать, самыя обыкновенныя, съ предразсудками, а ихъ пропустили; а насъ съ тобой, будь мы хоть статскіе совѣтники, ни за что не пустятъ.
— Странно вы разсуждаете, господа! — сказалъ помощникъ пристава, укоризненно глядя на Пробкина. — Впусти васъ, такъ вы сейчасъ толкаться и безобразить начнете; дама же, по своей деликатности, никогда себѣ не позволитъ ничего подобнаго!
— Оставьте, пожалуйста! — разсердился Пробкинъ. — Дама въ толпѣ всегда первая толкается. Мужчина стоитъ и глядитъ въ одну точку, а дама растопыриваетъ руки и толкается, чтобъ ея нарядовъ не помяли. Говорить ужъ нечего! Женскому полу всегда во всемъ фортуна. Женщинъ и въ солдаты не берутъ, и на танцовальные вечера имъ безплатно, и отъ тѣлеснаго наказанія освобождаютъ… А за какія, спрашивается, заслуги? Дѣвица платокъ уронила — ты поднимай, она входитъ — ты вставай и давай ей свой стулъ, уходитъ — ты провожай… А возьмите чины! Чтобъ достигнуть, положимъ, статскаго совѣтника, мнѣ или тебѣ нужно всю жизнь протрубитъ, а дѣвица въ какіе-нибудь полчаса обвѣнчалась со статскимъ совѣтникомъ — вотъ ужъ она и персона. Чтобы мнѣ княземъ или графомъ сдѣлаться, нужно весь свѣтъ покорить, Шипку взять, въ министрахъ побывать, а какая-нибудь, прости Господи, Варенька или Катенька, молоко на губахъ не обсохло, покрутитъ передъ графомъ шлейфомъ, пощуритъ глазки — вотъ и ваше сіятельство… Ты сейчасъ губернскій секретарь… Чинъ этотъ себѣ ты, можно сказать, кровью и потомъ добылъ; а твоя Марья Ѳомишна? За что она губернская секретарша? Изъ поповенъ и прямо въ чиновницы. Хороша чиновница! Дай ты ей наше дѣло, такъ она тебѣ и впишетъ входящую въ исходящія.
— Зато она въ болѣзняхъ чадъ родитъ, — замѣтилъ Свистковъ.
— Велика важность! Постояла бы она передъ начальствомъ, когда оно холоду напускаетъ, такъ ей бы эти самыя чада удовольствіемъ показались. Во всемъ и во всемъ имъ привилегія! Какая-нибудь дѣвица или дама изъ нашего круга можетъ генералу такое выпалитъ, чего ты и при экзекуторѣ не посмѣешь сказать. Да… Твоя Марья Ѳомишна можетъ смѣло со статскимъ совѣтникомъ подъ ручку пройтись, а возьми-ка ты статскаго совѣтника подъ руку! Возьми-ка, попробуй! Въ нашемъ домѣ, какъ разъ подъ нами, братъ, живетъ какой-то профессоръ съ женой… Генералъ, понимаешь, Анну первой степени имѣетъ, а то и дѣло слышишь, какъ его жена чешетъ: «Дуракъ! дуракъ! дуракъ!» А вѣдь баба простая, изъ мѣщанокъ. Впрочемъ, тутъ законная, такъ тому и быть… испоконъ вѣка такъ положено, чтобъ законныя ругались, но ты возьми незаконныхъ! Что эти себѣ дозволяютъ! Во вѣки-вѣковъ не забыть мнѣ одного случая. Чуть-было не погибъ, да такъ ужъ, знать, за молитвы родителей уцѣлѣлъ. Въ прошломъ году, помнишь, нашъ генералъ, когда уѣзжалъ въ отпускъ къ себѣ въ деревню, меня взялъ съ собой, корреспонденцію вести… Дѣло пустяковое, на часъ работы. Отработалъ свое, и ступай по лѣсу ходить, или въ лакейскую романсы слушать. Нашъ генералъ — человѣкъ холостой. Домъ — полная чаша, прислуги, какъ собакъ, а жены нѣтъ, управлять некому. Народъ все распущенный, непослушный… и надъ всѣми командуетъ баба, экономка Вѣра Никитишна. Она и чай наливаетъ, и обѣдъ заказываетъ, и на лакеевъ кричитъ… Баба, братецъ ты мой, скверная, ядовитая, сатаной глядитъ. Толстая, красная, визгливая… Какъ начнетъ на кого кричать, какъ подниметъ визгъ, такъ хоть святыхъ выноси. Не такъ руготня донимала, какъ этотъ самый визгъ. О, Господи! Никому отъ нея житья не было. Не только прислугу, но и меня, бестія, задирала… Ну, думаю, погоди: улучу минутку и все про тебя генералу разскажу. Онъ погруженъ, думаю, въ службу и не видитъ, какъ ты его обкрадываешь и народъ жуешь, постой же, открою я ему глаза. И открылъ, братъ, глаза, да такъ открылъ, что чуть-было у самого глаза не закрылись навѣки, что даже теперь, какъ вспомню, страшно дѣлается. Иду я однажды по коридору, и вдругъ слышу визгъ. Сначала думалъ, что свинью рѣжутъ, потомъ же прислушался и слышу, что это Вѣра Никитишна съ кѣмъ-то бранится: «Тварь! Дрянь ты этакая! Чортъ!» — Кого это? — думаю. И вдругъ, братецъ ты мой, вижу: отворяется дверь, и изъ нея вылетаетъ нашъ генералъ, весь красный, глаза выпученные, волосы, словно чортъ на нихъ подулъ. А она ему вслѣдъ: «Дрянь! Чортъ!»
— Врешь!
— Честное мое слово. Меня, знаешь, въ жаръ бросило. Нашъ убѣжалъ къ себѣ, а я стою въ коридорѣ и, какъ дуракъ, ничего не понимаю. Простая, необразованная баба, кухарка, смердъ — и вдругъ позволяетъ себѣ такія слова и поступки! Это, значитъ, думаю, генералъ хотѣлъ ее разсчитать, а она воспользовалась тѣмъ, что нѣтъ свидѣтелей, и отчеканила его на всѣ корки. Все одно, молъ, уходить! Взорвало меня… Пошелъ я къ ней въ комнату и говорю: «Какъ ты смѣла, негодница, говорить такія слова высокопоставленному лицу? Ты думаешь, что какъ онъ слабый старикъ, такъ за него некому вступиться?» — Взялъ, знаешь, да и смазалъ ее по жирнымъ щекамъ, разика два. Какъ подняла, братецъ ты мой, визгъ, какъ заорала, такъ будь ты трижды не ладна, унеси ты мое горе! Заткнулъ я уши и пошелъ въ лѣсъ. Этакъ часика черезъ два бѣжитъ навстрѣчу мальчишка. — «Пожалуйте къ барину». Иду. Вхожу. Сидитъ насупившись, какъ индюкъ, и не глядитъ.
— «Вы что же, говоритъ, это у меня въ домѣ выстраиваете?» — То-есть, какъ? — говорю. Ежели, говорю, это вы насчетъ Никитишны, ваше-ство, то я за васъ же вступился. — «Не ваше дѣло, говоритъ, вмѣшиваться въ чужія семейныя дѣла!» — Понимаешь? Семейныя! И какъ началъ, братъ, онъ меня отчитывать, какъ началъ печь — чуть я не померъ! Говорилъ-говорилъ, ворчалъ-ворчалъ, да вдругъ, братъ, какъ захохочетъ ни съ того, ни съ сего. — «И какъ, говоритъ, это вы смогли?!… Какъ это у васъ хватило храбрости? Удивительно! Но надѣюсь, другъ мой, что все это останется между нами… Ваша горячность мнѣ понятна, но согласитесь, что дальнѣйшее пребываніе ваше въ моемъ домѣ невозможно…» — Вотъ братъ! Ему даже удивительно, какъ это я смогъ такую важную паву побить. Ослѣпила баба! Тайный совѣтникъ, Бѣлаго Орла имѣетъ, начальства надъ собой не знаетъ, а бабѣ поддался… Ба-альшія, братъ, привилегіи у женскаго пола! Но… снимай шапку! Несутъ генерала… Орденовъ-то сколько, батюшки свѣты! Ну, что, ей-Богу, пустили дамъ впередъ, развѣ онѣ понимаютъ что-нибудь въ орденахъ?
Заиграла музыка.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1885, № 37.
Альбомъ.
Титулярный совѣтникъ Кратеровъ, худой и тонкій, какъ адмиралтейскій шпиль, выступилъ впередъ и, обратясь къ Жмыхову, сказалъ:
— Ваше превосходительство! Движимые и тронутые всею душой вашимъ долголѣтнимъ начальничествомъ и отеческими попеченіями…
— Болѣе чѣмъ въ продолженіе цѣлыхъ десяти лѣтъ, — подсказалъ Закусинъ.
— Болѣе чѣмъ въ продолженіе цѣлыхъ десяти лѣтъ, мы, ваши подчиненные, въ сегодняшній знаменательный для насъ… тово… день, подносимъ вашему превосходительству, въ знакъ нашего уваженія и глубокой благодарности, этотъ альбомъ съ нашими портретами и желаемъ въ продолженіе вашей знаменательной жизни, чтобы еще долго-долго, до самой смерти, вы не оставляли насъ…
— Своими отеческими наставленіями на пути правды и прогресса… — добавилъ Закусинъ, вытеревъ со лба мгновенно выступившій потъ; ему, очевидно, очень хотѣлось говорить и, по всей вѣроятности, у него была готова рѣчь. — И да развѣвается, — кончилъ онъ: — вашъ стягъ еще долго-долго на поприщѣ генія, труда и общественнаго самосознанія!
По лѣвой морщинистой щекѣ Жмыхова поползла слеза.
— Господа! — сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ. — Я не ожидалъ, никакъ не думалъ, что вы будете праздновать мой скромный юбилей… Я тронутъ… даже… весьма… Этой минуты я не забуду до самой могилы, и вѣрьте… вѣрьте, друзья, что никто не желаетъ вамъ такъ добра, какъ я… А ежели что и было, то для вашей же пользы…
Жмыховъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, поцѣловался съ титулярнымъ совѣтникомъ Кратеровымъ, который не ожидалъ такой чести и поблѣднѣлъ отъ восторга. Затѣмъ начальникъ сдѣлалъ рукой жестъ, означавшій, что онъ отъ волненія не можетъ говорить, и заплакалъ, точно ему не дарили дорогого альбома, а, наоборотъ, отнимали… Потомъ, немного успокоившись и сказавъ еще нѣсколько прочувствованныхъ словъ и давъ всѣмъ пожать свою руку, онъ, при громкихъ радостныхъ кликахъ, спустился внизъ, сѣлъ въ карету и, провожаемый благословеніями, уѣхалъ. Сидя въ каретѣ, онъ почувствовалъ въ груди наплывъ неизвѣданныхъ доселѣ радостныхъ чувствъ и еще разъ заплакалъ.
Дома ожидали его новыя радости. Тамъ его семья, друзья и знакомые устроили ему такую овацію, что ему показалось, что онъ въ самомъ дѣлѣ принесъ отечеству очень много пользы и что, не будь его на свѣтѣ, то, пожалуй, отечеству пришлось бы очень плохо. Юбилейный обѣдъ весь состоялъ изъ тостовъ, рѣчей, объятій и слезъ. Однимъ словомъ, Жмыховъ никакъ не ожидалъ, что его заслуги будутъ приняты такъ близко къ сердцу.
— Господа! — сказалъ онъ передъ десертомъ. — Два часа тому назадъ я былъ удовлетворенъ за всѣ тѣ страданія, которыя приходится переживать человѣку, который служитъ, такъ сказать, не формѣ, не буквѣ, а долгу. Я за все время своей службы непрестанно держался принципа: не публика для насъ, а мы для публики. И сегодня я получилъ высшую награду! Мои подчиненные поднесли мнѣ альбомъ… Вотъ! Я тронутъ.
Праздничныя физіономіи нагнулись къ альбому и стали его разсматривать.
— А альбомъ хорошенькій! — сказала дочь Жмыхова, Оля. — Я думаю, онъ рублей пятьдесятъ стоитъ. О, какая прелесть! Ты, папка, отдай мнѣ этотъ альбомъ. Слышишь? Я его спрячу… Такой хорошенькій.
Послѣ обѣда Олечка унесла альбомъ къ себѣ въ комнату и заперла его въ столъ. На другой день она вынула изъ него чиновниковъ и побросала ихъ на полъ, и вмѣсто нихъ вставила своихъ институтскихъ подругъ. Форменные вицмундиры уступили свое мѣсто бѣлымъ пелеринкамъ. Коля, сынокъ его превосходительства, подобралъ чиновниковъ и раскрасилъ ихъ одежды красной краской. Безусымъ нарисовалъ онъ зеленые усы, а безбородымъ — коричневыя бороды. Когда нечево уже было красить, онъ вырѣзалъ изъ карточекъ человѣчковъ, прокололъ имъ булавкой глаза и сталъ играть въ солдатики. Вырѣзавъ титулярнаго совѣтника Кратерова, онъ укрѣпилъ его на коробкѣ изъ-подъ спичекъ и въ такомъ видѣ понесъ его въ кабинетъ къ отцу.
— Папа, монументъ! Погляди!
Жмыховъ захохоталъ, покачнулся и, умилившись, поцѣловалъ взасосъ Колину щечку.
— Ну, иди, шалунъ, покажи мамѣ. Пусть и мама посмотритъ.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1884, № 18.
Случай съ классикомъ.
Собираясь идти на экзаменъ греческаго языка, Ваня Оттепелевъ перецѣловалъ всѣ иконы. Въ животѣ у него перекатывало, подъ сердцемъ вѣяло холодомъ, само сердце стучало и замирало отъ страха передъ неизвѣстностью. Что-то ему будетъ сегодня? Тройка, или двойка? Разъ шесть подходилъ онъ къ мамашѣ подъ благословеніе, а уходя, просилъ тетю помолиться за него. Идя въ гимназію, онъ подалъ нищему двѣ копейки, въ разсчетѣ, что эти двѣ копейки окупятъ его незнанія и что ему, Богъ дастъ, не попадутся числительныя съ этими «тессараконта» и «октокайдека».
Воротился онъ изъ гимназіи поздно, въ пятомъ часу. Пришелъ и безшумно легъ. Тощее лицо его было блѣдно. Около покраснѣвшихъ глазъ темнѣли круги.
— Ну, что? Какъ? Сколько получилъ? — спросила мамаша, подойдя къ кровати.
Ваня замигалъ глазами, скривилъ въ сторону ротъ и заплакалъ. Мамаша поблѣднѣла, разинула ротъ и всплеснула руками. Штанишки, которыя она починяла, выпали у нея изъ рукъ.
— Чего же ты плачешь? Не выдержалъ, стало-быть? — спросила она.
— По… порѣзался… Двойку получилъ…
— Такъ и знала! И предчувствіе мое такое было! — заговорила мамаша. — Охъ, Господи! Какъ же ты это не выдержалъ? Отчего? по какому предмету?
— По греческому… Я, мамочка… Спросили меня, какъ будетъ будущее отъ «феро», а я… я вмѣсто того, чтобъ сказать «ойсомай», сказалъ «опсомай». Потомъ… потомъ… облеченное удареніе не ставится, если послѣдній слогъ долгій, а я… я оробѣлъ… забылъ, что альфа тутъ долгая… взялъ да и поставилъ облеченное. Потомъ Артаксерксовъ велѣлъ перечислить энклитическія частицы… Я перечислялъ и нечаянно мѣстоимѣніе впуталъ… Ошибся… Онъ и поставилъ двойку… Несчастный… я человѣкъ… Всю ночь занимался… Всю эту недѣлю въ четыре часа вставалъ…
— Нѣтъ, не ты, а я у тебя несчастная, подлый мальчишка! Я у тебя несчастная! Щепку ты изъ меня сдѣлалъ, иродъ, мучитель, злое мое произволеніе! Плачу за тебя, за дрянь этакую непутящую, спину гну, мучаюсь и, можно сказать, страдаю, а какое отъ тебя вниманіе? Какъ ты учишься?
— Я… я занимаюсь. Всю ночь… Сами видѣли…
— Молила Бога, чтобъ смерть мнѣ послалъ, не посылаетъ, грѣшницѣ… Мучитель ты мой! У другихъ дѣти, какъ дѣти, а у меня одинъ-единственный — и никакой точки отъ него, никакого пути. Бить тебя? Била бы, да гдѣ же мнѣ силъ взять? Гдѣ же, Божья Матерь, силъ взять?
Мамаша закрыла лицо полой кофточки и зарыдала. Ваня завертѣлся отъ тоски и прижалъ свой лобъ къ стѣнѣ. Вошла тетя.
— Ну, вотъ… Предчувствіе мое… — заговорила она, сразу догадавшись, въ чемъ дѣло, блѣднѣя и всплескивая руками. — Все утро тоска… Ну-у, думаю, быть бѣдѣ… Оно вотъ такъ и вышло…
— Разбойникъ мой, мучитель! — проговорила мамаша.
— Чего же ты его ругаешь? — набросилась на нее тетя, нервно стаскивая со своей головки платочекъ кофейнаго цвѣта. — Нешто онъ виноватъ? Ты виноватая! Ты! Ну, съ какой стати ты его въ эту гимназію отдала? Что ты за дворянка такая? Въ дворяне лѣзете? А-а-а-а… Какъ же, безпремѣнно, такъ вотъ васъ и сдѣлаютъ дворянами! А было бы вотъ, какъ я говорила, по торговой бы части… въ контору-то, какъ мой Кузя… Кузя-то, вотъ, пятьсотъ въ годъ получаетъ. Пятьсотъ — шутка ли? И себя ты замучила, и мальчишку замучила ученостью этой, чтобъ ей пусто было. Худенькій, кашляетъ… погляди: тринадцать лѣтъ ему, а видъ у него, точно у десятилѣтняго.
— Нѣтъ, Настенька, нѣтъ, милая! Мало я его била, мучителя моего! Бить бы нужно, вотъ что! У-у-у… іезуитъ, Магометъ, мучитель мой! — замахнулась она на сына. — Пороть бы тебя, да силы у меня нѣтъ. Говорили мнѣ прежде, когда онъ еще малъ былъ: «Бей, бей»… Не послушала, грѣшница. Вотъ и мучаюсь теперь. Постой же! Я тебя выдеру! Постой…
Мамаша погрозила мокрымъ кулакомъ и, плача, пошла въ комнату жильца. Ея жилецъ, Евтихій Кузьмичъ Купоросовъ, сидѣлъ у себя за столомъ и читалъ «Самоучитель танцевъ». Евтихій Кузьмичъ — человѣкъ умный и образованный. Онъ говоритъ въ носъ, умывается съ мыломъ, отъ котораго пахнетъ чѣмъ-то такимъ, отчего чихаютъ всѣ въ домѣ, кушаетъ онъ въ постные дни скоромное и ищетъ образованную невѣсту, а потому считается самымъ умнымъ жильцомъ. Поетъ онъ теноромъ.
— Батюшка! — обратилась къ нему мамаша, заливаясь слезами. — Будьте столь благородны, посѣките моего… Сдѣлайте милость! Не выдержалъ, горе мое! Вѣрите ли, не выдержалъ! Не могу я наказывать, по слабости моего нездоровья… Посѣките его замѣсто меня, будьте столь благородны и деликатны, Евтихій Кузьмичъ! Уважьте больную женщину!
Купоросовъ нахмурился и выпустилъ сквозь ноздри глубочайшій вздохъ. Онъ подумалъ, постучалъ пальцами по столу и, еще разъ вздохнувъ, пошелъ къ Ванѣ.
— Васъ, такъ сказать, учатъ! — началъ онъ. — Образовываютъ, ходъ даютъ, возмутительный молодой человѣкъ! Вы почему?
Онъ долго говорилъ, сказалъ цѣлую рѣчь. Упомянулъ о наукѣ, о свѣтѣ и тьмѣ.
— Н-да-съ, молодой человѣкъ!
Кончивъ рѣчь, онъ снялъ съ себя ремень и потянулъ Ваню за руку.
— Съ вами иначе нельзя! — сказалъ онъ.
Ваня покорно нагнулся и сунулъ свою голову въ его колѣни. Розовыя, торчащія уши его задвигались по новымъ триковымъ брюкамъ съ коричневыми лампасами…
Ваня не издалъ ни одного звука. Вечеромъ, на семейномъ совѣтѣ, рѣшено было отдать его по торговой части.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1883, № 19.
Страшная ночь.
Иванъ Петровичъ Панихидинъ поблѣднѣлъ, притушилъ лампу и началъ взволнованнымъ голосомъ:
— Темная, безпросвѣтная мгла висѣла надъ землей, когда я, въ ночь подъ Рождество 1883 года, возвращался къ себѣ домой отъ нынѣ умершаго друга, у котораго всѣ мы тогда засидѣлись на спиритическомъ сеансѣ. Переулки, по которымъ я проходилъ, почему-то не были освѣщены, и мнѣ приходилось пробираться почти ощупью. Жилъ я въ Москвѣ, у Успенія-на-Могильцахъ, въ домѣ чиновника Трупова, стало-быть, въ одной изъ самыхъ глухихъ мѣстностей Арбата. Мысли мои, когда я шелъ, были тяжелы, гнетущи…
«Жизнь твоя близится къ закату… Кайся…»
Такова была фраза, сказанная мнѣ на сеансѣ Спинозой, духъ котораго намъ удалось вызвать. Я просилъ повторить, и блюдечко не только повторило, но еще и прибавило: «Сегодня ночью». Я не вѣрю въ спиритизмъ, но мысль о смерти, даже намекъ на нее, повергаютъ меня въ уныніе. Смерть, господа, неизбѣжна, она обыденна, но, тѣмъ не менѣе, мысль о ней противна природѣ человѣка… Теперь же, когда меня окутывалъ непроницаемый, холодный мракъ и передъ глазами неистово кружились дождевыя капли, а надъ головою жалобно стоналъ вѣтеръ, когда я вокругъ себя не видѣлъ ни одной живой души, не слышалъ человѣческаго звука, душу мою наполнялъ неопредѣленный и неизъяснимый страхъ. Я, человѣкъ свободный отъ предразсудковъ, торопился, боясь оглянуться, поглядѣть къ стороны. Мнѣ казалось, что если я оглянусь, то непремѣнно увижу смерть въ видѣ привидѣнія.
Панихидинъ порывисто вздохнулъ, выпилъ воды и продолжалъ:
— Этотъ неопредѣленный, но понятный вамъ страхъ не оставилъ меня и тогда, когда я, взобравшись на четвертый этажъ дома Трупова, отперъ дверь и вошелъ въ свою комнату. Въ моемъ скромномъ жилищѣ было темно. Въ печи плакалъ вѣтеръ и, словно просясь въ тепло, постукивалъ въ дверцу отдушника.
«Если вѣрить Спинозѣ, — улыбнулся я: — то подъ этотъ плачъ сегодня ночью мнѣ придется умереть. Жутко, однако!»
Я зажегъ спичку… Неистовый порывъ вѣтра пробѣжалъ по кровлѣ дома. Тихій плачъ обратился въ злобный ревъ. Гдѣ-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня, а дверца моего отдушника жалобно провизжала о помощи…
«Плохо въ такую ночь безпріютнымъ», — подумалъ я.
Но не время было предаваться подобнымъ размышленіямъ. Когда на моей спичкѣ синимъ огонькомъ разгорѣлась сѣра и я окинулъ глазами свою комнату, мнѣ представилось зрѣлище неожиданное и ужасное… Какъ жаль, что порывъ вѣтра не достигъ моей спички! Тогда, быть-можетъ, я ничего не увидѣлъ бы, и волосы мои не стали бы дыбомъ. Я вскрикнулъ, сдѣлалъ шагъ къ двери и, полный ужаса, отчаянія, изумленія, закрылъ глаза…
Посреди комнаты стоялъ гробъ.
Синій огонекъ горѣлъ недолго, но я успѣлъ различить контуры гроба.. Я видѣлъ розовый, мерцающій искорками, глазетъ, видѣлъ золотой, галунный крестъ на крышкѣ. Есть вещи, господа, которыя запечатлѣваются въ вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видѣли ихъ одно только мгновеніе. Такъ и этотъ гробъ. Я видѣлъ его одну только секунду, но помню во всѣхъ малѣйшихъ чертахъ. Это былъ гробъ для человѣка средняго роста и, судя по розовому цвѣту, для молодой дѣвушки. Дорогой глазетъ, ножки, бронзовыя ручки — все говорило за то, что покойникъ былъ богатъ.
Опрометью выбѣжалъ я изъ своей комнаты и, не разсуждая, не мысля, а только чувствуя невыразимый страхъ, понесся внизъ по лѣстницѣ. Въ коридорѣ и на лѣстницѣ было темно, ноги мои путались въ полахъ шубы, и какъ я не слетѣлъ и не сломалъ себѣ шеи, — это удивительно. Очутившись на улицѣ, я, прислонился къ мокрому фонарному столбу и началъ себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, дыханіе сперло…
Одна изъ слушательницъ припустила огня въ лампѣ, придвинулась ближе къ разсказчику, и послѣдній продолжалъ:
— Я не удивился бы, если бы засталъ въ своей комнатѣ пожаръ, вора, бѣшеную собаку… Я не удивился бы, если бы обвалился потолокъ, провалился полъ, попадали стѣны… Все это естественно и понятно. Но какъ могъ попасть въ мою комнату гробъ? Откуда онъ взялся? Дорогой, женскій, сдѣланный, очевидно, для молодой аристократки, — какъ могъ онъ попасть въ убогую комнату мелкаго чиновника? Пустъ онъ, или внутри его — трупъ? Кто же она, эта безвременно покончившая съ жизнью богачка, нанесшая мнѣ такой странный и страшный визитъ? Мучительная тайна!
«Если здѣсь не чудо, то преступленіе», — блеснуло въ моей головѣ.
Я терялся въ догадкахъ. Дверь во время моего отсутствія была заперта, и мѣсто, гдѣ находился ключъ, было извѣстно только моимъ очень близкимъ друзьямъ. Не друзья же поставили мнѣ гробъ. Можно было также предположить, что гробъ былъ принесенъ ко мнѣ гробовщиками по ошибкѣ. Они могли обознаться, ошибиться этажомъ или дверью и внести гробъ не туда, куда слѣдуетъ. Но кому не извѣстно, что наши гробовщики не выйдутъ изъ комнаты, прежде чѣмъ не получатъ за работу, или, по крайней мѣрѣ, на чай?
«Духи предсказали мнѣ смерть, — думалъ я — Не они ли уже постарались кстати снабдить меня и гробомъ?»
Я, господа, не вѣрю и не вѣрилъ въ спиритизмъ, но такое совпаденіе можетъ повергнуть въ мистическое настроеніе даже философа.
«Но все это глупо и я трусливъ, какъ школьникъ, — рѣшилъ я.
— То былъ оптическій обманъ — и больше ничего! Идя домой, я былъ такъ мрачно настроенъ, что не мудрено, если мои больные нервы увидѣли гробъ… Конечно, оптическій обманъ! Что же другое?»
Дождь хлесталъ меня по лицу, а вѣтеръ сердито трепалъ мои полы, шапку… Я озябъ и страшно промокъ. Нужно было идти, но… куда? Воротиться къ себѣ — значило бы подвергнуть себя риску увидѣть гробъ еще разъ, а это зрѣлище было выше моихъ силъ. Я, не видѣвшій вокругъ себя ни одной живой души, не слышавшій ни одного человѣческаго звука, оставшись одинъ, наединѣ съ гробомъ, въ которомъ, быть-можетъ, лежало мертвое тѣло, могъ бы лишиться разсудка. Оставаться же на улицѣ подъ проливнымъ дождемъ и въ холодѣ было невозможно.
Я порѣшилъ отправиться ночевать къ другу моему Упокоеву, впослѣдствіи, какъ вамъ извѣстно, застрѣлившемуся. Жилъ онъ въ меблированныхъ комнатахъ купца Черепова, что въ Мертвомъ переулкѣ.
Панихидинъ вытеръ холодный потъ, выступившій на его блѣдномъ лицѣ, и, тяжело вздохнувъ, продолжалъ:
— Дома я своего друга не засталъ. Постучавшись къ нему въ дверь и убѣдившись, что его нѣтъ дома, я нащупалъ на перекладинѣ ключъ, отперъ дверь и вошелъ. Я сбросилъ съ себя на полъ мокрую шубу и, нащупавъ въ темнотѣ диванъ, сѣлъ отдохнуть. Было темно… Въ оконной вентиляціи тоскливо жужжалъ вѣтеръ. Въ печи монотонно насвистывалъ свою однообразную пѣсню сверчокъ. Въ Кремлѣ ударили къ рождественской заутрени. Я поспѣшилъ зажечь спичку. Но свѣтъ не избавилъ меня отъ мрачнаго настроенія, а напротивъ. Страшный, невыразимый ужасъ овладѣлъ мною вновь… Я вскрикнулъ, пошатнулся и, не чувствуя себя, выбѣжалъ изъ номера…
Въ комнатѣ товарища я увидѣлъ то же, что и у себя, — гробъ!
Гробъ товарища былъ почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавала ему какой-то особенно мрачный колоритъ. Какъ онъ попалъ сюда? Что это былъ оптическій обманъ — сомнѣваться уже было невозможно… Не могъ же въ каждой комнатѣ быть гробъ! Очевидно, то была болѣзнь моихъ нервовъ, была галлюцинація. Куда бы я ни пошелъ теперь, я всюду увидѣлъ бы передъ собой страшное жилище смерти. Стало-быть, я сходилъ съ ума, заболѣвалъ чѣмъ-то въ родѣ «гробоманіи», и причину умопомѣшательства искать было недолго: стоило только вспомнить спиритическій сеансъ и слова Спинозы…
«Я схожу съ ума! — подумалъ я въ ужасѣ, хватая себя за голову. — Боже мой!. Что же дѣлать?»
Голова моя трещала, ноги подкашивались… Дождь лилъ, какъ изъ ведра, вѣтеръ пронизывалъ насквозь, а на мнѣ не было ни шубы, ни шапки. Воротиться за ними въ номеръ было невозможно, выше силъ моихъ… Страхъ крѣпко сжималъ меня въ своихъ холодныхъ объятіяхъ. Волосы мои встали дыбомъ, съ лица струился холодный потъ, хотя я и вѣрилъ, что то была галлюцинація.
— Что было дѣлать? — продолжалъ Панихидинъ. — Я сходилъ съ ума и рисковалъ страшно простудиться. Къ счастью, я вспомнилъ, что недалеко отъ Мертваго переулка живетъ мой хорошій пріятель, недавно только кончившій врачъ Погостовъ, бывшій со мной въ ту ночь на спиритическомъ сеансѣ. Я поспѣшилъ къ нему… Тогда онъ еще не былъ женатъ на богатой купчихѣ и жилъ на пятомъ этажѣ дома статскаго совѣтника Кладбищенскаго.
У Погостова моимъ нервамъ суждено было претерпѣть еще новую пытку. Взбираясь на пятый этажъ, я услышалъ страшный шумъ. Наверху кто-то бѣжалъ, сильно стуча ногами и хлопая дверьми.
— Ко мнѣ! — услышалъ я раздирающій душу крикъ. — Ко мнѣ! Дворникъ!
И черезъ мгновеніе навстрѣчу мнѣ сверху внизъ по лѣстницѣ неслась темная фигура въ шубѣ и помятомъ цилиндрѣ…
— Погостовъ! — воскликнулъ я, узнавъ друга моего Погостова. — Это вы? Что съ вами?
Поровнявшись со мной, Погостовъ остановился и судорожно схватилъ меня за руку. Онъ былъ блѣденъ, тяжело дышалъ, дрожалъ. Глаза его безпорядочно блуждали, грудь вздымалась…
— Это вы, Панихидинъ? — спросилъ онъ глухимъ голосомъ. — Но вы ли это? Вы блѣдны, словно выходецъ изъ могилы… Да полно, не галлюцинація ли вы?… Боже мой… вы страшны…
— Но что съ вами? На васъ лица нѣтъ!
— Охъ, дайте, голубчикъ, перевести духъ… Я радъ, что васъ увидѣлъ, если это дѣйствительно вы, а не оптическій обманъ. Проклятый спиритическій сеансъ… Онъ такъ разстроилъ мои нервы, что я, представьте, воротившись сейчасъ домой, увидѣлъ у себя въ комнатѣ… гробъ!
Я не вѣрилъ своимъ ушамъ и попросилъ повторить.
— Гробъ, настоящій гробъ! — сказалъ докторъ, садясь въ изнеможеніи на ступень. — Я не трусъ, но вѣдь и самъ чортъ испугается, если послѣ спиритическаго сеанса натолкнется въ потемкахъ на гробъ!
Путаясь и заикаясь, я разсказалъ доктору про гробы, видѣнные мною…
Минуту глядѣли мы другъ на друга, выпуча глаза и удивленно раскрывъ рты. Потомъ же, чтобы убѣдиться, что мы не галлюцинируемъ, мы принялись щипать другъ друга.
— Намъ обоимъ больно, — сказалъ докторъ, — стало-быть, сейчасъ мы не спимъ и видимъ другъ друга не во снѣ. Стало-быть, гробы, мой и оба ваши, — не оптическій обманъ, а нѣчто существующее. Что же теперь, батенька, дѣлать?
Простоявъ битый часъ на холодной лѣстницѣ и теряясь въ догадкахъ и предположеніяхъ, мы страшно озябли и порѣшили отбросить малодушный страхъ и, разбудивъ коридорнаго, пойти съ нимъ въ комнату доктора. Такъ мы и сдѣлали. Войдя въ номеръ, зажгли свѣчу, и въ самомъ дѣлѣ увидѣли гробъ, обитый бѣлымъ глазетомъ, съ золотой бахромой и кистями. Коридорный набожно перекрестился.
— Теперь можно узнать, — сказалъ блѣдный докторъ, дрожа всѣмъ тѣломъ: — пустъ этотъ гробъ, или же… онъ обитаемъ?
Послѣ долгой, понятной нерѣшимости, докторъ нагнулся и, стиснувъ отъ страха и ожиданія зубы, сорвалъ съ гроба крышку. Мы взглянули въ гробъ и…
Гробъ былъ пустъ…
Покойника въ немъ не было, но зато мы нашли въ немъ письмо такого содержанія:
«Милый Погостовъ! Ты знаешь, что дѣла моего тестя пришли въ страшный упадокъ. Онъ залѣзъ въ долги по горло. Завтра, или послѣзавтра, явятся описывать его имущество, и это окончательно погубитъ его семью, и мою, погубитъ нашу честь, что для меня дороже всего. На вчерашнемъ семейномъ совѣтѣ мы рѣшили припрятать все цѣнное и дорогое. Такъ какъ все имущество моего тестя заключается въ гробахъ (онъ, какъ тебѣ извѣстно, гробовыхъ дѣлъ мастеръ, лучшій въ городѣ), то мы порѣшили припрятать самые лучшіе гробы. Я обращаюсь къ тебѣ, какъ къ другу, помоги мнѣ, спаси наше состояніе и нашу честь! Въ надеждѣ, что ты поможешь намъ сохранить наше имущество, посылаю тебѣ, голубчикъ, одинъ гробъ, который прошу спрятать у себя и хранить впредь до востребованія. Безъ помощи знакомыхъ и друзей мы погибнемъ. Надѣюсь, что ты не откажешь мнѣ, тѣмъ болѣе, что гробъ простоитъ у тебя не болѣе недѣли. Всѣмъ, кого я считаю за нашихъ истинныхъ друзей, я послалъ по гробу и надѣюсь на ихъ великодушіе и благородство. Любящій тебя Иванъ Челюстинъ».
Послѣ этого я мѣсяца три лѣчился отъ разстройства нервовъ, другъ же нашъ, зять гробовщика, спасъ и честь свою, и имущество, и уже содержитъ бюро погребальныхъ процессій и торгуетъ памятниками и надгробными плитами. Дѣла его идутъ не важно, и каждый вечеръ теперь, входя къ себѣ, я все боюсь, что увижу около своей кровати бѣлый мраморный памятникъ или катафалкъ.
Журналъ «Развлеченіе», 1884, № 50
Чтеніе. Разсказъ стараго воробья.
Какъ-то разъ въ кабинетѣ нашего начальника Ивана Петровича Семипалатова сидѣлъ антрепренеръ нашего театра Галамидовъ и говорилъ съ нимъ объ игрѣ и красотѣ нашихъ актрисъ.
— Но я съ вами не согласенъ, — говорилъ Иванъ Петровичъ, подписывая ассигновки. — Софья Юрьевна сильный, оригинальный талантъ! Милая такая, граціозная… Прелестная такая…
Иванъ Петровичъ хотѣлъ дальше продолжать, но отъ восторга не могъ выговорить ни одного слова и улыбнулся такъ широко и слащаво, что антрепренеръ, глядя на него, почувствовалъ во рту сладость.
— Мнѣ нравится въ ней… э-э-э… волненіе и трепетъ молодой груди, когда она читаетъ монологи… Такъ и пышетъ, такъ и пышетъ! Въ этотъ моментъ, передайте ей, я готовъ… на все!
— Ваше превосходительство, извольте подписать отвѣтъ на отношеніе херсонскаго полицейскаго правленія касательно…
Семипалатовъ поднялъ свое улыбающееся лицо и увидѣлъ передъ собой чиновника Мердяева. Мердяевъ стоялъ передъ нимъ и, выпучивъ глаза, подносилъ ему бумагу для подписи. Семипалатовъ поморщился: проза прервала поэзію на самомъ интересномъ мѣстѣ.
— Объ этомъ можно бы и послѣ, — сказалъ онъ. — Видите, вѣдь, я разговариваю! Ужасно невоспитанный, неделикатный народъ! Вотъ-съ, господинъ Галамидовъ… Вы говорили, что у насъ нѣтъ уже гоголевскихъ типовъ… А вотъ вамъ! Чѣмъ не типъ? Неряха, локти продраны, косой… никогда не чешется… А посмотрите, какъ онъ пишетъ! Это чортъ знаетъ что! Пишетъ безграмотно, безсмысленно… какъ сапожникъ! Вы посмотрите!
— М-да… — промычалъ Галамидовъ, посмотрѣвъ на бумагу. — Дѣйствительно… Вы, господинъ Мердяевъ, вѣроятно, мало читаете.
— Этакъ, любезнѣйшій, нельзя! — продолжалъ начальникъ… — Мнѣ за васъ стыдно! Вы бы хоть книги читали, что ли…
— Чтеніе много значитъ! — сказалъ Галамидовъ и вздохнулъ безъ причины. — Очень много! Вы читайте и сразу увидите, какъ рѣзко измѣнится вашъ кругозоръ. А книги вы можете достать, гдѣ угодно. У меня, напримѣръ… Я съ удовольствіемъ. Завтра же я завезу, если хотите.
— Поблагодарите, любезнѣйшій! — сказалъ Семипалатовъ. Мердяевъ неловко поклонился, пошевелилъ губами и вышелъ.
На другой день пріѣхалъ къ намъ въ присутствіе Галамидовъ и привезъ съ собой связку книгъ. Съ этого момента и начинается исторія. Потомство никогда не проститъ Семипалатову его легкомысленнаго поступка! Это можно было бы, пожалуй, простить юношѣ, но опытному дѣйствительному статскому совѣтнику — никогда! По пріѣздѣ антрепренера, Мердяевъ былъ позванъ въ кабинетъ.
— Нате, вотъ, читайте, любезнѣйшій! — сказалъ Семипалатовъ, подавая ему книгу. — Читайте внимательно.
Мердяевъ взялъ дрожащими руками книгу и вышелъ изъ кабинета. Онъ былъ блѣденъ. Косые глазки его безпокойно бѣгали и, казалось, искали у окружающихъ предметовъ помощи. Мы взяли у него книгу и начали ее осторожно разсматривать.
Книга была «Графъ Монте-Кристо».
— Противъ его воли не пойдешь! — сказалъ со вздохомъ нашъ старый бухгалтеръ Прохоръ Семенычъ Будылда. — Постарайся какъ-нибудь, понатужься… Читай себѣ помаленьку, а тамъ, Богъ дастъ, онъ забудетъ, и тогда бросить можно будетъ. Ты не пугайся… А главное — не вникай… Читай и не вникай въ эту умственность.
Мердяевъ завернулъ книгу въ бумагу и сѣлъ писать. Но не писалось ему на этотъ разъ. Руки у него дрожали и глаза косили въ разныя стороны: одинъ въ потолокъ, другой въ чернильницу. На другой день пришелъ онъ на службу заплаканный.
— Четыре раза ужъ начиналъ, — сказалъ онъ: — но ничего не разберу… Какіе-то иностранцы…
Черезъ пять дней Семипалатовъ, проходя мимо столовъ, остановился передъ Мердяевымъ и спросилъ:
— Ну, что? Читали книгу?
— Читалъ, ваше превосходительство.
— О чемъ же вы читали, любезнѣйшій? А ну-ка, разскажите!
Мердяевъ поднялъ вверхъ голову и зашевелилъ губами.
— Забылъ, ваше превосходительство… — сказалъ онъ черезъ минуту.
— Значитъ, вы не читали, или… э-э-э… невнимательно читали! Авто-мма-тически! Такъ нельзя! Вы еще разъ прочтите! Вообще, господа, рекомендую! Извольте читать! Всѣ читайте! Берите тамъ у меня на окнѣ книги и читайте. Парамоновъ, подите, возьмите себѣ книгу! Подходцевъ, ступайте и вы, любезнѣйшій! Смирновъ, — и вы! Всѣ, господа! Прошу!
Всѣ пошли и взяли себѣ по книгѣ. Одинъ только Будылда осмѣлился выразить протестъ. Онъ развелъ руками, покачалъ головой и сказалъ:
— А ужъ меня извините, ваше превосходительство… Скорѣй въ отставку… Я знаю, что отъ этихъ самыхъ критикъ и сочиненій бываетъ. У меня отъ нихъ старшій внукъ родную мать въ глаза дурой зоветъ и весь постъ молоко хлещетъ. Извините-съ!
— Вы ничего не понимаете, — сказалъ Семипалатовъ, прощавшій обыкновенно старику всѣ его грубости.
Но Семипалатовъ ошибался: старикъ все понималъ. Черезъ недѣлю же мы увидѣли плоды этого чтенія. Подходцевъ, читавшій второй томъ «Вѣчнаго Жида», назвалъ Будылду «іезуитомъ»; Смирновъ сталъ являться на службу въ нетрезвомъ видѣ. Но ни на кого не подѣйствовало такъ чтеніе, какъ на Мердяева. Онъ похудѣлъ, осунулся, сталъ пить.
— Прохоръ Семенычъ! — умолялъ онъ Будылду. — Заставьте вѣчно Бога молить! Попросите вы его превосходительство, чтобы они меня извинили… Не могу я читать. Читаю день и ночь, не сплю, не ѣмъ… Жена вся измучилась, вслухъ читавши, но, побей Богъ, ничего не понимаю! Сдѣлайте божескую милость!
Будылда нѣсколько разъ осмѣливался докладывать Семипалатову, но тотъ только руками махалъ и, расхаживая по правленію вмѣстѣ съ Галамидовымъ, попрекалъ всѣхъ невѣжествомъ. Прошло этакъ два мѣсяца, и кончилась вся эта исторія ужаснѣйшимъ образомъ.
Однажды Мердяевъ, придя на службу, вмѣсто того, чтобы садиться за столъ, сталъ среди присутствія на колѣни, заплакалъ и сказалъ:
— Простите меня, православные, за то, что я фальшивыя бумажки дѣлаю!
Затѣмъ онъ вошелъ въ кабинетъ и, ставъ передъ Семипалатовымъ на колѣни, сказалъ:
— Простите меня, ваше превосходительство: вчера я ребеночка въ колодецъ бросилъ!
Стукнулся лбомъ о-полъ и зарыдалъ…
— Что это значитъ?! — удивился Семипалатовъ.
— А это то значитъ, ваше превосходительство, — сказалъ Будылда со слезами на глазахъ, выступая впередъ: — что онъ ума рѣшился! У него умъ за разумъ зашелъ! Вотъ что вашъ Галамидка сочиненіями надѣлалъ! Богъ все видитъ, ваше превосходительство. А ежели вамъ мои слова не нравятся, то позвольте мнѣ въ отставку. Лучше съ голоду помереть, чѣмъ этакое на старости лѣтъ видѣть!
Семипалатовъ поблѣднѣлъ и прошелся изъ угла въ уголъ.
— Не принимать Галамидова! — сказалъ онъ глухимъ голосомъ. — А вы, господа, успокойтесь. Я теперь вижу свою ошибку. Благодарю, старикъ!
И съ этой поры у насъ больше ничего не было. Мердяевъ выздоровѣлъ, но не совсѣмъ. И до сихъ поръ при видѣ книги онъ дрожитъ и отворачивается.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1884, № 12.
Въ потемкахъ.
Муха средней величины забралась въ носъ товарища прокурора, надворнаго совѣтника Гагина. Любопытство ли ее мучило, или, быть-можетъ, она попала туда по легкомыслію, или благодаря потемкамъ, но только носъ не вынесъ присутствія инороднаго тѣла и подалъ сигналъ къ чиханію. Гагинъ чихнулъ, чихнулъ съ чувствомъ, съ пронзительнымъ присвистомъ и такъ громко, что кровать вздрогнула и издала звукъ потревоженной пружины. Супруга Гагина, Марья Михайловна, крупная, полная блондинка, тоже вздрогнула и проснулась. Она поглядѣла въ потемки, вздохнула и повернулась на другой бокъ. Минутъ черезъ пятъ она еще разъ повернулась, закрыла плотнѣе глаза, но сонъ уже не возвращался къ ней. Повздыхавъ и поворочавшись съ боку на бокъ, она приподнялась, перелѣзла черезъ мужа и, надѣвъ туфли, пошла къ окну.
На дворѣ было темно. Видны были одни только силуэты деревьевъ, да темныя крыши сараевъ. Востокъ чуть-чуть поблѣднѣлъ, но и эту блѣдность собирались заволокнуть тучи. Въ воздухѣ, уснувшемъ и окутанномъ во мглу, стояла тишина. Молчалъ даже дачный сторожъ, получающій деньги за нарушеніе стукомъ ночной тишины, молчалъ и коростель — единственный дикій пернатый, не чуждающійся сосѣдства со столичными дачниками.
Тишину нарушила сама Марья Михайловна. Стоя у окна и глядя во дворъ, она вдругъ вскрикнула. Ей показалось, что отъ цвѣтника съ тощимъ, стриженнымъ тополемъ пробиралась къ дому какая-то темная фигура. Сначала она думала, что это корова или лошадь, потомъ же, протеревъ глаза, она стала ясно различать человѣческіе контуры.
За симъ ей показалось, что темная фигура подошла къ окну, выходившему изъ кухни, и, постоявъ немного, очевидно въ нерѣшимости, стала одной ногой на карнизъ и… исчезла во мракѣ окна.
«Воръ!» — мелькнуло у нея въ головѣ, и мертвенная блѣдность залила ея лицо.
И въ одинъ мигъ ея воображеніе нарисовало картину, которой такъ боятся дачницы: воръ лѣзетъ въ кухню, изъ кухни въ столовую… серебро въ шкапу… далѣе спальня… топоръ… разбойничье лицо… золотыя вещи… Колѣна ея подогнулись и по спинѣ побѣжали мурашки.
— Вася! — затеребила она мужа. — Базиль! Василій Прокофьичъ! Ахъ, Боже мой, словно мертвый! Проснись, Базиль, умоляю тебя!
— Н-ну? — промычалъ товарищъ прокурора, потянувъ въ себя воздухъ и издавая жевательные звуки.
— Проснись, ради Создателя! Къ намъ въ кухню забрался воръ! Стою я у окна, гляжу, а кто-то въ окно лѣзетъ. Изъ кухни проберется въ столовую… ложки въ шкапу! Базиль! У Мавры Егоровны въ прошломъ году также вотъ забрались.
— Ко… кого тебѣ?
— Боже, онъ не слышитъ! Да пойми же ты, истуканъ, что я сейчасъ видѣла, какъ къ намъ въ кухню полѣзъ какой-то человѣкъ! Пелагея испугается, и… и серебро въ шкапу!
— Чепуха!
— Базиль, это несносно! Я говорю тебѣ объ опасности, а ты спишь и мычишь! Что же ты хочешь? Хочешь, чтобъ насъ обокрали и перерѣзали?
Товарищъ прокурора медленно поднялся и сѣлъ на кровати, оглашая воздухъ зѣвками.
— Чортъ васъ знаетъ, что вы за народъ! — пробормоталъ онъ. — Неужели даже ночью нѣтъ покоя? Будятъ изъ-за пустяковъ.
— Но клянусь тебѣ, Базиль, я видѣла, какъ человѣкъ полѣзъ въ окно!
— Ну, такъ что же? И пусть лѣзетъ… Это, по всей вѣроятности, къ Пелагеѣ ея пожарный пришелъ.
— Что-о-о? Что ты сказалъ?
— Я сказалъ, что это къ Пелагеѣ пожарный пришелъ.
— Тѣмъ хуже! — вскрикну да Марья Михайловна. — Это хуже вора! Я не потерплю въ своемъ домѣ цинизма!
— Экая добродѣтель, посмотришь… Не потерплю цинизма… Да нешто это цинизмъ? Къ чему безъ толку заграничными словами выпаливать? Это, матушка моя, испоконъ вѣку такъ ведется, традиціей освящено. На то онъ и пожарный, чтобъ къ кухаркамъ ходить.
— Нѣтъ, Базиль! Значитъ, ты не знаешь меня! Я не могу допустить мысли, чтобъ въ моемъ домѣ и такое… этакое… Изволь отправиться сію минуту въ кухню и приказать ему убираться! Сію же минуту! А завтра я скажу Пелагеѣ, чтобы она не смѣла позволять себѣ подобные поступки! Когда я умру, можете допускать въ своемъ домѣ циничности, а теперь вы не смѣете. Извольте идти!
— Чорртъ… — проворчалъ Гагинъ съ досадой. — Ну, разсуди своимъ бабьимъ, микроскопическимъ мозгомъ, зачѣмъ я туда пойду?
— Базиль, я падаю въ обморокъ!
Гагинъ плюнулъ, надѣлъ туфли, еще разъ плюнулъ и отправился въ кухню. Было темно, какъ въ закупоренной бочкѣ, и товарищу прокурора пришлось пробираться ощупью. По дорогѣ онъ нащупалъ дверь въ дѣтскую и разбудилъ няньку.
— Василиса, — сказалъ онъ; — ты брала вечеромъ мой халатъ чистить. Гдѣ онъ?
— Я его, баринъ, Пелагеѣ отдала чистить.
— Что за безпорядки? Брать берете, а на мѣсто не кладете… Изволь теперь путешествовать безъ халата!
Войдя въ кухню, онъ направился къ тому мѣсту, гдѣ на сундукѣ, подъ полкой съ кастрюлями, спала кухарка.
— Пелагея! — началъ онъ, нащупывая плечо и толкая. — Ты! Пелагея! Ну, что представляешься? Не спишь вѣдь! Кто это сейчасъ лѣзъ къ тебѣ въ окно?
— Гм!… здрасте! Въ окно лѣзъ! Кому это лѣзть?
— Да ты того… нечего тѣнь наводить! Скажи-ка лучше своему прохвосту, чтобы онъ по добру, по здорову убирался вонъ. Слышишь? Нечего ему тутъ дѣлать!
— Да вы въ умѣ, баринъ? Здрасте… Дуру какую нашли… День-деньской мучаешься, бѣгаючи, покоя не знаешь, а ночью съ такими словами. За четыре рубля въ мѣсяцъ живешь… при своемъ чаѣ и сахарѣ, а кромѣ этихъ словъ другой чести ни отъ кого не видишь… Я у купцовъ жила, да такого срама не видывала.
— Ну, ну… нечего Лазаря пѣть! Сію же минуту чтобы твоего солдафона здѣсь не было! Слышишь?
— Грѣхъ вамъ, баринъ! — сказала Пелагея, и въ голосѣ ея послышались слезы. — Господа образованные… благородные, а нѣтъ того понятія, что, можетъ, при горѣ-то нашемъ… при нашей несчастной жизни… — Она заплакала. — Обидѣть насъ можно. Заступиться некому.
— Ну, ну… мнѣ вѣдь все равно! Меня барыня сюда послала. По мнѣ, хоть домового впусти въ окно, такъ мнѣ все равно.
Товарищу прокурора оставалось только сознаться, что онъ не правъ, дѣлая этотъ допросъ, и возвратиться къ супругѣ.
— Послушай, Пелагея, — сказалъ онъ: — ты брала чистить мой халатъ. Гдѣ онъ?
— Ахъ, баринъ, извините, забыла вамъ положить его на стулъ. Онъ виситъ около печки на гвоздикѣ…
Гагинъ нащупалъ около печки халатъ, надѣлъ его и тихо поплелся въ спальню.
Марья Михайловна по уходѣ мужа легла въ постель и стала ждать. Минуты три она была покойна, но затѣмъ ее начало помучивать безпокойство.
«Какъ долго онъ ходитъ, однако! — думала она. — Хорошо, если тамъ тотъ… циникъ, ну, а если воръ?»
И воображеніе ея опять нарисовало картину: мужъ входитъ въ темную кухню… ударъ обухомъ… умираетъ, не издавъ ни одного звука… лужа крови…
Прошло пять минутъ, пять съ половиной, наконецъ шесть… На лбу у нея выступилъ холодный потъ.
— Базиль! — взвизгнула она. — Базиль!
— Ну, что кричишь? Я здѣсь… — услышала она голосъ и шаги мужа. — Рѣжутъ тебя, что ли?
Товарищъ прокурора подошелъ къ кровати и сѣлъ на край.
— Никого тамъ нѣтъ, — сказалъ онъ. — Тебѣ примерещилось, чудачка… Ты можешь успокоиться, твоя дурища, Пелагея, такъ же добродѣтельна, какъ и ея хозяйка. Экая ты трусиха! Экая ты…
И товарищъ прокурора началъ дразнить свою жену. Онъ разгулялся, и ему уже не хотѣлось спать.
— Экая трусиха! — смѣялся онъ. — Завтра же ступай къ доктору отъ галлюцинацій лѣчиться. Ты психопатка!
— Дегтемъ запахло… — сказала жена. — Дегтемъ, или… чѣмъ-то такимъ, лукомъ… щами.
— М-да… Что-то такое въ воздухѣ… Спать не хочется! Вотъ что, зажгу-ка я свѣчку… Гдѣ у насъ спички? И кстати покажу тебѣ фотографію прокурора судебной палаты. Вчера прощался съ нами и далъ всѣмъ по карточкѣ. Съ автографомъ.
Гагинъ чиркнулъ о стѣну спичкой и зажегъ свѣчу. Но прежде чѣмъ онъ сдѣлалъ шагъ отъ кровати, чтобы пойти за карточкой, сзади него раздался пронзительный, душу раздирающій крикъ. Оглянувшись назадъ, онъ увидѣлъ два большихъ жениныхъ глаза, обращенныхъ на него и полныхъ удивленія, ужаса, гнѣва…
— Ты снималъ въ кухнѣ свой халатъ? — спросила она, блѣднѣя.
— А что?
— Погляди на себя!
Товарищъ прокурора поглядѣлъ на себя и ахнулъ. На его плечахъ, вмѣсто халата, болталась шинель пожарнаго. Какъ она попала на его плечи? Пока онъ рѣшалъ этотъ вопросъ, жена его рисовала въ своемъ воображеніи новую картину, ужасную, невозможную: мракъ, тишина, шопотъ и проч., и проч…
Петербургская газета, 1886, № 253.
Аптекарша.
Городишко Б., состоящій изъ двухъ-трехъ кривыхъ улицъ, спитъ непробуднымъ сномъ. Въ застывшемъ воздухѣ тишина. Слышно только, какъ гдѣ-то далеко, должно-быть, за городомъ, жидкимъ, охрипшимъ теноркомъ лаетъ собака. Скоро разсвѣтъ.
Все давно уже уснуло. Не спитъ только молодая жена провизора Черномордика, содержателя б-ской аптеки. Она ложилась уже три раза, но сонъ упрямо не идетъ къ ней — и неизвѣстно отчего. Сидитъ она у открытаго окна, въ одной сорочкѣ, и глядитъ на улицу. Ей душно, скучно, досадно… такъ досадно, что даже плакать хочется, а отчего — опять-таки неизвѣстно. Какой-то комокъ лежитъ въ груди и то и дѣло подкатываетъ къ горлу… Сзади, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ аптекарши, прикорнувъ къ стѣнѣ, сладко похрапываетъ самъ Черномордикъ. Жадная блоха впилась ему въ переносицу, но онъ этого не чувствуетъ и даже улыбается, такъ какъ ему снится, будто всѣ въ городѣ кашляютъ и непрерывно покупаютъ у него капли датскаго короля. Его не разбудишь теперь ни уколами, ни пушкой, ни ласками.
Аптека находится почти у края города, такъ что аптекаршѣ далеко видно поле… Она видитъ, какъ мало-по-малу бѣлѣетъ восточный край неба, какъ онъ потомъ багровѣетъ, словно отъ большого пожара. Неожиданно изъ-за отдаленнаго кустарника выползаетъ большая, широколицая луна. Она красна (вообще луна, вылѣзая изъ-за кустовъ, всегда почему-то бываетъ ужасно сконфужена).
Вдругъ среди ночной тишины раздаются чьи-то шаги и звяканье шпоръ. Слышатся голоса.
«Это офицеры отъ исправника въ лагерь идутъ», — думаетъ аптекарша.
Немного погодя, показываются двѣ фигуры въ бѣлыхъ офицерскихъ кителяхъ; одна большая и толстая, другая поменьше и тоньше… Онѣ лѣниво, нога за ногу, плетутся вдоль забора и громко разговариваютъ о чемъ-то. Поровнявшись съ аптекой, обѣ фигуры начинаютъ идти еще тише и глядятъ на окна.
— Аптекой пахнетъ… — говоритъ тонкій. — Аптека и есть! Ахъ, помню… На прошлой недѣлѣ я здѣсь былъ, касторку покупалъ. Тутъ еще аптекарь съ кислымъ лицомъ и съ ослиной челюстью. Вотъ, батенька, челюсть! Такой именно Сампсонъ филистимлянъ избивалъ.
— М-да… — говоритъ толстый басомъ. — Спитъ фармація! И аптекарша спитъ. Тутъ, Обтесовъ, аптекарша хорошенькая.
— Видѣлъ. Мнѣ она очень понравилась… Скажите, докторъ, неужели она въ состояніи любить эту ослиную челюсть? Неужели?
— Нѣтъ, вѣроятно, не любитъ, — вздыхаетъ докторъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто ему жаль аптекаря. — Спитъ теперь мамочка за окошечкомъ! Обтесовъ, а? Раскинулась отъ жары… ротикъ полуоткрытъ… и ножка съ кровати свѣсилась. Чай, болванъ аптекарь въ этомъ добрѣ ничего не смыслитъ… Ему, небось, что женщина, что бутыль съ карболкой — все равно!
— Знаете что, докторъ? — говоритъ офицеръ, останавливаясь. — Давайте-ка зайдемъ въ аптеку и купимъ чего-нибудь! Аптекаршу, быть-можетъ, увидимъ.
— Выдумалъ — ночью!
— А что же? Вѣдь они и ночью обязаны торговать. Голубчикъ, войдемте!
— Пожалуй…
Аптекарша, спрятавшись за занавѣску, слышитъ сиплый звонокъ. Оглянувшись на мужа, который храпитъ попрежнему сладко и улыбается, она набрасываетъ на себя платье, надѣваетъ на босую ногу туфли и бѣжитъ въ аптеку.
За стеклянной дверью видны двѣ тѣни… Аптекарша припускаетъ огня въ лампѣ и спѣшитъ къ двери, чтобы отпереть, и ей уже не скучно, и не досадно, и не хочется плакать, а только сильно стучитъ сердце. Входятъ толстякъ-докторъ и тонкій Обтесовъ. Теперь ужъ ихъ можно разсмотрѣть. Толстобрюхій докторъ смуглъ, бородатъ и неповоротливъ. При каждомъ малѣйшемъ движеніи на немъ трещитъ китель и на лицѣ выступаетъ потъ. Офицеръ же розовъ, безусъ, женоподобенъ и гибокъ, какъ англійскій хлыстъ.
— Что вамъ угодно? — спрашиваетъ ихъ аптекарша, придерживая на груди платье.
— Дайте… э-э-э… на пятнадцать копеекъ мятныхъ лѣпешекъ!
Аптекарша, не спѣша, достаетъ съ полки банку и начинаетъ вѣшать. Покупатели, не мигая, глядятъ на ея спину; докторъ жмурится, какъ сытый котъ, а поручикъ очень серьезенъ.
— Первый разъ вижу, что дама въ аптекѣ торгуетъ, — говоритъ докторъ.
— Тутъ ничего нѣтъ особеннаго… — отзывается аптекарша, искоса поглядывая на розовое лицо Обтесова. — Мужъ мой не имѣетъ помощниковъ, и я ему всегда помогаю.
— Тэкъ-съ… А у васъ миленькая аптечка! Сколько тутъ разныхъ этихъ… банокъ! И вы не боитесь вращаться среди ядовъ! Бррр!
Аптекарша запечатываетъ пакетикъ и подаетъ его доктору. Обтесовъ подаетъ ей пятіалтынный. Проходитъ полминуты въ молчаніи… Мужчины переглядываются, дѣлаютъ шагъ къ двери, потомъ опять переглядываются.
— Дайте на десять копеекъ соды! — говоритъ докторъ. Аптекарша, опять лѣниво и вяло двигаясь, протягиваетъ руку къ полкѣ.
— Нѣтъ ли тутъ, въ аптекѣ, чего-нибудь этакаго… — бормочетъ Обтесовъ, шевеля пальцами, — чего-нибудь такого, знаете ли, аллегорическаго, какой-нибудь живительной влаги… зельтерской воды, что ли? У васъ есть зельтерская вода?
— Есть, — отвѣчаетъ аптекарша.
— Браво! Вы не женщина, а фея. Сочините-ка намъ бутылочки три!
Аптекарша торопливо запечатываетъ соду и исчезаетъ въ потемкахъ за дверью.
— Фруктъ! — говоритъ докторъ, подмигивая. — Такого ананаса, Обтесовъ, и на островѣ Мадейрѣ не сыщете. А? Какъ вы думаете? Однако… слышите храпъ? Это самъ господинъ аптекарь изволятъ почивать.
Черезъ минуту возвращается аптекарша и ставитъ на прилавокъ пять бутылокъ. Она только-что была въ погребѣ, а потому красна и немножко взволнована.
— Тсс… тише! — говоритъ Обтесовъ, когда она, раскупоривъ бутылки, роняетъ штопоръ. — Не стучите такъ, а то мужа разбудите.
— Ну, такъ что же, если и разбужу?
— Онъ такъ сладко спитъ… видитъ васъ во снѣ… За ваше здоровье!
— И къ тому же, — баситъ докторъ, отрыгивая послѣ зельтерской: — мужья такая скучная исторія, что хорошо бы они сдѣлали, если бъ всегда спали. Эхъ, къ этой водицѣ да винца бы красненькаго!
— Чего еще выдумали! — смѣется аптекарша.
— Великолѣпно бы! Жаль, что въ аптекахъ не продаютъ спиритуозовъ! Впрочемъ… вы вѣдь должны продавать вино, какъ лѣкарство. Есть у васъ vinum gallicum rubrum1?
— Есть.
— Ну, вотъ! Подавайте намъ его! Чортъ его подери, тащите его сюда!
— Сколько вамъ?
— (Quantum satis2!… Сначала вы дайте намъ въ воду по унцу, а потомъ мы увидимъ… Обтесовъ, а? Сначала съ водой, а потомъ уже per se3…
Докторъ и Обтесовъ присаживаются къ прилавку, снимаютъ фуражки и начинаютъ пить красное вино.
— А вино, надо сознаться, препаскуднѣйшее! Vinum plochissimum! Впрочемъ, въ присутствіи… э-э-э… оно кажется нектаромъ. Вы восхитительны, сударыня! Цѣлую вамъ мысленно ручку.
— Я дорого далъ бы за то, чтобы сдѣлать это не мысленно! — говоритъ Обтесовъ. — Честное слово! Я отдалъ бы жизнь!
— Это ужъ вы оставьте… — говоритъ госпожа Черномордикъ, вспыхивая и дѣлая серьезное лицо.
— Какая, однако, вы кокетка! — тихо хохочетъ докторъ, глядя на нее исподлобья, плутовски. — Глазенки такъ и стрѣляютъ! Пифъ! пафъ! Поздравляю: вы побѣдили! Мы сражены!
Аптекарша глядитъ на ихъ румяныя лица, слушаетъ ихъ болтовню и скоро сама оживляется. О, ей уже такъ весело! Она вступаетъ въ разговоръ, хохочетъ, кокетничаетъ и даже, послѣ долгихъ просьбъ покупателей, выпиваетъ унца два краснаго вина.
— Вы бы, офицеры, почаще въ городъ изъ лагерей приходили, — говоритъ она: — а то тутъ ужасъ какая скука. Я просто умираю.
— Еще бы! — ужасается докторъ. — Такой ананасъ… чудо природы и — въ глуши! Прекрасно выразился Грибоѣдовъ: «Въ глушь! въ Саратовъ!» Однако, намъ пора. Очень радъ познакомиться… весьма! Сколько съ насъ слѣдуетъ?
Аптекарша поднимаетъ къ потолку глаза и долго шевелитъ губами.
— Двѣнадцать рублей сорокъ восемь копеекъ! — говоритъ она.
Обтесовъ вынимаетъ изъ кармана толстый бумажникъ, долго роется въ пачкѣ денегъ и расплачивается.
— Вашъ мужъ сладко спитъ… видитъ сны… — бормочетъ онъ, пожимая на прощаньѣ руку аптекарши.
— Я не люблю слушать глупостей…
— Какія же это глупости? Наоборотъ… это вовсе не глупости… Даже Шекспиръ сказалъ: «Блаженъ, кто смолоду былъ молодъ!»
— Пустите руку!
Наконецъ, покупатели, послѣ долгихъ разговоровъ, цѣлуютъ у аптекарши ручку и нерѣшительно, словно раздумывая, не забыли ли они чего-нибудь, выходятъ изъ аптеки.
А она быстро бѣжитъ въ спальню и садится у того же окна. Ей видно, какъ докторъ и поручикъ, выйдя изъ аптеки, лѣниво отходятъ шаговъ на двадцать, потомъ останавливаются и начинаютъ о чемъ-то шептаться. О чемъ? Сердце у нея стучитъ, въ вискахъ то же стучитъ, а отчего — она и сама не знаетъ… Бьется сердце сильно, точно тѣ двое, шепчась тамъ, рѣшаютъ его участь.
Минутъ черезъ пять докторъ отдѣляется отъ Обтесова и идетъ дальше, а Обтесовъ возвращается. Онъ проходитъ мимо аптеки разъ, другой… То остановится около двери, то опять зашагаетъ… Наконецъ, осторожно звякаетъ звонокъ.
— Что? Кто тамъ? — вдругъ слышитъ аптекарша голосъ мужа. — Тамъ звонятъ, а ты не слышишь! — говоритъ аптекарь строго. — Что за безпорядки!
Онъ встаетъ, надѣваетъ халатъ и, покачиваясь въ полуснѣ, шлепая туфлями, идетъ въ аптеку.
— Чего… вамъ? — спрашиваетъ онъ у Обтесова.
— Дайте… дайте на пятнадцать копеекъ мятныхъ лѣпешекъ.
Съ безконечнымъ сопѣньемъ, зѣвая, засыпая на ходу и стуча колѣнями о прилавокъ, аптекарь лѣзетъ на полку и достаетъ банку…
Спустя двѣ минуты аптекарша видитъ, какъ Обтесовъ выходитъ изъ аптеки и, пройдя нѣсколько шаговъ, бросаетъ на пыльную дорогу мятныя лѣпешки. Изъ-за угла навстрѣчу ему идетъ докторъ… Оба сходятся и, жестикулируя руками, исчезаютъ въ утреннемъ туманѣ.
— Какъ я несчастна! — говоритъ аптекарша, со злобой глядя на мужа, который быстро раздѣвается, чтобы опять улечься спать. — О, какъ я несчастна! — повторяетъ она, вдругъ заливаясь горькими слезами. — И никто, никто не знаетъ…
— Я забылъ пятнадцать копеекъ на прилавкѣ, — бормочетъ аптекарь, укрываясь одѣяломъ. — Спрячь, пожалуйста, въ конторку…
И тотчасъ же засыпаетъ.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1886, № 25.
Ораторъ.
Въ одно прекрасное утро хоронили коллежскаго асессора Кирилла Ивановича Вавилонова, умершаго отъ двухъ болѣзней, столь распространенныхъ въ нашемъ отечествѣ: отъ злой жены и алкоголизма. Когда погребальная процессія двинулась отъ церкви къ кладбищу, одинъ изъ сослуживцевъ покойнаго, нѣкто Поплавскій, сѣлъ на извозчика и поскакалъ къ своему пріятелю Григорію Петровичу Запойкину, человѣку молодому, но уже достаточно популярному. Запойкинъ, какъ извѣстно многимъ читателямъ, обладаетъ рѣдкимъ талантомъ произносить экспромптомъ свадебныя, юбилейныя и похоронныя рѣчи. Онъ можетъ говорить когда угодно: спросонокъ, натощакъ, въ мертвецки пьяномъ видѣ, въ горячкѣ. Рѣчь его течетъ гладко, ровно, какъ вода изъ водосточной трубы, и обильно; жалкихъ словъ въ его ораторскомъ словарѣ гораздо больше, чѣмъ въ любомъ трактирѣ таракановъ. Говоритъ онъ всегда краснорѣчиво и длинно, такъ что иногда, въ особенности на купеческихъ свадьбахъ, чтобы остановить его, приходится прибѣгать къ содѣйствію полиціи.
— А я, братецъ, къ тебѣ! — началъ Поплавскій, заставъ его дома. — Сію же минуту одѣвайся и ѣдемъ. Умеръ одинъ изъ нашихъ, сейчасъ его на тотъ свѣтъ отправляемъ, такъ надо, братецъ, сказать на прощанье какую-нибудь чепуховину… На тебя вся надежда. Умри кто-нибудь изъ маленькихъ, мы не стали бы тебя безпокоить, а то вѣдь секретарь… канцелярскій столпъ, нѣкоторымъ образомъ. Неловко такую шишку безъ рѣчи хоронить.
— А, секретарь! — зѣвнулъ Запойкинъ. — Это пьяница-то?
— Да, пьяница. Блины будутъ, закуска… на извозчика получишь. Поѣдемъ, душа! Разведи тамъ, на могилѣ, какую-нибудь мантифолію поцицеронистѣй, а ужъ какое спасибо получишь!
Запойкинъ охотно согласился. Онъ взъерошилъ волосы, напустилъ на лицо меланхолію и вышелъ съ Поплавскимъ на улицу.
— Знаю я вашего секретаря, — сказалъ онъ, садясь на извозчика. — Пройдоха и бестія, царство ему небесное, какихъ мало.
— Ну, не годится, Гриша, ругать покойниковъ.
— Оно конечно, aut mortuis nihil bene, но все-таки онъ жуликъ.
Пріятели догнали похоронную процессію и присоединились къ ней. Покойника несли медленно, такъ что до кладбища они успѣли раза три забѣжать въ трактиръ и пропустить за упокой души по маленькой.
На кладбищѣ была отслужена литія. Теща, жена и свояченица, покорныя обычаю, много плакали. Когда гробъ опускали въ могилу, жена даже крикнула: «Пустите меня къ нему!», но въ могилу за мужемъ не пошла, вѣроятно, вспомнивъ о пенсіи. Дождавшись, когда все утихло, Запойкинъ выступилъ впередъ, обвелъ всѣхъ глазами и началъ;
— Вѣрить ли глазамъ и слуху? Не страшный ли сонъ сей гробъ, эти заплаканныя лица, стоны и вопли? Увы, это не сонъ, и зрѣніе не обманываетъ насъ! Тотъ, котораго мы еще такъ недавно видѣли столь бодрымъ, столь юношески свѣжимъ и чистымъ, который такъ недавно на нашихъ глазахъ, наподобіе неутомимой пчелы, носилъ свой медъ въ общій улей государственнаго благоустройства, тотъ, который… этотъ самый обратился теперь въ прахъ, въ вещественный миражъ. Неумолимая смерть наложила на него коснѣющую руку въ то время, когда онъ, несмотря на свой согбенный возрастъ, былъ еще полонъ расцвѣта силъ и лучезарныхъ надеждъ. Незамѣнимая потеря! Кто замѣнитъ намъ его? Хорошихъ чиновниковъ у насъ много, но Прокофій Осипычъ былъ единственный. Онъ до глубины души былъ преданъ своему честному долгу, не щадилъ силъ, не спалъ ночей, былъ безкорыстенъ, неподкупенъ… Какъ презиралъ онъ тѣхъ, кто старался, въ ущербъ общимъ интересамъ, подкупить его, кто соблазнительными благами жизни пытался вовлечь его въ измѣну своему долгу! Да, на нашихъ глазахъ Прокофій Осипычъ раздавалъ свое небольшое жалованье своимъ бѣднѣйшимъ товарищамъ, и вы сейчасъ сами слышали вопли вдовъ и сиротъ, жившихъ его подаяніями. Преданный служебному долгу и добрымъ дѣламъ, онъ не зналъ радостей въ жизни и даже отказалъ себѣ въ счастіи семейнаго бытія; вамъ извѣстно, что до конца дней своихъ онъ былъ холостъ! А кто намъ замѣнитъ его, какъ товарища? Какъ сейчасъ вижу бритое, умиленное лицо, обращенное къ намъ съ доброй улыбкой, какъ сейчасъ слышу его мягкій, нѣжно-дружескій голосъ. Миръ праху твоему, Прокофій Осипычъ! Покойся, честный, благородный труженикъ!
Запойкинъ продолжалъ, а слушатели стали шушукаться. Рѣчь поправилась всѣмъ, выжала нѣсколько слезъ, но многое показалось въ ней страннымъ. Во-первыхъ, непонятно было, почему ораторъ называлъ покойника Прокофіемъ Осиповичемъ, въ то время когда того звали Кирилломъ Ивановичемъ. Во-вторыхъ, всѣмъ извѣстно было, что покойный всю жизнь воевалъ со своей законной женой, а стало-быть не могъ называться холостымъ; въ-третьихъ, у него была густая, рыжая борода, отродясь онъ не брился, а потому непонятно, чего ради ораторъ назвалъ его лицо бритымъ. Слушатели недоумѣвали, переглядывались и пожимали плечами.
— Прокофій Осипычъ! — продолжалъ ораторъ, вдохновенно глядя въ могилу: — Твое лицо было некрасиво, даже безобразно, ты былъ угрюмъ и суровъ, но всѣ мы знали, что подъ сею видимой оболочкой бьется честное, дружеское сердце!
Скоро слушатели стали замѣчать нѣчто странное и въ самомъ ораторѣ. Онъ уставился въ одну точку, безпокойно задвигался и сталъ самъ пожимать плечами. Вдругъ онъ умолкъ, разинулъ удивленно ротъ и обернулся къ Поплавскому.
— Послушай, онъ живъ! — сказалъ онъ, глядя съ ужасомъ.
— Кто живъ?
— Да Прокофій Осипычъ! Вонъ онъ стоитъ около памятника!
— Онъ и не умиралъ! Умеръ Кириллъ Иванычъ!
— Да вѣдь ты же самъ сказалъ, что у васъ секретарь померъ!
— Кириллъ Иванычъ и былъ секретарь. Ты, чудакъ, перепуталъ! Прокофій Осипычъ, это вѣрно, былъ у насъ прежде секретаремъ, но его два года назадъ во второе отдѣленіе перевели столоначальникомъ.
— А, чортъ васъ разберетъ!
— Что же остановился? Продолжай, неловко! Запойкинъ обернулся къ могилѣ и съ прежнимъ краснорѣчіемъ продолжалъ прерванную рѣчь. У памятника, дѣйствительно, стоялъ Прокофій Осипычъ, старый чиновникъ съ бритой физіономіей. Онъ глядѣлъ на оратора и сердито хмурился.
— И какъ это тебя угораздило! — смѣялись чиновники, когда вмѣстѣ съ Запойкинымъ возвращались съ похоронъ. — Живого человѣка похоронилъ.
— Нехорошо-съ, молодой человѣкъ! — ворчалъ Прокофій Осипычъ. — Ваша рѣчь, можетъ-быть, годится для покойника, но въ отношеніи живого она — одна насмѣшка-съ! Помилуйте, что вы говорили? Безкорыстенъ, неподкупенъ, взятокъ не беретъ! Вѣдь про живого человѣка это можно говорить только въ насмѣшку-съ. И никто васъ, сударь, не просилъ распространяться про мое лицо. Некрасивъ, безобразенъ, такъ тому и быть, но зачѣмъ всенародно мою физіономію на видъ выставлять? Обидно-съ!
Юмористическій журналъ «Осколки», 1886, № 48.
Романъ съ контрабасомъ.
Музыкантъ Смычковъ шелъ изъ города на дачу князя Бибулова, гдѣ, по случаю сговора, «имѣлъ быть» вечеръ съ музыкой и танцами. На спинѣ его покоился огромный контрабасъ въ кожаномъ футлярѣ. Шелъ Смычковъ по берегу рѣки, катившей свои прохладныя воды хотя не величественно, но зато весьма поэтично.
«Не выкупаться ли?» — подумалъ онъ.
Не долго думая, онъ раздѣлся и погрузилъ свое тѣло въ прохладныя струи. Вечеръ былъ великолѣпный. Поэтическая душа Смычкова стала настраиваться соотвѣтственно гармоніи окружающаго. Но какое сладкое чувство охватило его душу, когда, отплывъ шаговъ на сто въ сторону, онъ увидѣлъ красивую дѣвушку, сидѣвшую на крутомъ берегу и удившую рыбу. Онъ притаилъ дыханіе и замеръ отъ наплыва разнородныхъ чувствъ: воспоминанія дѣтства, тоска о минувшемъ, проснувшаяся любовь… Боже, а вѣдь онъ думалъ, что онъ уже не въ состояніи любить! Послѣ того, какъ онъ потерялъ вѣру въ человѣчество (его горячо любимая жена бѣжала съ его другомъ, фаготомъ Собакинымъ), грудь его наполнилась чувствомъ пустоты, и онъ сталъ мизантропомъ.
«Что такое жизнь? — не разъ задавалъ онъ себѣ вопросъ. — Для чего мы живемъ? Жизнь есть миѳъ, мечта… чревовѣщаніе…»
Но стоя предъ спящей красавицей (не трудно было замѣтить, что она спала), онъ вдругъ, вопреки своей волѣ, почувствовалъ въ груди нѣчто похожее на любовь. Долго онъ стоялъ передъ ней, пожирая ее глазами…
«Но довольно… — подумалъ онъ, испустивъ глубокій вздохъ. — Прощай, чудное видѣнье! Мнѣ уже пора идти на балъ къ его сіятельству…»
И еще разъ взглянувъ на красавицу, онъ хотѣлъ уже плыть назадъ, какъ въ головѣ его мелькнула идея.
«Надо оставить ей о себѣ память! — подумалъ онъ. — Прицѣплю ей что-нибудь къ удочкѣ. Это будетъ сюрпризомъ отъ «неизвѣстнаго».
Смычковъ тихо подплылъ къ берегу, нарвалъ большой букетъ полевыхъ и водяныхъ цвѣтовъ и, связавъ его стебелькомъ лебеды, прицѣпилъ къ удочкѣ.
Букетъ пошелъ ко дну и увлекъ за собой красивый поплавокъ.
Благоразуміе, законы природы и соціальное положеніе моего героя требуютъ, чтобы романъ кончился на этомъ самомъ мѣстѣ, но — увы! — судьба автора неумолима: по независящимъ отъ автора обстоятельствамъ романъ не кончился букетомъ. Вопреки здравому смыслу и природѣ вещей, бѣдный и незнатный контрабасистъ долженъ былъ сыграть въ жизни знатной и богатой красавицы важную роль.
Подплывъ къ берегу, Смычковъ былъ пораженъ: онъ не увидѣлъ своей одежды. Ее украли… Неизвѣстные злодѣи, пока онъ любовался красавицей, утащили все, кромѣ контрабаса и цилиндра.
— Проклятіе — воскликнулъ Смычковъ. — О, люди, порожденіе ехидны! Не столько возмущаетъ меня лишеніе одежды (ибо одежда тлѣнна), сколько мысль, что мнѣ придется идти нагишомъ и тѣмъ преступить противъ общественной нравственности.
Онъ сѣлъ на футляръ съ контрабасомъ и сталъ искать выхода изъ своего ужаснаго положенія.
«Не идти же голымъ къ князю Бибулову! — думалъ онъ. — Тамъ будутъ дамы! Да и къ тому же воры вмѣстѣ съ брюками украли и находившійся въ нихъ канифоль!»
Онъ думалъ долго, мучительно, до боли въ вискахъ.
«Ба! — вспомнилъ онъ, наконецъ. — Недалеко отъ берега въ кустарникѣ есть мостикъ… Пока настанетъ темнота, я могу просидѣть подъ этимъ мостикомъ, а вечеромъ, въ потемкахъ, проберусь до первой избы…»
Остановившись на этой мысли, Смычковъ надѣлъ цилиндръ, взвалилъ на спину контрабасъ и поплелся къ кустарнику. Нагой, съ музыкальнымъ инструментомъ на спинѣ, онъ напоминалъ нѣкоего древняго, миѳическаго полубога.
Теперь, читатель, пока мой герой сидитъ подъ мостомъ и предается скорби, оставимъ его на нѣкоторое время и обратимся къ дѣвушкѣ, удившей рыбу. Что сталось съ нею? Красавица, проснувшись и не увидѣвъ на водѣ поплавка, поспѣшила дернуть за леску. Леска натянулась, но крючокъ и поплавокъ не показались изъ воды. Очевидно, букетъ Смычкова размокъ въ водѣ, разбухъ и сталъ тяжелъ.
«Или большая рыба поймалась, — подумала дѣвушка: — или же удочка зацѣпилась».
Подергавъ еще немного за леску, дѣвушка рѣшила, что крючокъ зацѣпился.
«Какая жалость! — подумала она. — А вечеромъ такъ хорошо клюетъ! Что дѣлать?»
И недолго думая, эксцентричная дѣвушка сбросила съ себя эѳирныя одежды и погрузила прекрасное тѣло въ струи по самыя мраморныя плечи. Не легко было отцѣпить крючокъ отъ букета, въ который впуталась леска, но терпѣніе и трудъ взяли свое. Черезъ какія-нибудь четверть часа красавица, сіяющая и счастливая, выходила изъ воды, держа въ рукѣ крючокъ.
Но злая судьба стерегла ее. Негодяи, укравшіе одежду Смычкова, похитили и ея платье, оставивъ ей только банку съ червяками.
«Что же мнѣ теперь дѣлать? — заплакала она. — Неужели идти въ такомъ видѣ? Нѣтъ, никогда! Лучше смерть! Я подожду, пока стемнѣетъ; тогда, въ темнотѣ, я дойду до тетки Агафьи и пошлю ее домой за платьемъ… А пока пойду спрячусь подъ мостикъ».
Моя героиня, выбирая траву повыше и нагибаясь, побѣжала къ мостику. Пролѣзая подъ мостикъ, она увидѣла тамъ нагого человѣка съ музыкальной гривой и волосатой грудью, вскрикнула и лишилась чувствъ.
Смычковъ тоже испугался. Сначала онъ принялъ дѣвушку за наяду.
«Не рѣчная ли это сирена, пришедшая увлечь меня? — подумалъ онъ, и это предположеніе польстило ему, такъ какъ онъ всегда былъ высокаго мнѣнія о своей наружности. — Если же она не сирена, а человѣкъ, то какъ объяснить это странное видоизмѣненіе? Зачѣмъ она здѣсь, подъ мостомъ? И что съ ней?»
Пока онъ рѣшалъ эти вопросы, красавица приходила въ себя.
— Не убивайте меня! — прошептала она. — Я княжна Бибулова. Умоляю васъ! Вамъ дадутъ много денегъ! Сейчасъ я отцѣпляла въ водѣ крючокъ, и какіе-то воры украли мое новое платье, ботинки и все!
— Сударыня! — сказалъ Смычковъ умоляющимъ голосомъ. — И у меня также украли мое платье. Къ тому же они вмѣстѣ съ брюками утащили и находившійся въ нихъ канифоль!
Всѣ, играющіе на контрабасахъ и тромбонахъ, обыкновенно ненаходчивы; Смычковъ же былъ пріятнымъ исключеніемъ.
— Сударыня! — сказалъ онъ, немного погодя. — Васъ, я вижу, смущаетъ мой видъ. Но, согласитесь, мнѣ нельзя уйти отсюда, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и вамъ. Я вотъ что придумалъ: не угодно ли вамъ будетъ лечь въ футляръ моего контрабаса и укрыться крышкой? Это скроетъ меня отъ васъ…
Сказавши это, Смычковъ вытащилъ изъ футляра контрабасъ. Минуту казалось ему, что онъ, уступая футляръ, профанируетъ святое искусство, но колебаніе было непродолжительно. Красавица легла въ футляръ и свернулась калачикомъ, а онъ затянулъ ремни и сталъ радоваться, что природа одарила его такимъ умомъ.
— Теперь, сударыня, вы меня не видите, — сказалъ онъ. — Лежите здѣсь и будьте покойны. Когда станетъ темно, я отнесу васъ въ домъ вашихъ родителей. За контрабасомъ же я могу придти сюда и потомъ.
Съ наступленіемъ потемокъ Смычковъ взвалилъ на плечи футляръ съ красавицей и поплелся къ дачѣ Бибулова. Планъ у него былъ такой: сначала онъ дойдетъ до первой избы и обзаведется одеждой, потомъ пойдетъ далѣе…
«Нѣтъ худа безъ добра… — думалъ онъ, взбудораживая пыль босыми ногами и сгибаясь подъ ношей. — За то теплое участіе, которое я принялъ въ судьбѣ княжны, Бибуловъ навѣрно щедро наградитъ меня».
— Сударыня, удобно ли вамъ? — спрашивалъ онъ тономъ cavalier galant4, приглашающаго на кадриль. — Будьте любезны, не церемоньтесь и располагайтесь въ моемъ футлярѣ, какъ у себя дома!
Вдругъ галантному Смычкову показалось, что впереди его, окутанныя темнотою, идутъ двѣ человѣческія фигуры. Вглядѣвшись пристальнѣй, онъ убѣдился, что это не оптическій обманъ: фигуры, дѣйствительно, шли и даже несли въ рукахъ какіе-то узлы…
«Не воры ли это? — мелькнуло у него въ головѣ. — Они что-то несутъ! Вѣроятно, это наше платье!»
Смычковъ положилъ у дороги футляръ и погнался за фигурами.
— Стой! — закричалъ онъ. — Стой! Держи!
Фигуры оглянулись и, замѣтивъ погоню, стали улепетывать… Княжна еще долго слышала быстрые шаги и крики: «стой!» Наконецъ, все смолкло.
Смычковъ увлекся погоней, и, вѣроятно, красавицѣ пришлось бы еще долго пролежать въ полѣ у дороги, если бы не счастливая игра случая. Случилось, что въ ту пору по той же дорогѣ проходили на дачу Бибулова товарищи Смычкова, флейта Жучковъ и кларнетъ Размахайкинъ. Споткнувшись о футляръ, оба они удивленно переглянулись и развели руками.
— Контрабасъ! — сказалъ Жучковъ. — Ба, да это контрабасъ нашего Смычкова! Но какъ онъ сюда попалъ?
— Вѣроятно, что-нибудь случилось со Смычковымъ, — рѣшилъ Размахайкинъ. — Или онъ напился, или же его ограбили… Во всякомъ случаѣ, оставлять здѣсь контрабасъ не годится. Возьмемъ его съ собой.
Жучковъ взвалилъ себѣ на спину футляръ, и музыканты пошли дальше.
— Чортъ знаетъ, какая тяжесть! — ворчалъ всю дорогу флейта. — Ни за что на свѣтѣ не согласился бы играть на такомъ идолищѣ… Уфъ!
Придя на дачу къ князю Бибулову, музыканты положили футляръ на мѣстѣ, отведенномъ для оркестра, и пошли къ буфету.
Въ это время на дачѣ уже зажигали люстры и бра. Женихъ, надворный совѣтникъ Лакеичъ, красивый и симпатичный чиновникъ вѣдомства путей сообщенія, стоялъ посреди залы и, заложивъ руки въ карманы, бесѣдовалъ съ графомъ Шкаликовымъ. Говорили о музыкѣ.
— Я, графъ, — говорилъ Лакеичъ: — въ Неаполѣ былъ лично знакомъ съ однимъ скрипачомъ, который творилъ буквально чудеса. Вы не повѣрите! На контрабасѣ… на обыкновенномъ контрабасѣ онъ выводилъ такія чертовскія трели, что просто ужасъ! Штраусовcкіе вальсы игралъ!
— Полноте, это невозможно… — усомнился графъ.
— Увѣряю васъ! Даже листовскую рапсодію исполнялъ! Я жилъ съ нимъ въ одномъ номерѣ и даже, отъ нечего дѣлать, выучился у него играть на контрабасѣ рапсодію Листа.
— Рапсодію Листа… Гм!., вы шутите…
— Не вѣрите? — засмѣялся Лакеичъ. — Такъ я вамъ докажу сейчасъ! Пойдемте въ оркестръ!
Женихъ и графъ направились къ оркестру. Подойдя къ контрабасу, они стали быстро развязывать ремни… и — о ужасъ!
Но тутъ, пока читатель, давшій волю своему воображенію, рисуетъ исходъ музыкальнаго спора, обратимся къ Смычкову… Бѣдный музыкантъ, не догнавши воровъ и вернувшись къ тому мѣсту, гдѣ онъ оставилъ футляръ, не увидѣлъ драгоцѣнной ноши. Теряясь въ догадкахъ, онъ нѣсколько разъ прошелся взадъ и впередъ по дорогѣ и, не найдя футляра, рѣшилъ, что онъ попалъ не на ту дорогу…
«Это ужасно! — думалъ онъ, хватая себя за волосы и леденѣя. — Она задохнется въ футлярѣ! Я убійца!»
До самой полуночи Смычковъ ходилъ по дорогамъ и искалъ футляра, но подъ конецъ, выбившись изъ силъ, отправился подъ мостикъ.
— Поищу на разсвѣтѣ, — рѣшилъ онъ.
Поиски во время разсвѣта дали тотъ же результатъ, и Смычковъ рѣшилъ подождать подъ мостомъ ночи…
— Я найду ее! — бормоталъ онъ, снимая цилиндръ и хватая себя за волосы. — Хотя бы годъ искать, но я найду ее!
И теперь еще крестьяне, живущіе въ описанныхъ мѣстахъ, разсказываютъ, что ночами около мостика можно видѣть какого-то голаго человѣка, обросшаго волосами и въ цилиндрѣ. Изрѣдка изъ-подъ мостика слышится хрипѣніе контрабаса.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1886, № 23.
Бракъ по разсчету. Романъ въ 2-хъ частяхъ.
Часть первая.
Въ домѣ вдовы Мымриной, что въ Пятисобачьемъ переулкѣ, свадебный ужинъ. Ужинаетъ 23 человѣка, изъ коихъ восемь ничего не ѣдятъ, клюютъ носомъ и жалуются, что ихъ «мутитъ». Свѣчи, лампы и хромая люстра, взятая напрокатъ изъ трактира, горятъ до того ярко, что одинъ изъ гостей, сидящихъ за столомъ, телеграфистъ, кокетливо щуритъ глаза и то и дѣло заговариваетъ объ электрическомъ освѣщеніи — ни къ селу, ни къ городу. Этому освѣщенію и вообще электричеству онъ пророчитъ блестящую будущность, но, тѣмъ не менѣе, ужинающіе слушаютъ его съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ.
— Электричество… — бормочетъ посаженый отецъ, тупо глядя въ свою тарелку. — А по моему взгляду, электрическое освѣщеніе одно только жульничество. Всунутъ туда уголекъ и думаютъ глаза отвести! Нѣтъ, братъ, уже ежели ты даешь мнѣ освѣщеніе, то ты давай не уголекъ, а что-нибудь существенное, этакое что-нибудь зажигательное, чтобы было за что взяться! Ты давай огня — понимаешь? — огня, который натуральный, а не умственный.
— Ежели бы вы видѣли электрическую батарею, изъ чего она составлена, — говоритъ телеграфистъ, рисуясь: — то вы иначе бы разсуждали.
— И не желаю видѣть. Жульничество… Народъ простой надуваютъ… Соки послѣдніе выжимаютъ. Знаемъ мы ихъ, этихъ самыхъ… А вы, господинъ молодой человѣкъ, — не имѣю чести знать вашего имени-отчества, — чѣмъ за жульничество вступаться, лучше бы выпили и другимъ налили.
— Я съ вами, папаша, вполнѣ согласенъ, — говоритъ хриплымъ теноромъ женихъ Апломбовъ, молодой человѣкъ съ длинной шеей и щетинистыми волосами. — Къ чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и самъ поговорить о всевозможныхъ открытіяхъ въ научномъ смыслѣ, но вѣдь на это есть другое время! Ты какого мнѣнія, машеръ5? — обращается женихъ къ сидящей рядомъ невѣстѣ.
Невѣста Дашенька, у которой на лицѣ написаны всѣ добродѣтели, кромѣ одной — способности мыслить, вспыхиваетъ и говоритъ:
— Они хочутъ свою образованность показать и всегда говорятъ о непонятномъ.
— Слава Богу, прожили вѣкъ безъ образованія и вотъ ужъ, благодарить Бога, третью дочку за хорошаго человѣка выдаемъ, — говоритъ съ другого конца стола мать Дашеньки, вздыхая и обращаясь къ телеграфисту. — А ежели мы, по-вашему, выходимъ необразованные, то зачѣмъ вы къ намъ ходите? Шли бы къ своимъ образованнымъ!
Наступаетъ молчаніе. Телеграфистъ сконфуженъ. Онъ никакъ не ожидалъ, что разговоръ объ электричествѣ приметъ такой странный оборотъ. Наступившее молчаніе имѣетъ характеръ враждебный, кажется ему симптомомъ всеобщаго неудовольствія, и онъ находитъ нужнымъ оправдаться.
— Я, Татьяна Петровна, всегда уважалъ ваше семейство, — говоритъ онъ: — а ежели я насчетъ электрическаго освѣщенія, такъ это еще не значитъ, что я изъ гордости. Даже вотъ выпить могу… Я всегда отъ всѣхъ чувствъ желалъ Дарьѣ Ивановнѣ хорошаго жениха. Въ наше время, Татьяна Петровна, трудно выйти за хорошаго человѣка. Нынче каждый норовитъ вступить въ бракъ изъ-за интереса, изъ-за денегъ…
— Это намекъ! — говоритъ женихъ, багровѣя и мигая глазами.
— И никакого тутъ нѣтъ намека, — говоритъ телеграфистъ, нѣсколько струсивъ. — Я не говорю о присутствующихъ. Это я такъ… вообще… Помилуйте!… Всѣ знаютъ, что вы изъ любви… Приданое пустяшное…
— Нѣтъ, не пустяшное! — обижается Дашенькина мать. — Ты говори, сударь, да не заговаривайся! Кромѣ того, что мы тысячу рублей, мы три салопа даемъ, постелю и вотъ эту всю мебель! Подика-сь найди въ другомъ мѣстѣ такое приданое!
— Я ничего… Мебель, дѣйствительно, хорошая… но я въ томъ смыслѣ, что вотъ они обижаются, будто я намекнулъ…
— А вы не намекайте, — говоритъ невѣстина мать. — Мы васъ по вашимъ родителямъ почитаемъ и на свадьбу пригласили, а вы разныя слова. А ежели вы знали, что Егоръ Ѳедорычъ изъ интереса женится, то что же вы раньше молчали? Пришли бы да и сказали по-родственному: такъ и такъ, молъ, на интересъ польстился… А тебѣ, батюшка, грѣхъ! — обращается вдругъ невѣстина мать къ жениху, слезливо мигая глазами. — Я ее, можетъ, вскормила, вспоила… берегла пуще алмаза изумруднаго, дѣточку мою, а ты… ты изъ интереса…
— И вы повѣрили клеветѣ? — говоритъ Апломбовъ, вставая изъ-за стола и нервно теребя свои щетинистые волосы. — Покорнѣйше васъ благодарю! Мерси за такое мнѣніе! А вы, господинъ Блинчиковъ, — обращается онъ къ телеграфисту: — вы хоть и знакомый мнѣ, но я не позволю вамъ такія безобразія строить въ чужомъ домѣ! Позвольте вамъ выйти вонъ!
— То-есть какъ?
— Позвольте вамъ выйти вонъ! Желаю, чтобы и вы были такимъ честнымъ человѣкомъ, какъ я! Однимъ словомъ, позвольте вамъ выйти вонъ!
— Да оставь! Будетъ тебѣ! — осаживаютъ жениха его пріятели. — Ну, стоитъ ли? Садись! Оставь!
— Нѣтъ, я желаю показать, что онъ не имѣетъ никакой полной правы! Я по любви вступилъ въ законный бракъ. Чего же вы сидите, не понимаю! Позвольте вамъ выйти вонъ!
— Я ничего… Я вѣдь… — говоритъ ошеломленный телеграфистъ, поднимаясь изъ-за стола. — Не понимаю даже… Извольте, я уйду… Только вы отдайте сначала мнѣ три рубля, что вы у меня на пикейную жилетку заняли. Выпью вотъ еще и… уйду, только вы сначала долгъ отдайте.
Женихъ долго шепчется со своими пріятелями. Тѣ по мелочамъ даютъ ему три рубля, онъ съ негодованіемъ бросаетъ ихъ телеграфисту, и послѣдній, послѣ долгихъ поисковъ своей форменной фуражки, раскланивается и уходитъ.
Такъ иногда можетъ кончиться невинный разговоръ объ электричествѣ! Но вотъ кончается ужинъ… Наступаетъ ночь. Благовоспитанный авторъ надѣваетъ на свою фантазію крѣпкую узду и накидываетъ на текущія событія темную вуаль таинственности.
Розоперстая Аврора застаетъ еще Гименея въ Пятисобачьемъ переулкѣ, но вотъ настаетъ сѣрое утро и даетъ автору богатый матеріалъ для
Части второй и послѣдней.
Сѣрое осеннее утро. Еще нѣтъ и восьми часовъ, а въ Пятисобачьемъ переулкѣ необычайное движеніе. По тротуарамъ бѣгаютъ встревоженные городовые и дворники; у воротъ толпятся озябшія кухарки съ выраженіемъ крайняго недоумѣнія на лицахъ… Во всѣ окна глядятъ обыватели. Изъ открытаго окна прачешной, нажимая другъ друга висками и подбородками, глядятъ женскія головы.
— Не то снѣгъ, не то… и не разберешь, что оно такое, — слышатся голоса.
Въ воздухѣ отъ земли до крышъ кружится что-то бѣлое, очень похожее на снѣгъ. Мостовая бѣла, уличные фонари, крыши, дворницкія скамьи у воротъ, плечи и шапки прохожихъ — все бѣло.
— Что случилось? — спрашиваютъ прачки у бѣгущихъ дворниковъ.
Тѣ въ отвѣтъ машутъ руками и бѣгутъ дальше… Они и сами не знаютъ, въ чемъ дѣло. Но вотъ, наконецъ, медленно приходитъ одинъ дворникъ и, бесѣдуя самъ съ собой, жестикулируетъ руками. Очевидно, онъ побывалъ на мѣстѣ происшествія и знаетъ все.
— Что, родименькій, случилось? — спрашиваютъ у него прачки изъ окна.
— Неудовольствіе, — отвѣчаетъ онъ. — Въ домѣ Мымриной, что вчерась была свадьба, жениха обсчитали. Вмѣсто тысячи — девятьсотъ дали.
— Ну, а онъ что?
— Осерчалъ. Я, говоритъ, того, говоритъ… Распоролъ въ сердцахъ перину и выпустилъ пухъ въ окно… Ишь, сколько пуху! Снѣгъ словно!
— Ведутъ! Ведутъ! — слышатся голоса. — Ведутъ!
Отъ дома вдовы Мымриной движется процессія. Впереди идутъ два городовыхъ съ озабоченными лицами… Сзади нихъ шагаетъ Апломбовъ въ триковомъ пальто и въ цилиндрѣ. На лицѣ у него написано «Я честный человѣкъ, но надувать себя не позволю!»
— Ужо правосудіе покажетъ вамъ, что я за человѣкъ! — бормочетъ онъ, то и дѣло оборачиваясь.
За нимъ идутъ плачущія Татьяна Петровна и Дашенька. Шествіе замыкается дворникомъ съ книгой и толпой мальчишекъ.
— О чемъ плачешь, молодуха? — обращаются прачки къ Дашенькѣ.
— Перины жалко! — отвѣчаетъ за нее мать. — Три пуда, голубчики! И пухъ-то вѣдь какой! Пушинка къ пушинкѣ — ни одного перышка! Наказалъ Богъ на старости лѣтъ!
Процессія поворачиваетъ за уголъ, и Пятисобачій переулокъ успокаивается. Пухъ летаетъ до вечера.
Юмористическій журналъ «Развлеченіе», 1884, № 43.
Ночь передъ судомъ. Разсказъ подсудимаго.
— Быть, баринъ, бѣдѣ! — сказалъ ямщикъ, оборачиваясь ко мнѣ и указывая кнутомъ на зайца, перебѣгавшаго намъ дорогу.
Я и безъ зайца зналъ, что будущее мое отчаянное, ѣхалъ я въ C-ій окружный судъ, гдѣ долженъ былъ сѣсть на скамью подсудимыхъ за двоеженство. Погода была ужасная. Когда я къ ночи пріѣхалъ на почтовую станцію, то имѣлъ видъ человѣка, котораго облѣпили снѣгомъ, облили водой и сильно высѣкли, — до того я озябъ, промокъ и обалдѣлъ отъ однообразной дорожной тряски. На станціи встрѣтилъ меня станціонный смотритель, высокій человѣкъ въ кальсонахъ съ синими полосками, лысый, заспанный и съ усами, которые, казалось, росли изъ ноздрей и мѣшали ему нюхать.
А понюхать, признаться, было что. Когда смотритель, бормоча, сопя и почесывая за воротникомъ, отворилъ дверь въ станціонные «покои» и молча указалъ мнѣ локтемъ на мѣсто моего успокоенія, меня обдало густымъ запахомъ кислятины, сургуча и раздавленнаго клопа — и я едва не задохнулся. Жестяная лампочка, стоявшая на столѣ и освѣщавшая деревянныя, некрашеныя стѣны, коптила, какъ лучина.
— Да и вонь же у васъ, синьоръ! — сказалъ я, входя и кладя чемоданъ на столъ.
Смотритель понюхалъ воздухъ и недовѣрчиво покачалъ головой.
— Пахнетъ, какъ обыкновенно, — сказалъ онъ и почесался. — Это вамъ съ морозу. Ямщики при лошадяхъ дрыхнуть, а господа не пахнутъ.
Я услалъ смотрителя и сталъ обозрѣвать свое временное жилище. Диванъ, на которомъ мнѣ предстояло возлечь, былъ широкъ, какъ двухспальная кровать, обитъ клеенкой и былъ холоденъ, какъ ледъ. Кромѣ дивана въ комнатѣ были еще: большая чугунная печь, столъ съ упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояжъ и ширма, загораживавшая уголъ. За ширмой кто-то тихо спалъ. Осмотрѣвшись, я постлалъ себѣ на диванѣ и сталъ раздѣваться. Носъ мой скоро привыкъ къ вони. Снявши сюртукъ, брюки и сапоги, безконечно потягиваясь, улыбаясь, ежась, я запрыгалъ вокругъ чугунной печки, высоко поднимая свои босыя ноги… Эти прыжки меня еще болѣе согрѣли. Оставалось послѣ этого растянуться на диванѣ и уснуть, но тутъ случился маленькій казусъ. Мой взглядъ нечаянно упалъ на ширмы и… представьте мой ужасъ! Изъ-за ширмы глядѣла на меня женская головка съ распущенными волосами, черными глазками и оскаленными зубками. Черныя брови ея двигались, на щекахъ играли хорошенькія ямочки — стало-быть, она смѣялась. Я сконфузился. Головка, замѣтивъ, что я ее увидѣлъ, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупя взоръ, я смирнехонько направился къ дивану, легъ и укрылся шубой.
«Какая оказія! — подумалъ я. — Значитъ она видѣла, какъ я прыгалъ! Нехорошо…»
И, припоминая черты хорошенькаго личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше и соблазнительнѣе затѣснились въ моемъ воображеніи и… и, словно въ наказаніе за грѣшныя мысли, я вдругъ почувствовалъ на своей правой щекѣ сильную, жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймалъ, но догадался въ чемъ дѣло: запахло раздавленнымъ клопомъ.
— Это чортъ знаетъ, что такое! — услышалъ я въ то же время женскій голосокъ. — Проклятые клопы, вѣроятно, хотятъ съѣсть меня!
Гм!… Я вспомнилъ о своей хорошей привычкѣ всегда брать съ собой въ дорогу персидскій порошокъ. И на сей разъ я не измѣнилъ этой привычкѣ. Жестянка съ порошкомъ была вытащена изъ чемодана въ какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головкѣ средство отъ «энциклопедіи» и — знакомство готово. Но какъ предложить?
— Это ужасно!
— Сударыня, — сказалъ я возможно сладенькимъ голосомъ. — Насколько я понялъ ваше послѣднее восклицаніе, васъ кусаютъ клопы. У меня же есть персидскій порошокъ. Если угодно, то…
— Ахъ, пожалуйста!
— Въ такомъ случаѣ, я сейчасъ… надѣну только шубу, — обрадовался я, — и принесу…
— Нѣтъ, нѣтъ… Вы черезъ ширму подайте, а сюда не ходите!
— Я и самъ знаю, что черезъ ширму. Не пугайтесь: не башибузукъ какой-нибудь…
— А кто васъ знаетъ! Народъ вы проѣзжій…
— Гм!… А хоть бы и за ширму… Тутъ ничего нѣтъ особеннаго… тѣмъ болѣе, что я докторъ, — солгалъ я: — а доктора, частные пристава и дамскіе парикмахеры имѣютъ право вторгаться въ частную жизнь.
— Вы правду говорите, что вы докторъ? Серьезно?
— Честное слово. Такъ позволите принести вамъ порошокъ?
— Ну, если вы докторъ, то пожалуй… Только зачѣмъ вамъ трудиться? Я могу мужа выслать къ вамъ… Федя! — сказала брюнетка, понизивъ голосъ. — Федя! Да проснись же, тюлень! Встань и поди за ширму! Докторъ такъ любезенъ, онъ предлагаетъ намъ персидскаго порошку.
Присутствіе за ширмой «Феди» было для меня ошеломляющею новостью. Меня словно обухомъ ударило… Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вѣроятности, испытываетъ ружейный курокъ, когда дѣлаетъ осѣчку: и совѣстно, и досадно, и жалко… На душѣ у меня стало такъ скверно и такимъ мерзавцемъ показался мнѣ этотъ Федя, когда вышелъ изъ-за ширмы, что я едва не закричалъ караулъ. Федя изображалъ изъ себя высокаго, жилистаго человѣка, лѣтъ пятидесяти, съ сѣдыми бачками, со стиснутыми чиновничьими губами и съ синими жилками, безпорядочно бѣгавшими по его носу и вискамъ. Онъ былъ въ халатѣ и туфляхъ.
— Вы очень любезны, докторъ… — сказалъ онъ, принимая отъ меня персидскій порошокъ и поворачивая къ себѣ за ширмы. — Merci… И васъ застала пурга?
— Да! — проворчалъ я, ложась на диванъ и остервенѣло натягивая на себя шубу. — Да!
— Такъ-съ… Зиночка, по твоему носику клопикъ бѣжитъ! Позволь мнѣ снять его!
— Можешь, — засмѣялась Зиночка. — Не поймалъ! Статскій совѣтникъ, всѣ тебя боятся, а съ клопомъ справиться не можешь!
— Зиночка, при постороннемъ человѣкѣ… (вздохъ). Вѣчно ты… Ей-Богу…
— Свиньи, спать не даютъ! — проворчалъ я, сердясь самъ не зная чего.
Но скоро супруги утихли. Я закрылъ глаза, сталъ ни о чемъ не думать, чтобы уснуть. Но прошло полчаса, часъ… и я не спалъ. Въ концѣ концовъ, и сосѣди мои заворочались и стали шопотомъ браниться.
— Удивительно, даже персидскій порошокъ ничего не беретъ! — проворчалъ Федя. — Такъ ихъ много, этихъ клоповъ! Докторъ! Зиночка проситъ меня спросить васъ: отчего это клопы такъ мерзко пахнутъ?
Мы разговорились. Поговорили о клопахъ, погодѣ, русской зимѣ, о медицинѣ, въ которой такъ же мало смыслю, какъ въ астрономіи; поговорили объ Эдисонѣ…
— Ты, Зиночка, не стѣсняйся… Вѣдь онъ докторъ! — услышалъ я шопотъ послѣ разговора объ Эдисонѣ. — Не церемонься и спроси… Бояться нечего. Шервецовъ не помогъ, а этотъ, можетъ-быть, и поможетъ.
— Спроси самъ! — прошептала Зиночка.
— Докторъ, — обратился ко мнѣ Федя: — отчего это у моей жены въ груди тѣсненіе бываетъ? Кашель, знаете ли… тѣснитъ, точно, знаете ли, запеклось что-то…
— Это длинный разговоръ, сразу нельзя сказать… — попытался я увернуться.
— Ну, такъ что жъ, что длинный? Время есть… все одно, не спимъ… Посмотрите ее, голубчикъ! Надо вамъ замѣтить, лѣчитъ ее Шервецовъ… Человѣкъ-то онъ хорошій, но… кто его знаетъ? Не вѣрю я ему! Не вѣрю! Вижу, вамъ не хочется, но будьте такъ добры! Вы ее посмотрите, а я тѣмъ временемъ пойду къ смотрителю и прикажу самоварчикъ поставить.
Федя зашаркалъ туфлями и вышелъ. Я пошелъ за ширму. Зиночка сидѣла на широкомъ диванѣ, окруженная множествомъ подушекъ, и поддерживала свой кружевной воротничокъ.
— Покажите языкъ! — началъ я, садясь около нея и хмуря брови.
Она показала языкъ и засмѣялась. Языкъ былъ обыкновенный, красный. Я сталъ щупать пульсъ.
— Гм!… — промычалъ я, не найдя пульса.
Не помню, какіе еще вопросы задавалъ я, глядя на ея смѣющееся личико, помню только, что подъ конецъ моей діагностики я былъ уже такимъ дуракомъ и идіотомъ, что мнѣ было рѣшительно не до вопросовъ.
Наконецъ, я сидѣлъ въ компаніи Феди и Зиночки за самоваромъ; надо было написать рецептъ, и я сочинилъ его по всѣмъ правиламъ врачебной науки:
Утромъ, когда я, совсѣмъ уже готовый къ отъѣзду, съ чемоданомъ въ рукѣ, прощался навѣки съ моими новыми знакомыми, Федя держалъ меня за пуговицу и, подавая десятирублевку, убѣждалъ:
— Нѣтъ, вы обязаны взять! Я привыкъ платить за всякій честный трудъ! Вы учились, работали! Ваши знанія достались вамъ потомъ и кровью! Я понимаю это!
Нечего было дѣлать, пришлось взять десятирублевку.
Такъ въ общихъ чертахъ провелъ я ночь передъ днемъ суда. Не стану описывать тѣ ощущенія, которыя я испытывалъ, когда предо мной отворилась дверь и судебный приставъ указалъ мнѣ на скамью подсудимыхъ. Скажу только, что я поблѣднѣлъ и сконфузился, когда, оглянувшись назадъ, увидѣлъ тысячи смотрящихъ на меня глазъ; и я прочелъ себѣ отходную, когда взглянулъ на серьезныя, торжественно-важныя физіономіи присяжныхъ…
Но я не могу описать, а вы представить себѣ, моего ужаса, когда я, поднявъ глаза на столъ, покрытый краснымъ сукномъ, увидѣлъ на прокурорскомъ мѣстѣ — кого бы вы думали? — Федю! Онъ сидѣлъ и что-то писалъ. Глядя на него, я вспомнилъ клоповъ, Зиночку, свою діагностику, и не морозъ, а цѣлый Ледовитый океанъ пробѣжалъ по моей спинѣ… Покончивъ съ писаніемъ, онъ поднялъ на меня глаза. Сначала онъ меня не узналъ, но потомъ зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла… рука задрожала. Онъ медленно поднялся и вперилъ на меня свой оловянный взглядъ. Я тоже поднялся, самъ не знаю для чего, и впился въ него глазами…
— Подсудимый, назовите суду ваше имя и проч., — началъ предсѣдатель.
Прокуроръ сѣлъ и выпилъ стаканъ воды. Холодный потъ выступилъ у него на лбу.
— Ну, быть банѣ! — подумалъ я.
По всѣмъ признакамъ, прокуроръ рѣшилъ упечь меня. Все время онъ раздражался, копался въ свидѣтельскихъ показаніяхъ, капризничалъ, брюзжалъ…
Но, однако, пора кончить. Пишу это въ зданіи суда, во время обѣденнаго перерыва… Сейчасъ будетъ рѣчь прокурора.
Что-то будетъ?
Юмористическій журналъ «Осколки», 1886, № 5.
Дачники.
По дачной платформѣ взадъ и впередъ прогуливалась парочка недавно поженившихся супруговъ. Онъ держалъ ее за талію, а она жалась къ нему, и оба были счастливы. Изъ-за облачныхъ обрывковъ глядѣла на нихъ луна и хмурилась: вѣроятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому ненужное дѣвство. Неподвижный воздухъ былъ густо насыщенъ запахомъ сирени и черемухи. Гдѣ-то, по ту сторону рельсовъ, кричалъ коростель…
— Какъ хорошо, Саша, какъ хорошо! — говорила жена. — Право, можно подумалъ, что все это снится. Ты посмотри, какъ уютно и ласково глядитъ этотъ лѣсокъ! Какъ милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы! Они, Саша, оживляютъ ландшафтъ и говорятъ, что тамъ, гдѣ-то, есть люди… цивилизація… А развѣ тебѣ не нравится, когда до твоего слуха вѣтеръ слабо доноситъ шумъ идущаго поѣзда?
— Да… Какія, однако, у тебя руки горячія! Это оттого, что ты волнуешься, Варя… Что у насъ сегодня къ ужину готовили?
— Окрошку и цыпленка… Цыпленка намъ на двоихъ довольно. Тебѣ изъ города привезли сардины и балыкъ.
Луна, точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей объ ея одиночествѣ, одинокой постели за лѣсами и долами…
— Поѣздъ идетъ! — сказала Варя. — Какъ хорошо! Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышелъ начальникъ полустанка. На рельсахъ тамъ и сямъ замелькали сигнальные огни.
— Проводимъ поѣздъ и пойдемъ домой, — сказалъ Саша и зѣвнулъ. — Хорошо намъ съ тобой живется, Варя, такъ хорошо, что даже не вѣроятно!
Темное страшилище безшумно подползло къ платформѣ и остановилось. Въ полуосвѣщенныхъ вагонныхъ окнахъ замелькали сонныя лица, шляпки, плечи…
— Ахъ! Ахъ! — послышалось изъ одного вагона. — Варя съ мужемъ вышла насъ встрѣтить! Вотъ они! Варенька!… Варечка! Ахъ!
Изъ вагона выскочили двѣ дѣвочки и повисли на шеѣ у Вари. За ними показались полная, пожилая дама и высокій, тощій господинъ съ сѣдыми бачками, потомъ два гимназиста, навьюченные багажомъ, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка.
— А вотъ и мы, а вотъ и мы, дружокъ! — началъ господинъ съ бачками, пожимая Сашину руку. — Чай, заждался! Небось, бранилъ дядю за то, что не ѣдетъ! Коля, Костя, Нина, Фифа… дѣти! Цѣлуйте кузена Сашу! Всѣ къ тебѣ, всѣмъ выводкомъ, и денька на три, на четыре. Надѣюсь, не стѣснимъ? Ты, пожалуйста, безъ церемоніи.
Увидѣвъ дядю съ семействомъ, супруги пришли въ ужасъ. Пока дядя говорилъ и цѣловался, въ воображеніи Саши промелькнула картина: онъ и жена отдаютъ гостямъ свои три комнаты, подушки, одѣяла; балыкъ, сардины и окрошка съѣдаются въ одну секунду, кузены рвутъ цвѣты, проливаютъ чернила, галдятъ, тетушка цѣлые дни толкуетъ о своей болѣзни (солитеръ и боль подъ ложечкой) и о томъ, что она урожденная баронесса фонъ-Финтихъ…
И Саша уже съ ненавистью смотрѣлъ на свою молодую жену и шепталъ ей:
— Это они къ тебѣ пріѣхали… чортъ бы ихъ побралъ!
— Нѣтъ, къ тебѣ! — отвѣчала она, блѣдная, тоже съ ненавистью и со злобой. — Это не мои, а твои родственники!
И обернувшись къ гостямъ, она сказала съ привѣтливой улыбкой:
— Милости просимъ!
Изъ-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась; казалось, ей было пріятно, что у нея нѣтъ родственниковъ. А Саша отвернулся, чтобы скрыть отъ гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказалъ, придавая голосу радостное, благодушное выраженіе:
— Милости просимъ! Милости просимъ, дорогіе гости!
Юмористическій журналъ «Осколки», 1885, № 24.
Броженіе умовъ. Изъ лѣтописи одного города.
Земля изображала изъ себя пекло. Послѣобѣденное солнце жгло съ такимъ усердіемъ, что даже Реомюръ, висѣвшій въ кабинетѣ акцизнаго, потерялся: дошелъ до 35,8° и въ нерѣшимости остановился… Съ обывателей лилъ потъ, какъ съ заѣзженныхъ лошадей, и на нихъ же засыхалъ: лѣнь было вытирать.
По большой базарной площади, въ виду домовъ съ наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя: казначей Почешихинъ и ходатай по дѣламъ (онъ же и старинный корреспондентъ «Сынъ Отечества») Оптимовъ. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотѣлось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нравъ и умѣренное направленіе спутника, онъ молчалъ.
На серединѣ площади Почешихинъ вдругъ остановился и сталъ глядѣть на небо.
— Что вы смотрите, Евплъ Серапіонычъ?
— Скворцы полетѣли. Гляжу, куда сядутъ. Туча-тучей! Ежели, положимъ, изъ ружья выпалить, да ежели потомъ собрать… да ежели… Въ саду отца протоіерея сѣли!
— Нисколько, Евплъ Серапіонычъ. Не у отца протоіерея, а у отца дьякона Вратоадова. Если съ этого мѣста выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетитъ, ослабнетъ. Да и за что ихъ, посудите, убивать? Птица насчетъ ягодъ вредная, это вѣрно, но все-таки тварь, всякое дыханіе. Скворецъ, скажемъ, поетъ… А для чего онъ, спрашивается, поетъ? Для хвалы поетъ. Всякое дыханіе да Хвалитъ Господа. Ой, нѣтъ! Кажется, у отца протоіерея сѣли!
Мимо бесѣдующихъ безшумно прошли три старыя богомолки съ котомками и въ лапоткахъ. Поглядѣвъ вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то въ домъ отца протоіерея, онѣ пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще разъ взглянули на друзей и потомъ сами стали смотрѣть на домъ отца протоіерея.
— Да, вы правду сказали, они у отца протоіерея сѣли, — продолжалъ Оптимовъ. — У него теперь вишня поспѣла, такъ вотъ они и полетѣли клевать.
Изъ Протопоповой калитки вышелъ самъ отецъ протоіерей Восьмистишіевъ и съ нимъ дьячокъ Евстигнѣй. Увидѣвъ обращенное въ его сторону вниманіе и не понимая, на что это смотрятъ люди, онъ остановился и, вмѣстѣ съ дьячкомъ, сталъ тоже глядѣть вверхъ, чтобы понять.
— Отецъ Паисій, надо полагать, на требу идетъ, — сказалъ Почешихинъ. — Помогай ему Богъ!
Въ пространствѣ между друзьями и отцомъ протоіереемъ прошли только-что выкупавшіеся въ рѣкѣ фабричные купца Пурова.
Увидѣвъ отца Паисія, напрягавшаго свое вниманіе на высь поднебесную, и богомолокъ, которыя стояли неподвижно и тоже смотрѣли вверхъ, они остановились и стали глядѣть туда же. То же самое сдѣлалъ мальчикъ, ведшій нищаго-слѣпца, и мужикъ, несшій для свалки на площади боченокъ испортившихся сельдей.
— Что-то случилось, надо думать, — сказалъ Почешихинъ. — Пожаръ, что ли? Да нѣтъ, не видать дыму! Эй, Кузьма! — крикнулъ онъ остановившемуся мужику. — Что̀ тамъ случилось?
Мужикъ что-то отвѣтилъ, но Почешихинъ и Оптимовъ ничего не разслышали. У всѣхъ лавочныхъ дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшіе лабазъ купца Фертикулина, оставили свои лѣстницы и присоединились къ фабричнымъ. Пожарный, описывавшій босыми ногами круги на каланчѣ, остановился и, поглядѣвъ немного, спустился внизъ. Каланча осиротѣла. Это показалось подозрительнымъ.
— Ужъ не пожаръ ли гдѣ-нибудь? Да вы не толкайтесь! Чортъ свинячій!
— Гдѣ вы видите пожаръ? Какой пожаръ? Господа, разойдитесь! Васъ честью просятъ!
— Должно, внутри загорѣлось!
— Честью проситъ, а самъ руками тычетъ. Не махайте руками! Вы хоть и господинъ начальникъ, а вы не имѣете никакого полнаго права рукамъ волю давать!
— На мозоль наступилъ! А, чтобъ тебя раздавило!
— Кого раздавило? Ребята, человѣка задавили!
— Почему такая толпа? За какой надобностью?
— Человѣка, ваше выскблаародіе, задавило!
— Гдѣ? Рразойдитесь! Господа, честью прошу! Честью просятъ тебя, дубина!
— Мужиковъ толкай, а благородныхъ не смѣй трогать! Не прикасайся!
— Нешто это люди? Нешто ихъ, чертей, проймешь добрымъ словомъ? Сидоровъ, сбѣгай-ка за Акимомъ Данилычемъ! Живо! Господа, вѣдь вамъ же плохо будетъ! Придетъ Акимъ Данилычъ, и вамъ же достанется! И ты тутъ, Парфенъ?! А еще тоже слѣпецъ, святой старецъ! Ничего не видитъ, а туда же, куда и люди, не повинуется! Смирновъ, запиши Парфена!
— Слушаю! И пуровскихъ прикажете записать? Вотъ этотъ самый, который щека распухши, — это пуровскій!
— Пуровскихъ не записывай покуда… Пуровъ завтра именинникъ!
Скворцы темной тучей поднялись надъ садомъ отца протоіерея, но Почешихинъ и Оптимовъ уже не видѣли ихъ; они стояли и все глядѣли вверхъ, стараясь понять, зачѣмъ собралась такая толпа и куда она смотритъ. Показался Акимъ Данилычъ. Что-то жуя и вытирая губы, онъ взревѣлъ и врѣзался въ толпу.
— Пожжаррные, приготовьсь! Рразойдитесь! Господинъ Оптимовъ, разойдитесь, вѣдь вамъ же плохо будетъ! Чѣмъ въ газеты на порядочныхъ людей писать разныя критики, вы бы лучше сами старались вести себя посущественнѣй! Добру-то не научатъ газеты!
— Прошу васъ не касаться гласности! — вспылилъ Оптимовъ. — Я литераторъ и не дозволю вамъ касаться гласности, хотя, по долгу гражданина, и почитаю васъ, какъ отца и благодѣтеля!
— Пожарные, лей!
— Воды нѣтъ, ваше высокоблаародіе!
— Не рраз-го-варивать! Поѣзжайте за водой! Живааа!
— Не на чемъ ѣхать, ваше высокоблагородіе. Маіоръ на пожарныхъ лошадяхъ поѣхали ихнюю тетеньку провожать!
— Разойдитесь! Сдай назадъ, чтобъ тебя черти взяли… Съѣлъ? Запиши-ка его, чорта!
— Карандашъ потерялся, ваше высокоблаародіе…
Толпа все увеличивалась и увеличивалась… Богъ знаетъ, до какихъ бы размѣровъ она выросла, если бы въ трактирѣ Грѣшкина не вздумали пробовать полученный на-дняхъ изъ Москвы новый органъ. Заслышавъ «Стрѣлочка», толпа ахнула и повалила къ трактиру. Такъ никто и не узналъ, почему собралась толпа, а Оптимовъ и Почешихинъ уже забыли о скворцахъ, истинныхъ виновникахъ происшествія. Черезъ часъ городъ былъ уже недвижимъ и тихъ, и виденъ былъ только одинъ-единственный человѣкъ — это пожарный, ходившій на каланчѣ…
Вечеромъ того же дня Акимъ Данилычъ сидѣлъ въ бакалейной лавкѣ Фертикулина, пилъ лимонадъ-газесъ съ коньякомъ и писалъ: «Кромѣ офиціальной бумаги, смѣю добавить, ваше-ство, и отъ себя нѣкоторое присовокупленіе. Отецъ и благодѣтель! Именно только молитвами вашей добродѣтельной супруги, живущей въ благорастворенной дачѣ близъ нашего города, дѣло не дошло до крайнихъ предѣловъ! Столько я вынесъ за сей день, что и описать не могу. Распорядительность Крушенскаго и пожарнаго маіора Портупеева не находитъ себѣ подходящаго названія. Горжусь сими достойными слугами отечества! Я же сдѣлалъ все, что можетъ сдѣлать слабый человѣкъ, кромѣ добра ближнему ничего не желающій, и, сидя теперь среди домашняго очага своего, благодарю со слезами Того, Кто не допустилъ до кровопролитія. Виновные, за недостаткомъ уликъ, сидятъ пока взаперти, но думаю ихъ выпустить черезъ недѣльку. Отъ невѣжества преступили заповѣдь!»
Юмористическій журналъ «Осколки», 1884, № 24.
Сонная одурь.
Въ залѣ окружнаго суда идетъ засѣданіе. На скамьѣ подсудимыхъ господинъ среднихъ лѣтъ съ испитымъ лицомъ, обвиняемый въ растратѣ и подлогахъ. Тощій, узкогрудый секретарь читаетъ тихимъ теноркомъ обвинительный актъ. Онъ не признаетъ ни точекъ, ни запятыхъ, и его монотонное чтеніе похоже на жужжаніе пчелъ или журчанье ручейка. Подъ такое чтеніе хорошо мечтать, вспоминать, спать… Судьи, присяжные и публика нахохлились отъ скуки… Тишина. Изрѣдка только донесутся чьи-нибудь мѣрные шаги изъ судейскаго коридора, или осторожно кашлянетъ въ кулакъ зѣвающій присяжный…
Защитникъ подперъ свою кудрявую голову кулакомъ и тихо дремлетъ. Подъ вліяніемъ жужжанія секретаря, мысли его потеряли всякій порядокъ и бродятъ.
«Какой, однако, длинный носъ у этого судебнаго пристава, — думаетъ онъ, моргая отяжелѣвшими вѣками. — Нужно же было природѣ такъ изгадить умное лицо! Если бы у людей были носы подлиннѣе, этакъ сажени двѣ-три, то, пожалуй, было бы тѣсно жить и пришлось бы дѣлать дома попросторнѣе…»
Защитникъ встряхиваетъ головой, какъ лошадь, которую укусила муха, и продолжаетъ думать:
«Что-то теперь у меня дома дѣлается? Въ эту пору обыкновенно всѣ бываютъ дома: и жена, и теща, и дѣти… Дѣтишки Колька и Зинка, навѣрное, теперь въ моемъ кабинетѣ… Колька стоитъ на креслѣ, уперся грудью о край стола и рисуетъ что-нибудь на моихъ бумагахъ. Нарисовалъ уже лошадь съ острой мордой и съ точкой вмѣсто глаза, человѣка съ протянутой рукой, кривой домикъ; а Зина стоитъ тутъ же, около стола, вытягиваетъ шею и старается увидѣть, что нарисовалъ ея братъ…
— Нарисуй папу! — проситъ она.
Колька принимается за меня. Человѣчекъ у него уже есть, остается только пририсовать черную бороду — и папа готовъ. Потомъ Колька начинаетъ искать въ Сводѣ Законовъ картинокъ, а Зина хозяйничаетъ на столѣ. Попалась на глаза сонетка — звонятъ; видятъ чернильницу — нужно палецъ обмокнуть; если ящикъ въ столѣ не запертъ, то это значитъ, что нужно порыться въ немъ. Въ концѣ концовъ обоихъ осѣняетъ мысль, что оба они индѣйцы и что подъ моимъ столомъ они могутъ отлично прятаться отъ враговъ. Оба лѣзутъ подъ столъ, кричатъ, визжатъ и возятся тамъ до тѣхъ поръ, пока со стола не падаетъ лампа или вазочка… Охъ! А въ гостиной теперь навѣрное солидно прогуливается мамка съ третьимъ произведеніемъ… Произведеніе реветъ, реветъ… безъ, конца реветъ!»
— «По текущимъ счетамъ Копелова, — жужжитъ секретарь: — Ачкасова, Зимаковскаго и Чикиной проценты выданы не были, сумма же 1.425 рублей 41 копейка была приписана къ остатку 1883 года…»
«А можетъ-быть, у насъ уже обѣдаютъ! — плывутъ мысли у защитника. — За столомъ сидятъ теща, жена Надя, братъ жены Вася, дѣти… У тещи по обыкновенію на лицѣ тупая озабоченность и выраженіе достоинства. Надя, худая, уже блекнущая, но все еще съ идеально-бѣлой, прозрачной кожицей на лицѣ, сидитъ за столомъ съ такимъ выраженіемъ, будто ее заставили насильно сидѣть; она ничего не ѣстъ и дѣлаетъ видъ, что больна. По лицу у нея, какъ у тещи, разлита озабоченность. Еще бы! У нея на рукахъ дѣти, кухня, бѣлье мужа, гости, моль въ шубахъ, пріемъ гостей, игра на піанино! Какъ много обязанностей и какъ мало работы! Надя и ея мать не дѣлаютъ рѣшительно ничего. Если отъ скуки польютъ цвѣты или побранятся съ кухаркой, то потомъ два дня стонутъ отъ утомленія и говорятъ о каторгѣ… Братъ жены, Вася, тихо жуетъ и угрюмо молчитъ, такъ какъ получилъ сегодня по латинскому языку единицу. Малый тихій, услужливый, признательный, но изнашиваетъ такую массу сапогъ, брюкъ и книгъ, что просто бѣда… Дѣтишки, конечно, капризничаютъ. Требуютъ уксусу и перцу, жалуются другъ на друга, то и дѣло роняютъ ложки.. Даже при воспоминаніи голова кружится! Жена и теща зорко блюдутъ хорошій тонъ… Храни Богъ положить локоть на столъ, взять ножъ во весь кулакъ, или ѣсть съ ножа, или, подавая кушанье, подойти справа, а не слѣва. Всѣ кушанья, даже ветчина съ горошкомъ, пахнутъ пудрой и монпансье. Все не вкусно, приторно, мизерно… Нѣтъ и тѣни добрыхъ щей и каши, которыя я ѣлъ, когда былъ холостякомъ. Теща и жена все время говорятъ по-французски, но когда рѣчь заходитъ обо мнѣ, то теща начинаетъ говорить по-русски, ибо такой безчувственный, безсердечный, безстыдный, грубый человѣкъ, какъ я, недостоинъ, чтобы о немъ говорили на нѣжномъ французскомъ языкѣ…
— Бѣдный Мишель, вѣроятно, проголодался, — говоритъ жена. — Выпилъ утромъ стаканъ чаю безъ хлѣба, такъ и побѣжалъ въ судъ…
— Не безпокойся, матушка! — злорадствуетъ теща. — Такой не проголодается! Небось, ужъ пять разъ въ буфетъ бѣгалъ. Устроили себѣ въ судѣ буфетъ и каждыя пять минутъ просятъ у предсѣдателя, нельзя ли перерывъ сдѣлать.
Послѣ обѣда теща и жена толкуютъ о сокращеніи расходовъ… Считаютъ, записываютъ и находятъ въ концѣ концовъ, что расходы безобразно велики. Приглашается кухарка, начинаютъ считать съ ней вмѣстѣ, попрекаютъ ее, поднимается брань изъ-за пятака… Слезы, ядовитыя слова… Потомъ уборка комнатъ, перестановка мебели — и все отъ нечего дѣлать».
— «Коллежскій асессоръ Черепковъ показалъ, — жужжитъ секретарь, — что хотя ему и была прислана квитанція № 811, но, тѣмъ не менѣе, слѣдуемые ему 46 р. 2 к. онъ не получалъ, о чемъ и заявилъ тогда же…»
«Какъ подумаешь, да разсудишь, да взвѣсишь всѣ обстоятельства, — продолжаетъ думать защитникъ, — и, право, махнешь на все рукой и все пошлешь къ чорту… Какъ истомишься, ошалѣешь, угоришь за весь день въ этомъ чаду скуки и пошлости, то поневолѣ захочешь дать своей душѣ хоть одну свѣтлую минуту отдыха. Заберешься къ Наташѣ или, когда деньги есть, къ цыганамъ — и все забудешь… честное слово, все забудешь! Чортъ его знаетъ гдѣ, далеко за городомъ, въ отдѣльномъ кабинетѣ, развалишься на софѣ, азіаты поютъ, скачутъ, галдятъ, и чувствуешь, какъ всю душу твою переворачиваетъ голосъ этой обаятельной, этой страшной, бѣшеной цыганки Глаши… Глаша! Милая, славная, чудесная Глаша! Что за зубы, глаза… спина!»
А секретарь жужжитъ, жужжитъ, жужжитъ… Въ глазахъ защитника начинаетъ все сливаться и прыгать. Судьи и присяжные уходятъ въ самихъ себя, публика рябитъ, потолокъ то опускается, то поднимается… Мысли тоже прыгаютъ и наконецъ обрываются… Надя, теща, длинный носъ судебнаго пристава, подсудимый, Глаша — все это прыгаетъ, вертится и уходитъ далеко, далеко, далеко…
— Хорошо… — тихо шепчетъ защитникъ, засыпая. — Хорошо… Лежишь на софѣ, а кругомъ уютно… тепло… Глаша поетъ…
— Господинъ защитникъ! — раздается рѣзкій окликъ. «Хорошо… тепло… Нѣтъ ни тещи, ни кормилицы… ни супа, отъ котораго пахнетъ пудрой… Глаша добрая, хорошая…»
— Господинъ защитникъ! — раздается тотъ же рѣзкій голосъ.
Защитникъ вздрагиваетъ и открываетъ глаза. Прямо, въ упоръ на него, глядятъ черные глаза цыганки Глаши, улыбаются сочныя губы, сіяетъ смуглое, красивое лицо. Ошеломленный, еще не совсѣмъ проснувшійся, полагая, что это сонъ или привидѣніе, онъ медленно поднимается и, разинувъ ротъ, смотритъ на цыганку.
— Господинъ защитникъ, не желаете ли спросить что-нибудь у свидѣтельницы? — спрашиваетъ предсѣдатель.
— Ахъ… да! Это свидѣтельница… Нѣтъ, не… не желаю. Ничего не имѣю.
Защитникъ встряхиваетъ головой и окончательно просыпается. Теперь ему понятно, что это въ самомъ дѣлѣ стоитъ цыганка Глаша, что она вызвана сюда въ качествѣ свидѣтельницы.
— Впрочемъ, виноватъ, я имѣю кое-что спросить, — говоритъ онъ громко. — Свидѣтельница, — обращается онъ къ Глашѣ: — вы служите въ цыганскомъ хорѣ Кузьмичова, скажите, какъ часто въ вашемъ ресторанѣ кутилъ обвиняемый? Такъ-съ… А не помните ли, самъ ли онъ за себя платилъ всякій разъ, или же случалось, что и другіе платили за него? Благодарю васъ… достаточно.
Онъ выпиваетъ два стакана воды, и сонная одурь проходитъ совсѣмъ…
Петербургская газета, 1885, № 289.
Тайна.
Вечеромъ перваго дня Пасхи дѣйствительный статскій совѣтникъ Навагинъ, вернувшись съ визитовъ, взялъ въ передней листъ, на которомъ расписывались визитеры, и вмѣстѣ съ нимъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ. Разоблачившись и выпивъ зельтерской, онъ усѣлся поудобнѣй на кушеткѣ и сталъ читать подписи на листѣ. Когда его взглядъ достигъ до середины длиннаго ряда подписей, онъ вздрогнулъ, удивленно фыркнулъ и, изобразивъ на лицѣ своемъ крайнее изумленіе, щелкнулъ пальцами.
— Опять! — сказалъ онъ, хлопнувъ себя по колѣну. — Это удивительно! Опять! Опять расписался этотъ, чортъ его знаетъ, кто онъ такой, Ѳедюковъ! Опять!
Среди многочисленныхъ подписей находилась на листѣ подпись какого-то Ѳедюкова. Что за птица этотъ Ѳедюковъ, — Навагинъ рѣшительно не зналъ. Онъ перебралъ въ памяти всѣхъ своихъ знакомыхъ, родственниковъ и подчиненныхъ, припоминалъ свое отдаленное прошлое, но никакъ не могъ вспомнить ничего даже похожаго на Ѳедюкова. Страннѣе же всего было то, что этотъ incognito-Ѳедюковъ въ послѣднія тринадцать лѣтъ аккуратно расписывался каждое Рождество и Пасху. Кто онъ, откуда и каковъ онъ изъ себя, — не знали ни Навагинъ, ни его жена, ни швейцаръ.
— Удивительно! — изумлялся Навагинъ, шагая по кабинету. — Странно и непонятно! Какая-то кабалистика! Позвать сюда швейцара! — крикнулъ онъ. — Чертовски странно! Нѣтъ, я все-таки узнаю, кто онъ! Послушай, Григорій, — обратился онъ къ вошедшему швейцару, — опять расписался этотъ Ѳедюковъ! Ты видѣлъ его?
— Никакъ нѣтъ…
— Помилуй, да вѣдь онъ же расписался! Значитъ, онъ былъ въ передней? Былъ?
— Никакъ нѣтъ, не былъ.
— Какъ же онъ могъ расписаться, если онъ не былъ?
— Не могу знать.
— Кому же знать? Ты зѣваешь тамъ въ передней! Припомни-ка, можетъ-быть, входилъ кто-нибудь незнакомый! Подумай!
— Нѣтъ, вашество, незнакомыхъ никого не было. Чиновники наши были, къ ея превосходительству баронесса пріѣзжала, священники съ крестомъ приходили, а больше никого не было…
— Что жъ, онъ невидимкой расписался, что ли?
— Не могу знать, но только Ѳедюкова никакого не было. Это я хоть передъ образомъ…
— Странно! Непонятно! Уди-ви-тель-но! — задумался Навагинъ. — Это даже смѣшно. Человѣкъ расписывается уже тринадцать лѣтъ, и ты никакъ не можешь узнать, кто онъ. Можетъ-быть, это чья-нибудь шутка? Можетъ-быть, какой-нибудь чиновникъ вмѣстѣ со своей фамиліей подписываетъ, ради курьеза, и этого Ѳедюкова?
И Навагинъ сталъ разсматривать подпись Ѳедюкова.
Размашистая, залихватская подпись на старинный манеръ, съ завитушками и закорючками, по почерку совсѣмъ не походила на остальныя подписи. Находилась она тотчасъ же подъ подписью губернскаго секретаря Штучкина, запуганнаго и малодушнаго человѣчка, который навѣрное умеръ бы съ перепуга, если бы позволилъ себѣ такую дерзкую шутку.
— Опять таинственный Ѳедюковъ расписался! — сказалъ Навагинъ, входя къ женѣ. — Опять я не добился, кто это такой!
M-me Навагина была спириткой, а потому всѣ понятныя и непонятныя явленія въ природѣ объясняла очень просто.
— Ничего тутъ нѣтъ удивительнаго, — сказала она. — Ты вотъ не вѣришь, а я говорила и говорю: въ природѣ очень много сверхъестественнаго, чего никогда не постигнетъ нашъ слабый умъ! Я увѣрена, что этотъ Ѳедюковъ — духъ, который тебѣ симпатизируетъ… На твоемъ мѣстѣ я вызвала бы его и спросила, что ему нужно.
— Вздоръ, вздоръ!
Навагинъ былъ свободенъ отъ предразсудковъ, но занимавшее его явленіе было такъ таинственно, что поневолѣ въ его голову полѣзла всякая чертовщина. Весь вечеръ онъ думалъ о томъ, что incognito-Ѳедюковъ есть духъ какого-нибудь давно умершаго чиновника, прогнаннаго со службы предками Навагина, а теперь мстящаго потомку; быть-можетъ, это родственникъ какого-нибудь канцеляриста, уволеннаго самимъ Навагинымъ, или дѣвицы, соблазненной имъ…
Всю ночь Навагину снился старый, тощій чиновникъ въ потертомъ вицмундирѣ, съ желто-лимоннымъ лицомъ, щетинистыми волосами и оловянными глазами; чиновникъ говорилъ что-то могильнымъ голосомъ и грозилъ костлявымъ пальцемъ.
У Навагина едва не сдѣлалось воспаленіе мозга. Двѣ недѣли онъ молчалъ, хмурился и все ходилъ да думалъ. Въ концѣ концовъ онъ поборолъ свое скептическое самолюбіе и, войдя къ женѣ, сказалъ глухо:
— Зина, вызови Ѳедюкова!
Спиритка обрадовалась, велѣла принести картонный листъ и блюдечко, посадила рядомъ съ собой мужа и стала священнодѣйствовать. Ѳедюковъ не заставилъ долго ждать себя…
— Что тебѣ нужно? — спросилъ Навагинъ.
— Кайся… — отвѣтило блюдечко.
— Кѣмъ ты былъ на землѣ?
— Заблуждающійся…
— Вотъ видишь! — шепнула жена. — А ты не вѣрилъ! Навагинъ долго бесѣдовалъ съ Ѳедюковымъ, потомъ вызывалъ Наполеона, Ганнибала, Аскоченскаго, свою тетку Клавдію Захаровну, и всѣ они давали ему короткіе, но вѣрные и полные глубокаго смысла отвѣты. Возился онъ съ блюдечкомъ часа четыре и уснулъ успокоенный, счастливый, что познакомился съ новымъ для него, таинственнымъ міромъ. Послѣ этого онъ каждый день занимался спиритизмомъ и въ присутствіи объяснялъ чиновникамъ, что въ природѣ вообще очень много сверхъестественнаго, чудеснаго, на что̀ нашимъ ученымъ давно бы слѣдовало обратить вниманіе. Гипнотизмъ, медіумизмъ, бишопизмъ, спиритизмъ, четвертое измѣреніе и прочіе туманы овладѣли имъ совершенно, такъ что по цѣлымъ днямъ онъ, къ великому удовольствію своей супруги, читалъ спиритическія книги, или же занимался блюдечкомъ, столоверченіями и толкованіями сверхъестественныхъ явленій. Съ его легкой руки занялись спиритизмомъ и всѣ его подчиненные, да такъ усердно, что старый экзекуторъ сошелъ съ ума и послалъ однажды съ курьеромъ такую телеграмму: «Въ адъ, казенная палата. Чувствую, что обращаюсь въ нечистаго духа. Что дѣлать? Отвѣтъ уплаченъ. Василій Кринолинскій».
Прочитавъ не одну сотню спиритическихъ брошюръ, Навагинъ почувствовалъ сильное желаніе самому написать что-нибудь. Пять мѣсяцевъ онъ сидѣлъ и сочинялъ, и въ концѣ концовъ написалъ громадный рефератъ подъ заглавіемъ: «И мое мнѣніе». Кончивъ эту статью, онъ порѣшилъ отправить ее въ спиритическій журналъ.
День, въ который предположено было отправить статью, ему очень памятенъ. Навагинъ помнитъ, что въ этотъ незабвенный день у него въ кабинетѣ находились секретарь, переписывавшій набѣло статью, и дьячокъ мѣстнаго прихода, позванный по дѣлу. Лицо Навагина сіяло. Онъ любовно оглядѣлъ свое дѣтище, потрогалъ межъ пальцами, какое оно толстое, счастливо улыбнулся и сказалъ секретарю:
— Я полагаю, Филиппъ Сергѣичъ, заказнымъ отправить. Этакъ вѣрнѣе… — И поднявъ глаза на дьячка, онъ сказалъ: — Васъ я велѣлъ позвать по дѣлу, любезный. Я отдаю младшаго сына въ гимназію и мнѣ нужно метрическое свидѣтельство, только нельзя ли поскорѣе.
— Очень хорошо-съ, ваше превосходительство! — сказалъ дьячокъ, кланяясь. — Очень хорошо-съ! Понимаю-съ…
— Нельзя ли къ завтрему приготовить?
— Хорошо-съ, ваше превосходительство, будьте покойны-съ! Завтра же будетъ готово! Извольте завтра прислать кого-нибудь въ церковь передъ вечерней. Я тамъ буду. Прикажите спросить Ѳедюкова, я всегда тамъ…
— Какъ?! — крикнулъ генералъ, блѣднѣя.
— Ѳедюкова-съ.
— Вы… вы Ѳедюковъ? — спросилъ Навагинъ, тараща на него глаза.
— Точно такъ, Ѳедюковъ.
— Вы… вы расписывались у меня въ передней?
— Точно такъ, — сознался дьячокъ и сконфузился. — Я, ваше превосходительство, когда мы съ крестомъ ходимъ, всегда у вельможныхъ особъ расписуюсь… Люблю это самое… Какъ увижу, извините, листъ въ передней, такъ и тянетъ меня имя свое записать…
Въ нѣмомъ отупѣніи, ничего не понимая, не слыша, Навагинъ зашагалъ по кабинету. Онъ потрогалъ портьеру у двери, раза три взмахнулъ правой рукой, какъ балетный jeune premier6, видящій ее, посвисталъ, безсмысленно улыбнулся, указалъ въ пространство пальцемъ.
— Такъ я сейчасъ пошлю статью, ваше превосходительство, — сказалъ секретарь.
Эти слова вывели Навагина изъ забытья. Онъ тупо оглядѣлъ секретаря и дьячка, вспомнилъ и, раздраженно топнувъ ногой, крикнулъ дребезжащимъ, высокимъ теноромъ:
— Оставьте меня въ покоѣ! А-ас-тавь-те меня въ покоѣ, говорю я вамъ! Что вамъ нужно отъ меня, не понимаю?
Секретарь и дьячокъ вышли изъ кабинета и были уже на улицѣ, а онъ все еще топалъ ногами и кричалъ:
— Аставьте меня въ покоѣі Что вамъ нужно отъ меня, не понимаю? А-ас-тавьте меня въ покоѣ!
Юмористическій журналъ «Осколки», 1887, № 15.
Мститель.
Ѳедоръ Ѳедоровичъ Сигаевъ вскорѣ послѣ того, какъ засталъ свою жену на мѣстѣ преступленія, стоялъ въ оружейномъ магазинѣ Шмуксъ и К° и выбиралъ себѣ подходящій револьверъ. Лицо его выражало гнѣвъ, скорбь и безповоротную рѣшимость.
«Я знаю, что мнѣ дѣлать… — думалъ онъ. — Семейныя основы поруганы, честь затоптана въ грязь, порокъ торжествуетъ, а потому я, какъ гражданинъ и честный человѣкъ, долженъ явиться мстителемъ. Сначала убью ее и любовника; а потомъ себя…»
Онъ еще не выбралъ револьвера и никого еще не убилъ, но его воображеніе уже рисовало три окровавленныхъ трупа, размозженные черепа, текущій мозгъ, сумятицу, толпу зѣвакъ, вскрытіе… Съ злорадствомъ оскорбленнаго человѣка онъ воображалъ себѣ ужасъ родни и публики, агонію измѣнницы и мысленно уже читалъ передовыя статьи, трактующія о разложеніи семейныхъ основъ.
Приказчикъ магазина — подвижная, французистая фигурка съ брюшкомъ и въ бѣломъ жилетѣ — раскладывалъ передъ нимъ револьверы и, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, говорилъ:
— Я совѣтовалъ бы вамъ, мсье, взять вотъ этотъ прекрасный револьверъ. Система Смитъ и Вессонъ. Послѣднее слово огнестрѣльной науки. Тройного дѣйствія, съ экстракторомъ, бьетъ на шестьсотъ шаговъ, центральнаго боя. Обращаю, мсье, ваше вниманіе на чистоту отдѣлки. Самая модная система, мсье… Ежедневно продаемъ по десятку для разбойниковъ, волковъ и любовниковъ. Очень вѣрный и сильный бой, бьетъ на большой дистанціи и убиваетъ навылетъ жену и любовника. Что касается самоубійцъ, то, мсье, я не знаю лучшей системы…
Приказчикъ поднималъ и опускалъ курки, дышалъ на стволы, прицѣливался и дѣлалъ видъ, что задыхается отъ восторга. Глядя на его восхищенное лицо, можно было подумать, что самъ онъ охотно пустилъ бы себѣ пулю въ лобъ, если бы только обладалъ револьверомъ такой прекрасной системы, какъ Смитъ и Вессонъ.
— А какая цѣна? — спросилъ Сигаевъ.
— Сорокъ пятъ рублей, мсье.
— Гм!… для меня это дорого!
— Въ такомъ случаѣ, мсье, я предложу вамъ другой системы, подешевле. Вотъ, не угодно ли посмотрѣть? Выборъ у насъ громадный, на разныя цѣны… Напримѣръ, этотъ револьверъ системы Лефоше сто́итъ только восемнадцать рублей, но… (приказчикъ презрительно поморщился)… но, мсье, эта система уже устарѣла. Ее покупаютъ теперь только умственные пролетаріи и психопатки. Застрѣлиться или убитъ жену изъ Лефоше считается теперь знакомъ дурного тона. Хорошій тонъ признаетъ только Смита и Вессонъ.
— Мнѣ нѣтъ надобности ни стрѣляться, ни убивать, — угрюмо солгалъ Сигаевъ. — Я покупаю это просто для дачи… пугать воровъ…
— Намъ нѣтъ дѣла, для чего вы покупаете, — улыбнулся приказчикъ, скромно опуская глаза. — Если бы въ каждомъ случаѣ мы доискивались причинъ, то намъ, мсье, пришлось бы закрыть магазинъ. Для пуганья воровъ Лефоше не годится, мсье, потому что онъ издаетъ негромкій, глухой звукъ, а я предложилъ бы вамъ обыкновенный капсюльный пистолетъ Мортимера, такъ-называемый дуэльный…
«А не вызвать ли мнѣ его на дуэль? — мелькнуло въ головѣ Сигаева. — Впрочемъ, много чести… Такихъ скотовъ убиваютъ, какъ собакъ…»
Приказчикъ, граціозно поворачиваясь и сѣменя ножками, не переставая улыбаться и болтать, положилъ передъ нимъ цѣлую кучу револьверовъ. Аппетитнѣе и внушительнѣе всѣхъ выглядѣлъ Смитъ и Вессонъ. Сигаевъ взялъ въ руки одинъ револьверъ этой системы, тупо уставился на него и погрузился въ раздумье. Воображеніе его рисовало, какъ онъ размозжаетъ черепа, какъ кровь рѣкою течетъ по ковру и паркету, какъ дрыгаетъ ногой умирающая измѣнница… Но для его негодующей души было мало этого. Кровавыя картины, вопль и ужасъ его не удовлетворяли… Нужно было придумать что-нибудь болѣе ужасное.
«Вотъ что, я убью его и себя, — придумалъ онъ, — а ее оставлю жить. Пусть она чахнетъ отъ угрызеній совѣсти и презрѣнія окружающихъ. Это для такой нервной натуры, какъ она, гораздо мучительнѣе смерти…»
И онъ представилъ себѣ свои похороны: онъ, оскорбленный, лежитъ въ гробу, съ кроткой улыбкой на устахъ, а она, блѣдная, замученная угрызеніями совѣсти, идетъ за гробомъ, какъ Ніобея, и не знаетъ, куда дѣваться отъ уничтожающихъ, презрительныхъ взглядовъ, какіе бросаетъ на нее возмущенная толпа…
— Я вижу, мсье, что вамъ нравится Смитъ и Вессонъ, — перебилъ приказчикъ его мечтанія. — Если онъ кажется вамъ дорогъ, то извольте, я уступлю пятъ рублей… Впрочемъ, у насъ еще есть другія системы, подешевле.
Французистая фигурка граціозно повернулась и достала съ полокъ еще дюжину футляровъ съ револьверами.
— Вотъ, мсье, цѣна тридцать рублей. Это не дорого, тѣмъ болѣе, что курсъ страшно понизился, а таможенныя пошлины, мсье, повышаются каждый часъ. Мсье, клянусь Богомъ, я консерваторъ, но и я уже начинаю роптать! Помилуйте, курсъ и таможенный тарифъ сдѣлали то, что теперь оружіе могутъ пріобрѣтать только богачи! Бѣднякамъ осталось только тульское оружіе и фосфорныя спички, а тульское оружіе — это несчастье! Стрѣляешь изъ тульскаго револьвера въ жену, а попадаешь себѣ въ лопатку…
Сигаеву вдругъ стало обидно и жаль, что онъ будетъ мертвъ и не увидитъ мученій измѣнницы. Месть тогда лишь сладка, когда имѣешь возможность видѣть и осязать ея плоды, а что толку, если онъ будетъ лежать въ гробу и ничего не сознавать.
«Не сдѣлать ли мнѣ такъ, — раздумывалъ онъ. — Убью его, потомъ побуду на похоронахъ, погляжу, а послѣ похоронъ себя убью… Впрочемъ, меня до похоронъ арестуютъ и отнимутъ оружіе… Итакъ: убью его, она останется въ живыхъ, я… я до поры до времени не убиваю себя, а пойду подъ арестъ. Убить себя я всегда успѣю. Арестъ тѣмъ хорошъ, что на предварительномъ дознаніи я буду имѣть возможность раскрыть передъ властью и обществомъ всю низость ея поведенія. Если я убью себя, то она, пожалуй, со свойственной ей лживостью и наглостью, во всемъ обвинитъ меня, и общество оправдаетъ ея поступокъ и, пожалуй, посмѣется надо мной; если же я останусь живъ, то…»
Черезъ минуту онъ думалъ:
«Да, если я убью себя, то, пожалуй, меня же обвинятъ и заподозрятъ въ мелкомъ чувствѣ… И къ тому же, за что себя убивать? Это разъ. Во-вторыхъ, застрѣлиться — значитъ струсить. Итакъ: убью его, ее оставлю жить, самъ иду подъ судъ. Меня будутъ судить, а она будетъ фигурировать въ качествѣ свидѣтельницы… Воображаю ея смущеніе, ея позоръ, когда ее будетъ допрашивать мой защитникъ! Симпатіи суда, публики и прессы будутъ, конечно, на моей сторонѣ…»
Онъ размышлялъ, а приказчикъ раскладывалъ передъ нимъ товаръ и считалъ своимъ долгомъ занимать покупателя.
— Вотъ англійскіе новой системы, недавно только получены, — болталъ онъ. — Но предупреждаю, мсье, всѣ эти системы блѣднѣютъ передъ Смитъ и Вессонъ. На-дняхъ — вы, вѣроятно, уже читали — одинъ офицеръ, пріобрѣлъ у насъ револьверъ системы Смитъ и Вессонъ. Онъ выстрѣлилъ въ любовника и — что же вы думаете? — пуля прошла навылетъ, пробила затѣмъ бронзовую лампу, потомъ рояль, а отъ рояля рикошетомъ убила болонку и контузила жену. Эффектъ блистательный и дѣлаетъ честь нашей фирмѣ. Офицеръ теперь арестованъ… Его, конечно, обвинятъ и сошлютъ въ каторжныя работы! Во-первыхъ, у насъ слишкомъ устарѣлое законодательство; во-вторыхъ, мсье, судъ всегда бываетъ на сторонѣ любовника. Почему? Очень просто, мсье! И судьи, и присяжные, и прокуроръ, и защитникъ сами живутъ съ чужими женами, и для нихъ будетъ покойнѣе, если въ Россіи однимъ мужемъ будетъ меньше. Обществу было бы пріятно, если бы правительство сослало всѣхъ мужей на Сахалинъ. О, мсье, вы не знаете, какое негодованіе возбуждаетъ во мнѣ современная порча нравовъ! Любить чужихъ женъ теперь такъ же принято, какъ курить чужія папиросы и читать чужія книги. Съ каждымъ годомъ у насъ торговля становится все хуже и хуже, — это не значитъ, что любовниковъ становится все меньше, а значитъ, что мужья мирятся со своимъ положеніемъ и боятся суда и каторги. Приказчикъ оглянулся и прошепталъ;
— А кто виноватъ, мсье? Правительство!
«Идти на Сахалинъ изъ-за какой-нибудь свиньи тоже не разумно, — раздумывалъ Сигаевъ. — Если я пойду на каторгу, то это дастъ только возможность женѣ выйти замужъ вторично и надуть второго мужа. Она будетъ торжествовать… Итакъ: ее я оставлю въ живыхъ, себя не убиваю, его… тоже не убиваю. Надо придумать что-нибудь болѣе разумное и чувствительное. Буду казнить ихъ презрѣніемъ и подниму скандальный бракоразводный процессъ…»
— Вотъ, мсье, еще новая система, — сказалъ приказчикъ, доставая съ полки новую дюжину. — Обращаю ваше вниманіе на оригинальный механизмъ замка…
Сигаеву, послѣ его рѣшенія, револьверъ былъ уже не нуженъ, а приказчикъ, между тѣмъ, вдохновляясь все болѣе и болѣе, не переставалъ раскладывать передъ нимъ свой товаръ. Оскорбленному мужу стало совѣстно, что изъ-за него приказчикъ даромъ трудился, даромъ восхищался, улыбался, терялъ время…
— Хорошо, въ такомъ случаѣ… — забормоталъ онъ, — я зайду послѣ, или… или пришлю кого-нибудь.
Онъ не видѣлъ выраженія лица у приказчика, но, чтобы хотя немного сгладить неловкость, почувствовалъ необходимость купить что-нибудь. Но что же купить? Онъ оглядѣлъ стѣны магазина, выбирая что-нибудь подешевле, и остановилъ свой взглядъ на зеленой сѣткѣ, висѣвшей около двери.
— Это… это что такое? — спросилъ онъ.
— Это сѣтка для ловли перепеловъ.
— А что стоитъ?
— Восемь рублей, мсье.
— Заверните мнѣ…
Оскорбленный мужъ заплатилъ восемь рублей, взялъ сѣтку и, чувствуя себя еще болѣе оскорбленнымъ, вышелъ изъ магазина.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1887, № 37.
Заблудшіе.
Дачная мѣстность, окутанная ночнымъ мракомъ. На деревенской колокольнѣ бьетъ часъ. Присяжные повѣренные Козявкинъ и Лаевъ, оба въ отмѣнномъ настроеніи и слегка пошатываясь, выходятъ изъ лѣсу и направляются къ дачамъ.
— Ну, слава Создателю, пришли… — говоритъ Козявкинъ, переводя духъ. — Въ нашемъ положеніи пройти пѣхтурой пять верстъ отъ полустанка — подвигъ. Страшно умаялся! И, какъ на зло, ни одного извозчика…
— Голубчикъ, Петя… не могу! Если черезъ пять минутъ я не буду въ постели, то умру, кажется…
— Въ по-сте-ли! Ну, это шалишь, братъ! Мы сначала поужинаемъ, выпьемъ красненькаго, а потомъ ужъ и въ постель. Мы съ Вѣрочкой не дадимъ тебѣ спать..! А хорошо, братецъ ты мой, быть женатымъ! Ты не понимаешь этого, черствая душа! Приду я сейчасъ къ себѣ домой утомленный, замученный… меня встрѣтитъ любящая жена, попоитъ чайкомъ, дастъ поѣсть и, въ благодарность за мой трудъ, за любовь, взглянетъ на меня своими черненькими глазенками такъ ласково и привѣтливо, что забуду я, братецъ ты мой, и усталость, и кражу со взломомъ, и судебную палату, и кассаціонный департаментъ… Хоррошо!
— Но… у меня, кажется, ноги отломались… Я едва иду… Пить страшно хочется…
— Ну, вотъ мы и дома.
Пріятели подходятъ къ одной изъ дачъ и останавливаются передъ крайнимъ окномъ.
— Дачка славная, — говоритъ Козявкинъ. — Вотъ завтра увидишь, какіе здѣсь виды! Темно въ окнахъ. Стало-быть, Вѣрочка уже легла, не захотѣла дожидаться. Лежитъ и, должно-быть, мучится, что меня до сихъ поръ нѣтъ… (пихаетъ тростью окно, которое отворяется). Этакая вѣдь безстрашная, ложится въ постель и не запираетъ оконъ (снимаетъ крылатку и бросаетъ ее вмѣстѣ съ портфелемъ въ окно). Жарко! Давай-ка затянемъ серенаду, посмѣшимъ ее… (поетъ): «Мѣсяцъ плыветъ по ночнымъ небесамъ… Вѣтерочекъ чуть-чуть дышитъ… вѣтерочекъ чуть колышетъ»… Пой, Алеша! Вѣрочка, спѣть тебѣ серенаду Шуберта? (поетъ): «Пѣ-ѣснь моя-я-я… лети-итъ съ мольбо-о-о-ю»… (голосъ обрывается судорожнымъ кашлемъ). Тьфу! Вѣрочка, скажи-ка Аксиньѣ, чтобы она отперла намъ калитку! (пауза). Вѣрочка! Не лѣнись же, встань, милая! (становится на камень и глядитъ въ окно). Вѣрунчикъ, мумочка моя, веревьюнчикъ… ангелочекъ, жена моя безподобная, встань и скажи Аксиньѣ, чтобы она отперла намъ калитку! Вѣдь не спишь же! Мамочка, ей-Богу, мы такъ утомлены и обезсилѣны, что намъ вовсе не до шутокъ. Вѣдь мы пѣшкомъ отъ станціи шли! Да ты слышишь, или нѣтъ? А, чортъ возьми! (дѣлаетъ попытку влѣзть въ окно и срывается). Можетъ-быть, гостю непріятны эти шутки! Ты, я вижу, Вѣра, такая же институтка, какъ была, все бы тебѣ шалить…
— А можетъ-быть, Вѣра Степановна спитъ! — говоритъ Лаевъ.
— Не спитъ! Ей, вѣроятно, хочется, чтобы я поднялъ шумъ и взбудоражилъ всѣхъ сосѣдей! Я уже начинаю сердиться, Вѣра! А, чортъ возьми! Подсади меня, Алеша, я влѣзу! Дѣвчонка ты, школьница и больше ничего!… Подсади!
Лаевъ съ пыхтѣніемъ подсаживаетъ Козявкина. Тотъ влѣзаетъ въ окно и исчезаетъ во мракѣ комнаты.
— Вѣрка! — слышитъ черезъ минуту Лаевъ. — Гдѣ ты? Чоррртъ… Тьфу, во что-то руку выпачкалъ! Тьфу!
Слышится шорохъ, хлопанье крыльевъ и отчаянный крикъ курицы.
— Вотъ те на! — слышитъ Лаевъ. — Вѣра, откуда у насъ куры? Чортъ возьми, да тутъ ихъ пропасть! Плетушка съ индѣйкой… Клюется, п-подлая!
Изъ окна съ шумомъ вылетаютъ двѣ курицы и, крича во все горло, мчатся по улицѣ.
— Алеша, да мы не туда попали! — говоритъ Козявкинъ плачущимъ голосомъ. — Тутъ куры какія-то… Я, должно-быть, обознался… Да ну васъ къ чорту, разлетались тутъ, анаѳемы!
— Такъ ты выходи поскорѣй! Понимаешь? Умираю отъ жажды!
— Сейчасъ… Найду вотъ крылатку и портфель…
— Ты спичку зажги!
— Спички въ крылаткѣ… Угораздило же меня сюда забраться! Всѣ дачи одинаковыя, самъ чортъ не различитъ ихъ въ потемкахъ. Ой, индѣйка въ щеку клюнула! П-подлая…
— Выходи поскорѣе, а то подумаютъ, что мы куръ воруемъ!
— Сейчасъ.. Крылатки никакъ не найду. Тряпья здѣсь валяется много и не разберешь, гдѣ тутъ крылатка. Брось-ка мнѣ спички!
— У меня нѣтъ спичекъ!
— Положеніе, нечего сказать! Какъ же быть-то? Безъ крылатки и портфеля никакъ нельзя. Надо отыскать ихъ.
— Не понимаю, какъ это можно не узнать своей собственной дачи, — возмущается Лаевъ. — Пьяная рожа… Если бъ я зналъ, что будетъ такая исторія, ни за что бы не поѣхалъ съ тобой. Теперь бы я былъ дома, спалъ безмятежно, а тутъ изволь вотъ мучиться… Страшно утомленъ, пить хочется… голова кружится!
— Сейчасъ, сейчасъ… не умрешь…
Черезъ голову Лаева съ крикомъ пролетаетъ большой пѣтухъ. Лаевъ глубоко вздыхаетъ и, безнадежно махнувъ рукой, садится на камень. Душа у него горитъ отъ жажды, глаза слипаются, голову клонитъ внизъ… Проходитъ минутъ пять, десять, наконецъ, двадцать, а Козявкинъ все еще возится съ курами.
— Петръ, скоро ли ты?
— Сейчасъ. Нашелъ-было портфель, да опять потерялъ. Лаевъ подпираетъ голову кулаками и закрываетъ глаза.
Куриный крикъ становится все громче. Обитательницы пустой дачи вылетаютъ изъ окна и, кажется ему, какъ совы кружатся во тьмѣ надъ его головой. Отъ ихъ крика въ ушахъ его стоитъ звонъ, душой овладѣваетъ ужасъ.
«Сскотина!… — думаетъ онъ. — Пригласилъ въ гости, обѣщалъ угостить виномъ да простоквашей, а вмѣсто того заставилъ пройтись отъ станціи пѣшкомъ и этихъ куръ слушать…»
Возмущаясь, Лаевъ суетъ подбородокъ въ воротникъ, кладетъ голову на свой портфель и мало-по-малу успокаивается. Утомленіе беретъ свое и онъ начинаетъ засыпать.
— Нашелъ портфель! — слышитъ онъ торжествующій крикъ Козявкина. — Найду сейчасъ крылатку и — баста, идемъ!
Но вотъ сквозь сонъ слышитъ онъ собачій лай. Лаетъ сначала одна собака, потомъ другая, третья… и собачій лай, мѣшаясь съ куринымъ кудахтаньемъ, даетъ какую-то дикую музыку. Кто-то подходитъ къ Лаеву и спрашиваетъ о чемъ-то. Засимъ слышитъ онъ, что черезъ его голову лѣзутъ въ окно, стучатъ, кричать… Женщина въ красномъ фартукѣ стоитъ около него съ фонаремъ въ рукѣ и о чемъ-то спрашиваетъ.
— Вы не имѣете права говорить это! — слышитъ онъ голосъ Козявкина. — Я присяжный повѣренный, кандидатъ правъ Козявкинъ. Вотъ вамъ моя визитная карточка!
— На что мнѣ ваша карточка! — говоритъ кто-то хриплымъ басомъ. — Вы у меня всѣхъ куръ поразгоняли, вы подавили яйца! Поглядите, что вы надѣлали! Не сегодня-завтра индюшата должны были вылупиться, а вы подавили. На что же, сударь, сдалась мнѣ ваша карточка?
— Вы не смѣете меня удерживать! Да-съ! Я не позволю!
«Пить хочется»… — думаетъ Лаевъ, стараясь открыть глаза и чувствуя, какъ черезъ его голову кто-то лѣзетъ изъ окна.
— Я — Козявкинъ! Тутъ моя дача, меня тутъ всѣ знаютъ!
— Никакого Козявкина мы не знаемъ!
— Что ты мнѣ разсказываешь? Позвать старосту! Онъ меня знаетъ!
— Не горячитесь, сейчасъ урядникъ пріѣдетъ… Всѣхъ дачниковъ тутошнихъ мы знаемъ, а васъ отродясь не видѣли.
— Я ужъ пятый годъ въ Гнилыхъ Выселкахъ на дачѣ живу!
— Эва! Нешто это Выселки? Здѣсь Хилово, а Гнилые Выселки правѣе будутъ, за спичечной фабрикой. Версты за четыре отсюда.
— Чортъ меня возьми! Это, значитъ, я не той дорогой пошелъ!
Человѣческіе и птичьи крики мѣшаются съ собачьимъ лаемъ, и изъ смѣси звукового хаоса выдѣляется голосъ Козявкина:
— Вы не смѣете! Я заплачу! Вы узнаете, съ кѣмъ имѣете дѣло!
Наконецъ, голоса мало-по-малу стихаютъ. Лаевъ чувствуетъ, что его треплютъ за плечо.
Петербургская газета, 1885, № 191.
Репетиторъ.
Гимназистъ ѴІІ класса Егоръ Зиберовъ милостиво подаетъ Петѣ Удодову руку. Петя, двѣнадцатилѣтній мальчуганъ въ сѣромъ костюмчикѣ, пухлый и краснощекій, съ маленькимъ лбомъ и щетинистыми волосами, расшаркивается и лѣзетъ въ шкапъ за тетрадками. Занятіе начинается.
Согласно условію, заключенному съ отцомъ Удодовымъ, Зиберовъ долженъ заниматься съ Петей по два часа ежедневно, за что и получаетъ шесть рублей въ мѣсяцъ. Готовитъ онъ его во ІІ классъ гимназіи. (Въ прошломъ году онъ готовилъ его въ І классъ, но Петя порѣзался).
— Ну-съ… — начинаетъ Зиберовъ, закуривая папиросу. — Вамъ задано четвертое склоненіе. Склоняйте fructus!
Петя начинаетъ склонять.
— Опять вы не выучили! — говоритъ Зиберовъ, вставая. — Въ шестой разъ задаю вамъ четвертое склоненіе, и вы ни въ зубъ толкнуть! Когда же, наконецъ, вы начнете учить уроки?
— Опять не выучилъ? — слышится за дверями кашляющій голосъ, и въ комнату входитъ Петинъ папаша, отставной губернскій секретарь Удодовъ. — Опять? почему же ты не выучилъ? Ахъ, ты, свинья, свинья! Вѣрите ли, Егоръ Алексѣичъ? Вѣдь и вчерась поролъ!
И тяжело вздохнувъ, Удодовъ садится около сына и засматриваетъ въ истрепаннаго Кюнера. Зиберовъ начинаетъ экзаменовать Петю при отцѣ. Пусть глупый отецъ узнаетъ, какъ глупъ его сынъ! Гимназистъ входитъ въ экзаменаторскій азартъ, ненавидитъ, презираетъ маленькаго, краснощекаго тупицу, готовъ побить его. Ему даже досадно дѣлается, когда мальчуганъ отвѣчаетъ впопадъ — такъ опротивѣлъ ему этотъ Петя!
— Вы даже второго склоненія не знаете! Не знаете вы и перваго! Вотъ вы какъ учитесь! Ну, скажите мнѣ, какъ будетъ звательный падежъ отъ meus filius?
— Отъ meus filius? Meus filius будетъ… это будетъ…
Петя долго глядитъ въ потолокъ, долго шевелитъ губами, но не даетъ отвѣта.
— А какъ будетъ дательный множественнаго отъ dea?
— Deabus… filiabus! — отчеканиваетъ Петя.
Старикъ Удодовъ одобрительно киваетъ головой. Гимназистъ, не ожидавшій удачнаго отвѣта, чувствуетъ досаду.
— А еще какое существительное имѣетъ въ дательномъ abus? — спрашиваетъ онъ.
Оказывается, что и «anima — душа» имѣетъ въ дательномъ abus, чего нѣтъ въ Кюнерѣ.
— Звучный языкъ латинскій! — замѣчаетъ Удодовъ. — Алон… трон… бонусъ… антропосъ… Премудрость! И все вѣдь это нужно! — говоритъ онъ со вздохомъ.
«Мѣшаетъ, скотина, заниматься… — думаетъ Зиберовъ. — Сидитъ надъ душой тутъ и надзираетъ. Терпѣть не могу контроля!» — Ну-съ, — обращается онъ къ Петѣ. — Къ слѣдующему разу по латыни возьмете то же самое. Теперь по ариѳметикѣ… Берите доску. Какая слѣдующая задача? Петя плюетъ на доску и стираетъ рукавомъ. Учитель беретъ задачникъ и диктуетъ:
— «Купецъ купилъ 138 арш. чернаго и синяго сукна за 540 руб. Спрашивается, сколько аршинъ купилъ онъ того и другого, если синее стоило 5 руб. за аршинъ, а черное 3 руб.?» Повторите задачу.
Петя повторяетъ задачу и тотчасъ же, ни слова не говоря, начинаетъ дѣлить 540 на 138.
— Для чего же это вы дѣлите? Постойте! Впрочемъ, такъ… продолжайте. Остатокъ получается? Здѣсь не можетъ быть остатка. Дайте-ка я раздѣлю!
Зиберовъ дѣлитъ, получаетъ 3 съ остаткомъ и быстро стираетъ.
«Странно… — думаетъ онъ, ероша волосы и краснѣя. — Какъ же она рѣшается? Гм!… Это задача на неопредѣленныя уравненія, а вовсе не ариѳметическая»…
Учитель глядитъ въ отвѣты и видитъ 75 и 63.
«Гм!… странно… Сложить 5 и 3, а потомъ дѣлить 540 на 8? Такъ, что ли? Нѣтъ, не то».
— Рѣшайте же! — говоритъ онъ Петѣ.
— Ну, чего думаешь? Задача-то вѣдь пустяковая! — говоритъ Удодовъ Петѣ. — Экій ты дуракъ, братецъ! Рѣшите ужъ вы ему, Егоръ Алексѣичъ.
Егоръ Алексѣичъ беретъ въ руки грифель и начинаетъ рѣшать. Онъ заикается, краснѣетъ, блѣднѣетъ.
— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая, — говоритъ онъ. — Ее съ иксомъ и игрэкомъ рѣшить можно. Впрочемъ, можно и такъ рѣшить. Я, вотъ, раздѣлилъ… понимаете? Теперь, вотъ, надо вычесть… понимаете? Или, вотъ что… Рѣшите мнѣ эту задачу сами къ завтраму… Подумайте…
Петя ехидно улыбается. Удодовъ тоже улыбается. Оба они понимаютъ замѣшательство учителя. Ученикъ ѴІІ класса еще пуще конфузится, встаетъ и начинаетъ ходить изъ угла въ уголъ.
— И безъ алгебры рѣшить можно, — говоритъ Удодовъ, протягивая руку къ счетамъ и вздыхая. — Вотъ, извольте видѣть…
Онъ щелкаетъ на счетахъ, и у него получается 75 и 63, что и нужно было.
— Вотъ-съ… по-нашему, по-неученому.
Учителю становится нестерпимо жутко. Съ замираніемъ сердца поглядываетъ онъ на часы и видитъ, что до конца урока остается еще часъ съ четвертью — цѣлая вѣчность!
— Теперь диктантъ.
Послѣ диктанта — географія, за географіей — Законъ Божій, потомъ русскій языкъ, — много на этомъ свѣтѣ наукъ! Но вотъ, наконецъ, кончается двухчасовой урокъ. Зиберовъ берется за шапку, милостиво подаетъ Петѣ руку и прощается съ Удодовымъ.
— Не можете ли вы сегодня дать мнѣ немного денегъ? — проситъ онъ робко. — Завтра мнѣ нужно взносить плату за ученіе. Вы должны мнѣ за шесть мѣсяцевъ.
— Я? Ахъ, да, да… — бормочетъ Удодовъ, не глядя на Зиберова. — Съ удовольствіемъ! Только у меня сейчасъ нѣту, а я вамъ черезъ недѣльку… или черезъ двѣ…
Зиберовъ соглашается и, надѣвъ свои тяжелыя, грязныя калоши, идетъ на другой урокъ.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1884, № 6.
Симулянты.
Генеральша Марѳа Петровна Печонкина, или, какъ ее зовутъ мужики, Печончиха, десять лѣтъ уже практикующая на поприщѣ гомеопатіи, въ одинъ изъ майскихъ вторниковъ принимаетъ у себя въ кабинетѣ больныхъ. Передъ ней на столѣ гомеопатическая аптечка, лѣчебникъ и счеты гомеопатической аптеки. На стѣнѣ въ золотыхъ рамкахъ подъ стекломъ висятъ письма какого-то петербургскаго гомеопата, по мнѣнію Марѳы Петровны, очень знаменитаго и даже великаго, и виситъ портретъ отца Аристарха, которому генеральша обязана своимъ спасеніемъ: отреченіемъ отъ зловредной аллопатіи и знаніемъ истины. Въ передней сидятъ и ждутъ паціенты, все больше мужики. Всѣ они, кромѣ двухъ-трехъ, босы, такъ какъ генеральша велитъ оставлять вонючіе сапоги на дворѣ.
Марѳа Петровна приняла уже десять человѣкъ и вызываетъ одиннадцатаго:
— Гаврила Груздь!
Дверь отворяется и, вмѣсто Гаврилы Груздя, въ кабинетъ входитъ Замухришинъ, генеральшинъ сосѣдъ, помѣщикъ изъ оскудѣвшихъ, маленькій старичокъ съ кислыми глазками и съ дворянской фуражкой подъ мышкой. Онъ ставитъ палку въ уголъ, подходитъ къ генеральшѣ и, молча, становится передъ ней на одно колѣно.
— Что вы! Что вы, Кузьма Кузьмичъ! — ужасается генеральша, вся вспыхивая. — Бога ради!
— Покуда живъ буду, не встану! — говоритъ Замухришинъ, прижимаясь къ ручкѣ. — Пусть весь народъ видитъ мое колѣнопреклоненіе, ангелъ-хранитель нашъ, благодѣтельница рода человѣческаго! Пусть! Которая благодѣтельная фея даровала мнѣ жизнь, указала мнѣ путь истинный и просвѣтила мудрованіе мое скептическое, передъ тою согласенъ стоять не только на колѣняхъ, но и въ огнѣ, цѣлительница наша чудесная, мать сирыхъ и вдовыхъ! Выздоровѣлъ! Воскресъ, волшебница!
— Я… я очень рада… — бормочетъ генеральша, краснѣя отъ удовольствія. — Это такъ пріятно слышать… Садитесь, пожалуйста! А вѣдь вы въ тотъ вторникъ были такъ тяжело больны!
— Да вѣдь какъ боленъ! Вспомнить страшно! — говоритъ Замухришинъ, садясь. — Во всѣхъ частяхъ и органахъ ревматизмъ стоялъ. Восемь лѣтъ мучился, покою себѣ не зналъ… Ни днемъ, ни ночью, благодѣтельница моя! Лѣчился я и у докторовъ, и къ профессорамъ въ Казань ѣздилъ, и грязями разными лѣчился, и воды пилъ, и чего только я не перепробовалъ! Состояніе свое пролѣчилъ, матушка-красавица. Доктора эти, кромѣ вреда, ничего мнѣ не принесли. Они болѣзнь мою во внутрь мнѣ вогнали. Вогнать-то вогнали, а выгнать — наука ихняя не дошла… Только деньги любятъ брать, разбойники, а ежели касательно пользы человѣчества, то имъ и горя мало. Пропишетъ какой-нибудь хиромантіи, а ты пей. Душегубцы, однимъ словомъ. Если бы не вы, ангелъ нашъ, быть бы мнѣ въ могилѣ! Прихожу отъ васъ въ тотъ вторникъ, гляжу на крупинки, что̀ вы дали тогда, и думаю: — «Ну, какой въ нихъ толкъ? Нешто эти песчинки, еле видимыя, могутъ излѣчить мою громадную застарѣлую болѣзнь?» Думаю, маловѣръ, и улыбаюсь, а какъ принялъ крупинку — моментально! словно и боленъ не былъ, или рукой сняло. Жена глядитъ на меня выпученными глазами и не вѣритъ. — «Да ты ли это, Коля?» — Я, говорю. И стали мы съ ней передъ образомъ на колѣнки, и давай молиться за ангела нашего; «Пошли ты ей, Господи, всего, что мы только чувствуемъ!»
Замухришинъ вытираетъ рукавомъ глаза, поднимается со стула и выказываетъ намѣреніе снова стать на одно колѣно, но генеральша останавливаетъ и усаживаетъ его.
— Не меня благодарите! — говоритъ она, красная отъ волненія и глядя восторженно на портретъ отца Аристарха. — Не меня! Я тутъ только послушное орудіе… Дѣйствительно, чудеса! Застарѣлый, восьмилѣтній ревматизмъ отъ одной крупинки скрофулозо!
— Изволили вы дать мнѣ три крупинки. Изъ нихъ одну принялъ я въ обѣдъ — и моментально! Другую вечеромъ, а третью на другой день, — и съ той поры хоть бы тебѣ что! Хоть бы кольнуло гдѣ! А вѣдь помирать уже собрался, сыну въ Москву написалъ, чтобъ пріѣхалъ! Умудрилъ васъ Господь, цѣлительница! Теперь вотъ хожу, и словно въ раю… Въ тотъ вторникъ, когда у васъ былъ, хромалъ, а теперь хоть за зайцемъ готовъ… Хоть еще сто лѣтъ жить. Одна только бѣда — недостатки наши. И здоровъ, а для чего здоровье, если жить не на что? Нужда одолѣла пуще болѣзни… Къ примѣру взять хоть бы такое дѣло… Теперь время овесъ сѣять, а какъ его посѣешь, ежели сѣменовъ нѣтъ? Нужно бы купить, а денегъ… извѣстно, какія у насъ деньги…
— Я вамъ дамъ овса, Кузьма Кузьмичъ… Сидите, сидите! Вы такъ меня порадовали, такое удовольствіе мнѣ доставили, что не вы, а я должна васъ благодарить!
— Радость вы наша! Создастъ же Господь такую доброту! Радуйтесь, матушка, на свои добрыя дѣла глядючи! А вотъ намъ, грѣшнымъ, и порадоваться у себя не на что… Люди мы маленькіе, малодушные, безполезные… мелкота… Одно званіе только, что дворяне, а въ матеріальномъ смыслѣ тѣ же мужики, даже хуже… Живемъ въ домахъ каменныхъ, а выходитъ одинъ миражъ, потому — крыша течетъ… Не на что тесу купить.
— Я дамъ вамъ тесу, Кузьма Кузьмичъ. Замухришинъ выпрашиваетъ еще корову, рекомендательное письмо для дочки, которую намѣренъ везти въ институтъ и… тронутый щедротами генеральши, отъ наплыва чувствъ всхлипываетъ, перекашиваетъ ротъ и лѣзетъ въ карманъ за платкомъ… Генеральша видитъ, какъ вмѣстѣ съ платкомъ изъ кармана его вылѣзаетъ какая-то красная бумажка и безшумно падаетъ на полъ.
— Во вѣки-вѣковъ не забуду… — бормочетъ онъ. — И дѣтямъ закажу помнить, и внукамъ… въ родъ и родъ… Вотъ, дѣти, та, которая спасла меня отъ гроба, которая…
Проводивъ своего паціента, генеральша минуту глазами, полными слезъ, глядитъ на отца Аристарха, потомъ ласкающимъ, благоговѣющимъ взоромъ обводитъ аптечку, лѣчебники, счета, кресло, въ которомъ только-что сидѣлъ спассеный ею отъ смерти человѣкъ, и взоръ ея падаетъ на оброненную паціентомъ бумажку. Генеральша поднимаетъ бумажку, разворачиваетъ ее и видитъ въ ней три крупинки, тѣ самыя крупинки, которыя она дала въ прошлый вторникъ Замухришину.
— Это тѣ самыя… — недоумѣваетъ она. — Даже бумажка та самая… Онъ и не разворачивалъ даже! Что же онъ принималъ въ такомъ случаѣ? Странно… Не станетъ же онъ меня обманывать.
И въ душу генеральши, въ первый разъ за всѣ десять лѣтъ практики, западаетъ сомнѣніе… Она вызываетъ слѣдующихъ больныхъ и, говоря съ ними о болѣзняхъ, замѣчаетъ то, что прежде незамѣтнымъ образомъ проскальзывало мимо ея ушей. Больные, всѣ до единаго, словно сговорившись, сначала славословятъ ее за чудесное исцѣленіе, восхищаются ея медицинскою мудростью, бранятъ докторовъ-аллопатовъ, потомъ же, когда она становится красной отъ волненія, приступаютъ къ изложенію своихъ нуждъ. Одинъ проситъ землицы для запашки, другой дровецъ, третій позволенія охотиться въ ея лѣсахъ и т. д. Она глядитъ на широкую, благодушную физіономію отца Аристарха, открывшаго ей истину, и новая истина начинаетъ сосать ее за душу. Истина не хорошая, тяжелая…
Лукавъ человѣкъ!
Юмористическій журналъ «Осколки», 1885, № 26.
Господа обыватели. Пьеса въ двухъ дѣйствіяхъ.
Дѣйствіе первое.
Городская управа. Засѣданіе.
Городской голова (почавкавъ губами и медленно поковырявъ у себя въ ухѣ). Въ такомъ разѣ, не угодно ли вамъ будетъ, господа, выслушать мнѣніе брантмейстера Семена Вавилыча, который по этой части спеціалистъ? Пускай объяснитъ, а тамъ мы разсудимъ!
Брантмейстеръ. Я такъ понимаю… (сморкается въ клѣтчатый платокъ). Десять тысячъ, ассигнованныя на пожарную часть, можетъ-быть, и большія деньги, но… (вытираетъ лысину) это одна только видимость. Это не деньги, а мечта, атмосфера. Конечно, и за десять тысячъ можно имѣть пожарную команду, но какую? Одинъ смѣхъ только! Видите ли… Самое важное въ жизни человѣческой, — это каланча, и всякій ученый вамъ это скажетъ. Наша же городская каланча, разсуждая категорически, совсѣмъ не годится, потому что мала. Дома высокіе (поднимаетъ вверхъ руку), они кругомъ загораживаютъ каланчу, и не только что пожаръ, но дай Богъ хоть небо увидѣть. Я взыскиваю съ пожарныхъ, но развѣ они виноваты, что имъ не видно? Потомъ въ отношеніи лошадиномъ и въ разсужденіи бочекъ… (разстегиваетъ жилетку, вздыхаетъ и продолжаетъ рѣчь въ томъ же духѣ).
Гласные (единогласно). Прибавитъ сверхъ смѣты еще двѣ тысячи!
(Городской голова дѣлаетъ минутный перерывъ для вывода изъ залы засѣданія корреспондента).
Брантмейстеръ. Хорошо-съ. Теперь, стало-быть, вы разсуждаете, чтобы каланча была возвышена на два аршина… Хорошо. Но ежели взглянуть съ той точки и въ томъ смыслѣ, что тутъ заинтересованы общественные, такъ сказать, государственные интересы, то я долженъ замѣтить, господа гласные, что если за это дѣло возьмется подрядчикъ, то я долженъ вамъ имѣть въ виду, что это обойдется городу вдвое дороже, такъ какъ подрядчикъ будетъ соблюдать тутъ свой интересъ, а не общественный. Если же строить хозяйственнымъ способомъ, не спѣша, то ежели кирпичъ, положимъ, по пятнадцати рублей за тысячу и доставка на пожарныхъ лошадяхъ и ежели (поднимаетъ глаза къ потолку, какъ бы мысленно считая) и ежели пятьдесятъ двѣнадцатиаршинныхъ бревенъ въ пять вершковъ… (считаетъ).
Гласные (подавляющимъ большинствомъ голосовъ). Поручить ремонтъ каланчи Семену Вавилычу, для каковой цѣли ассигновать на первый разъ тысячу пятьсотъ двадцать три рубля сорокъ четыре копейки!
Брантмейстерша (сидитъ среди публики и шепчетъ сосѣдкѣ). Не знаю, зачѣмъ это мой Сеня беретъ на себя столько хлопотъ! Съ его ли здоровьемъ заниматься постройками? Тоже, это весело — цѣлый день рабочихъ по зубамъ бить! Наживетъ на ремонтѣ какой-нибудь пустякъ, рублей пятьсотъ, а здоровья себѣ испортитъ на тысячу. Губитъ его, дурака, доброта!
Брантмейстеръ. Хорошо-съ. Теперь будемъ говорить о служебномъ персоналѣ. Конечно, я, какъ лицо, можно сказать, заинтересованное (конфузится), могу только замѣтить, что мнѣ… мнѣ все равно… Я человѣкъ уже не молодой, больной, не сегодня-завтра могу умереть. Докторъ сказалъ, что у меня во внутренностяхъ затвердѣніе и что если я не буду оберегать своего здоровья, то внутри во мнѣ лопнетъ жила и я помру безъ покаянія…
Шопотъ въ публикѣ. Собакѣ собачья и смерть.
Брантмейстеръ. Но я о себѣ не хлопочу. Пожилъ я, и слава Богу. Ничего мнѣ не нужно… Только мнѣ удивительно и… и даже обидно… (машетъ безнадежно рукой). Служишь за одно только жалованье, честно, безпорочно… ни днемъ, ни ночью покою, не щадишь здоровья, и… и не знаешь, къ чему все это? Для чего хлопочу? Какой интересъ? Я не про себя разсуждаю, а вообще… Другой не станетъ жить при такомъ иждивеніи… Пьяница пойдетъ на эту должность, а человѣкъ дѣльный, солидный скорѣй съ голоду помретъ, чѣмъ за такое жалованье станетъ тутъ хлопотать съ лошадьми, да съ пожарными… (пожавъ плечами). Какой интересъ? Если бы увидѣли иностранцы, какіе у насъ порядки, то, я думаю, досталось бы намъ на орѣхи во всѣхъ заграничныхъ газетахъ. Въ Западной Европѣ, взять хоть, напримѣръ, Парижъ, на каждой улицѣ по каланчѣ, и брантмейстерамъ каждогодно выдаютъ пособіе въ размѣрѣ годового жалованья. Тамъ можно служить!
Гласные. Выдать Семену Вавилычу въ видѣ единовременнаго пособія за долголѣтнюю службу двѣсти рублей!
Брантмейстерша (шепчетъ сосѣдкѣ). Это хорошо, что онъ выпросилъ… Умникъ. Намедни мы были у отца протопопа, проиграли у него въ стуколку сто рублей и теперь, знаете ли, такъ жалко! (зѣваетъ). Ахъ, такъ жалко! Пора бы ужъ домой идти, чай пить.
Дѣйствіе второе.
Сцена у каланчи. Стража.
Часовой на каланчѣ (кричитъ внизъ). Эй! На лѣсопильномъ дворѣ горитъ! Бей тревогу!
Часовой внизу. А ты только сейчасъ увидѣлъ? Народъ ужъ полчаса какъ бѣжитъ, а ты, чудакъ, только сейчасъ спохватился? (глубокомысленно). Дурака хоть наверху поставь, хоть внизу — все равно (бьетъ тревогу).
(Черезъ три минуты въ окнѣ своей квартиры, находящейся противъ каланчи, показывается брантмейстеръ въ дезабилье и съ заспанными глазами).
Брантмейстеръ. Гдѣ горитъ, Денисъ?
Часовой внизу (вытягивается и дѣлаетъ подъ козырекъ). На лѣсопильномъ дворѣ, вашескородіе!
Брантмейстеръ (покачиваетъ головой). Упаси Богъ! Вѣтеръ дуетъ, сушь такая… (машетъ рукой). И не дай Богъ! Горе да и только съ этими несчастьями!… (погладивъ себя по лицу). Вотъ что, Денисъ… Скажи имъ, братецъ ты мой, чтобъ запрягали и ѣхали себѣ, а я сейчасъ… немного погодя пріѣду… Одѣться надо, то да се…
Часовой внизу. Да некому ѣхать, вашескородіе! Всѣ поуходили, одинъ Андрей дома.
Брантмейстеръ (испуганно). Гдѣ же они, мерзавцы?
Часовой внизу. Макаръ новыя подметки ставилъ, теперь сапоги понесъ въ слободку, къ дьякону. Михайлу, ваше высокородіе, вы сами изволили послать овесъ продавать… Егоръ на пожарныхъ лошадяхъ повезъ за рѣку надзирателеву свояченицу. Никита выпивши.
Брантмейстеръ. А Алексѣй?
Часовой внизу. Алексѣй пошелъ раковъ ловить, потому вы изволили ему давеча приказать, говорили, что завтра у васъ къ обѣду гости будутъ.
Брантмейстеръ (презрительно покачавъ головой). Изволь вотъ служить съ такимъ народомъ! Невѣжество, необразованность… пьянство… Если бы увидѣли иностранцы, то досталось бы намъ въ заграничныхъ журналахъ! Тамъ, взять хоть Парижъ, пожарная команда все время скачетъ по улицѣ, народъ давитъ; есть пожаръ, или нѣтъ, а ты скачи! Тутъ же горитъ лѣсопильный дворъ, опасность, а ихъ никого дома нѣтъ, словно… чортъ ихъ слопалъ! Нѣтъ, далеко намъ до Европы! (поворачивается лицомъ въ комнату, нѣжно). Машенька, приготовь мнѣ мундиръ!
Юмористическій журналъ «Осколки», 1884, № 45.
Отецъ семейства.
Это случается обыкновенно послѣ хорошаго проигрыша или послѣ попойки, когда разыгрывается катаръ. Степанъ Степанычъ Жилинъ просыпается въ необычайно пасмурномъ настроеніи. Видъ у него кислый, помятый, разлохмаченный; на сѣромъ лицѣ выраженіе недовольства: не то онъ обидѣлся, не то брезгаетъ чѣмъ-то. Онъ медленно одѣвается, медленно пьетъ свое виши и начинаетъ ходить по всѣмъ комнатамъ.
— Желалъ бы я знать, какая с-с-скотина ходитъ здѣсь и не затворяетъ дверей? — ворчитъ онъ сердито, запахиваясь въ халатъ и громко отплевываясь. — Убрать эту бумагу! Зачѣмъ она здѣсь валяется? Держимъ двадцать прислугъ, а порядка меньше, чѣмъ въ корчмѣ. Кто тамъ звонилъ? Кого принесло?
— Это бабушка Анфиса, что нашего Ѳедю принимала, — отвѣчаетъ жена.
— Шляются тутъ… дармоѣды!
— Тебя не поймешь, Степанъ Степанычъ. Самъ приглашалъ ее, а теперь бранишься.
— Я не бранюсь, а говорю. Занялась бы чѣмъ-нибудь, матушка, чѣмъ сидѣть этакъ, сложа руки, и на споръ лѣзть! Не понимаю этихъ женщинъ, клянусь честью! Не-по-ни-маю! Какъ онѣ могутъ проводить цѣлые дни безъ дѣла? Мужъ работаетъ, трудится, какъ волъ, какъ с-с-скотина, а жена, подруга жизни, сидитъ, какъ цацочка, ничего не дѣлаетъ и ждетъ только случая, какъ бы побраниться отъ скуки съ мужемъ. Пора, матушка, оставить эти институтскія привычки! Ты теперь уже не институтка, не барышня, а мать, жена! Отворачиваешься? Ага! Непріятно слушать горькія истины?
— Странно, что горькія истины ты говоришь, только когда у тебя печень болитъ.
— Да, начинай сцены, начинай…
— Ты вчера былъ за городомъ? Или игралъ у кого-нибудь?
— А хотя бы и такъ? Кому какое дѣло? Развѣ я обязанъ отдавать кому-нибудь отчетъ? Развѣ я проигрываю не свои деньги? То, что я самъ трачу, и то, что тратится въ этомъ домѣ, принадлежитъ мнѣ! Слышите ли? Мнѣ!
И такъ далѣе, все въ такомъ родѣ. Но ни въ какое другое время Степанъ Степанычъ не бываетъ такъ разсудителенъ, добродѣтеленъ, строгъ и справедливъ, какъ за обѣдомъ, когда около него сидятъ всѣ его домочадцы. Начинается обыкновенно съ супа. Проглотивъ первую ложку, Жилинъ вдругъ морщится и перестаетъ ѣсть.
— Чортъ знаетъ что… — бормочетъ онъ. — Придется, должно-быть, въ трактирѣ обѣдать.
— А что? — тревожится жена. — Развѣ супъ не хорошъ?
— Не знаю, какой нужно имѣть свинскій вкусъ, чтобы ѣсть эту бурду! Пересоленъ, тряпкой воняетъ… клопы какіе-то вмѣсто лука… Просто возмутительно, Анфиса Ивановна! — обращается онъ къ гостьѣ-бабушкѣ. — Каждый день даешь прорву денегъ на провизію… во всемъ себѣ отказываешь, и вотъ тебя чѣмъ кормятъ! Они, вѣроятно, хотятъ, чтобы я оставилъ службу и самъ пошелъ въ кухню стряпать.
— Супъ сегодня хорошъ… — робко замѣчаетъ гувернантка.
— Да? Вы находите? — говоритъ Жилинъ, сердито щурясь на нее. — Впрочемъ, у всякаго свой вкусъ. Вообще, надо сознаться, мы съ вами сильно расходимся во вкусахъ, Варвара Васильевна. Вамъ, напримѣръ, нравится поведеніе этого мальчишки (Жилинъ трагическимъ жестомъ указываетъ на своего сына Ѳедю), вы въ восторгѣ отъ него, а я… я возмущаюсь. Да-съ!
Ѳедя, семилѣтній мальчикъ съ блѣднымъ, болѣзненнымъ лицомъ, перестаетъ ѣсть и опускаетъ глаза. Лицо его еще больше блѣднѣетъ.
— Да-съ, вы въ восторгѣ, а я возмущаюсь… Кто изъ насъ правъ, не знаю, но смѣю думать, что я, какъ отецъ, лучше знаю своего сына, чѣмъ вы. Поглядите, какъ онъ сидитъ! Развѣ такъ сидятъ воспитанныя дѣти? Сядь хорошенько!
Ѳедя поднимаетъ вверхъ подбородокъ и вытягиваетъ шею, и ему кажется, что онъ сидитъ ровнѣе. На глазахъ у него навертываются слезы.
— Ѣшь! Держи ложку какъ слѣдуетъ! Погоди, доберусь я до тебя, скверный мальчишка! Не смѣть плакать! Гляди на меня прямо!
Ѳедя старается глядѣть прямо, но лицо его дрожитъ и глаза переполняются слезами.
— А-а-а… ты плакать? Ты виноватъ, ты же и плачешь? Пошелъ, стань въ уголъ, скотина!
— Но… пусть онъ сначала пообѣдаетъ! — вступается жена.
— Безъ обѣда! Такіе мерз… такіе шалуны не имѣютъ права обѣдать!
Ѳедя, кривя лицо и подергивая всѣмъ тѣломъ, сползаетъ со стула и идетъ въ уголъ.
— Не то еще тебѣ будетъ! — продолжаетъ родитель. — Если никто не желаетъ заняться твоимъ воспитаніемъ, то, такъ и быть, начну я… У меня, братъ, не будешь шалить да плакать за обѣдомъ! Болванъ! Дѣло нужно дѣлать! Понимаешь? Дѣло дѣлать! Отецъ твой работаетъ, и ты работай! Никто не долженъ даромъ ѣсть хлѣба! Нужно быть человѣкомъ! Че-ло-вѣ-комъ!
— Перестань, ради Бога! — проситъ жена по-французски. — Хоть при постороннихъ не ѣшь насъ… Старуха все слышитъ и теперь, благодаря ей, всему городу будетъ извѣстно…
— Я не боюсь постороннихъ, — отвѣчаетъ Жилинъ по-русски. — Анфиса Ивановна видитъ, что я справедливо говорю. Что жъ, по-твоему, я долженъ быть доволенъ этимъ мальчишкой? Ты знаешь, сколько онъ мнѣ стоитъ? Ты знаешь, мерзкій мальчишка, сколько ты мнѣ стоишь? Или ты думаешь, что я деньги фабрикую, что мнѣ достаются онѣ даромъ? Не ревѣть! Молчать! Да ты слышишь меня, или нѣтъ? Хочешь, чтобъ я тебя, подлеца этакаго, высѣкъ?
Ѳедя громко взвизгиваетъ и начинаетъ рыдать.
— Это, наконецъ, невыносимо! — говоритъ его мать, вставая изъ-за стола и бросая салфетку. — Никогда не дастъ покойно пообѣдать! Вотъ гдѣ у меня твой кусокъ сидитъ!
Она показываетъ на затылокъ и, приложивъ платокъ къ глазамъ, выходитъ изъ столовой.
— Онѣ обидѣлись… — ворчитъ Жилинъ, насильно улыбаясь. — Нѣжно воспитаны… Такъ-то, Анфиса Ивановна, не любятъ нынче слушать правду… Мы же и виноваты!
Проходитъ нѣсколько минутъ въ молчаніи. Жилинъ обводитъ глазами тарелки и, замѣтивъ, что къ супу еще никто не прикасался, глубоко вздыхаетъ и глядитъ въ упоръ на покраснѣвшее, полное тревоги, лицо гувернантки.
— Что же вы не ѣдите, Варвара Васильевна? — спрашиваетъ онъ. — Обидѣлись, стало-быть? Тэкъ-съ… Не нравится правда. Ну, извините-съ, такая у меня натура, не могу лицемѣрить… Всегда рѣжу правду-матку (вздохъ). Однако, я замѣчаю, что присутствіе мое непріятно. При мнѣ не могутъ ни говорить, ни кушать… Что жъ? Сказали бы мнѣ, я бы ушелъ… Я и уйду.
Жилинъ поднимается и съ достоинствомъ идетъ къ двери. Проходя мимо плачущаго Ѳеди, онъ останавливается.
— Послѣ всего, что здѣсь произошло, вы с-с-свободны! — говоритъ онъ Ѳедѣ, съ достоинствомъ закидывая назадъ голову. — Я больше въ ваше воспитаніе не вмѣшиваюсь. Умываю руки! Прошу извиненія, что искренно, какъ отецъ, желая вамъ добра, обезпокоилъ васъ и вашихъ руководительницъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, разъ навсегда слагаю съ себя отвѣтственность за вашу судьбу…
Ѳедя взвизгиваетъ и рыдаетъ еще громче. Жилинъ съ достоинствомъ поворачиваетъ къ двери и уходитъ къ себѣ въ спальную.
Выспавшись послѣ обѣда, Жилинъ начинаетъ чувствовать угрызенія совѣсти. Ему совѣстно жены, сына, Анфисы Ивановны и даже становится невыносимо жутко при воспоминаніи о томъ, что было за обѣдомъ, но самолюбіе слишкомъ велико, не хватаетъ мужества быть искреннимъ, и онъ продолжаетъ дуться и ворчать…
Проснувшись на другой день утромъ, онъ чувствуетъ себя въ отличномъ настроеніи и, умываясь, весело посвистываетъ. Придя въ столовую пить кофе, онъ застаетъ тамъ Ѳедю, который при видѣ отца поднимается и глядитъ на него растерянно.
— Ну, что, молодой человѣкъ? — спрашиваетъ весело Жилинъ, садясь за столъ. — Что у васъ новаго, молодой человѣкъ? Живешь? Ну, иди, бутузъ, поцѣлуй своего отца.
Ѳедя, блѣдный, съ серьезнымъ лицомъ, подходитъ къ отцу и касается дрожащими губами его щеки, потомъ отходитъ и молча садится на свое мѣсто.
Петербургская газета, 1885, № 233.
Неудача.
Илья Сергѣичъ Пепловъ и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, въ маленькой залѣ, происходило, повидимому, объясненіе въ любви; объяснялись ихъ дочь Наташенька и учитель уѣзднаго училища Щупкинъ.
— Клюетъ! — шепталъ Пепловъ, дрожа отъ нетерпѣнія и потирая руки. — Смотри же, Петровна, какъ только заговорятъ о чувствахъ, тотчасъ же снимай со стѣны образъ и идемъ благословлять… Накроемъ… Благословеніе образомъ свято и ненарушимо… Не отвертится тогда, пусть хоть въ судъ подаетъ.
А за дверью происходилъ такой разговоръ:
— Оставьте вашъ характеръ, — говорилъ Щупкинъ, зажигая спичку о свои клѣтчатыя брюки. — Вовсе я не писалъ вамъ писемъ!
— Ну, да! Будто я не знаю вашего почерка! — хохотала дѣвица, манерно взвизгивая и то и дѣло поглядывая на себя въ зеркало. — Я сразу узнала! И какіе вы странные! Учитель чистописанія, а почеркъ какъ у курицы! Какъ же вы учите писать, если сами плохо пишете?
— Гм!… Это ничего не значитъ-съ. Въ чистописаніи главное не почеркъ, главное, чтобъ ученики не забывались. Кого линейкой по головѣ ударишь, кого на колѣни… Да что почеркъ! Пустое дѣло! Некрасовъ писатель былъ, а совѣстно глядѣть, какъ онъ писалъ. Въ собраніи сочиненій показанъ его почеркъ.
— То Некрасовъ, а то вы… (вздохъ). Я за писателя съ удовольствіемъ бы пошла. Онъ постоянно бы мнѣ стихи на память писалъ!
— Стихи и я могу написать вамъ, ежели желаете.
— О чемъ же вы писать можете?
— О любви… о чувствахъ… о вашихъ глазахъ… Прочтете — очумѣете… Слеза прошибетъ! А ежели я напишу вамъ поэтическіе стихи, то дадите тогда ручку поцѣловать?
— Велика важность!… Да хоть сейчасъ цѣлуйте! Щупкинъ вскочилъ и, выпучивъ глаза, припалъ къ пухлой, пахнущей яичнымъ мыломъ ручкѣ.
— Снимай образъ, — заторопился Пепловъ, толкнувъ локтемъ свою жену, блѣднѣя отъ волненія и застегиваясь. — Идемъ! Ну!
И не медля ни секунды, Пепловъ распахнулъ дверь.
— Дѣти… — забормоталъ онъ, воздѣвая руки и слезливо мигая глазами. — Господь васъ благословитъ, дѣти мои… Живите… плодитесь… размножайтесь…
— И… и я благословляю… — проговорила мамаша, плача отъ счастья. — Будьте счастливы, дорогіе! О, вы отнимаете у меня единственное сокровище! — обратилась она къ Щупкину. — Любите же мою дочь, жалѣйте ее…
Щупкинъ разинулъ ротъ отъ изумленія и испуга. Приступъ родителей былъ такъ внезапенъ и смѣлъ, что онъ не могъ выговорить ни одного слова.
«Попался! Окрутили! — подумалъ онъ, млѣя отъ ужаса. — Крышка теперь тебѣ, братъ! Не выскочишь!»
И онъ покорно подставилъ свою голову, какъ бы желая сказать: «Берите, я побѣжденъ!»
— Бла… благословляю… — продолжалъ папаша и тоже заплакалъ. — Наташенька, дочь моя… становись рядомъ… Петровна, давай образъ…
Но тутъ родитель вдругъ пересталъ плакать, и лицо у него перекосило отъ гнѣва.
— Тумба! — сердито сказалъ онъ женѣ. — Голова твоя глупая! Да нешто это образъ?
— Ахъ, батюшки-свѣты!
Что случилось? Учитель чистописанія несмѣло поднялъ глаза и увидѣлъ, что онъ спасенъ: мамаша впопыхахъ сняла со стѣны, вмѣсто образа, портретъ писателя Лажечникова. Старикъ Пепловъ и его супруга Клеопатра Петровна, съ портретомъ въ рукахъ, стояли сконфуженные, не зная, что имъ дѣлать и что говорить. Учитель чистописанія воспользовался смятеніемъ и бѣжалъ.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1886, № 2.
Экзаменъ на чинъ.
— Учитель географіи Галкинъ на меня злобу имѣетъ и, вѣрьте-съ, я у него не выдержу сегодня экзамента, — говорилъ, нервно потирая руки и потѣя, пріемщикъ Х-го почтоваго отдѣленія Ефимъ Захарычъ Фендриковъ, сѣдой, бородатый человѣкъ съ почтенной лысиной и солиднымъ животомъ. — Не выдержу… Это какъ Богъ святъ… А злится онъ на меня совсѣмъ изъ-за пустяковъ-съ. Приходитъ ко мнѣ однажды съ заказнымъ письмомъ и сквозь всю публику лѣзетъ, чтобъ я, видите ли, принялъ сперва его письмо, а потомъ ужъ прочія. Это не годится… Хоть онъ и образованнаго класса, а все-таки соблюдай порядокъ и жди. Я ему сдѣлалъ приличное замѣчаніе. «Дожидайтесь, говорю, очереди, милостивый государь». Онъ вспыхнулъ, и съ той поры возстаетъ на меня, аки Саулъ. Сынишкѣ моему Егорушкѣ единицы выводитъ, а про меня разныя названія по городу распускаетъ. Иду я однажды-съ мимо трактира Кухтина, а онъ высунулся съ бильярднымъ кіемъ изъ окна и кричитъ въ пьяномъ видѣ на всю площадь: — «Господа, поглядите: марка, бывшая въ употребленіи, идетъ!»
Учитель русскаго языка Пивомедовъ, стоявшій въ передней Х-го уѣзднаго училища вмѣстѣ съ Фендриковымъ и снисходительно курившій его папиросу, пожалъ плечами и успокоилъ:
— Не волнуйтесь. У насъ и примѣра не было, чтобъ вашего брата на экзаменахъ рѣзали. Проформа!
Фендриковъ успокоился, но не надолго. Черезъ переднюю прошелъ Галкинъ, молодой человѣкъ съ жидкой, словно оборванной, бородкой, въ парусинковыхъ брюкахъ и новомъ синемъ фракѣ. Онъ строго посмотрѣлъ на Фендрикова и прошелъ дальше.
Затѣмъ разнесся слухъ, что инспекторъ ѣдетъ. Фендриковъ похолодѣлъ и сталъ ждать съ тѣмъ страхомъ, который такъ хорошо извѣстенъ всѣмъ подсудимымъ и экзаменующимся впервые. Черезъ переднюю пробѣжалъ на улицу штатный смотритель уѣзднаго училища Хамовъ. За нимъ спѣшилъ навстрѣчу къ инспектору законоучитель Зміежаловъ въ камилавкѣ и съ наперснымъ крестомъ. Туда же стремились и прочіе учителя. Инспекторъ народныхъ училищъ Ахаховъ громко поздоровался, выразилъ свое неудовольствіе на пыль и вошелъ въ училище. Черезъ пять минутъ приступили къ экзаменамъ.
Проэкзаменовали двухъ поповичей на сельскаго учителя. Одинъ выдержалъ, другой же не выдержалъ. Провалившійся высморкался въ красный платокъ, постоялъ немного, подумалъ и ушелъ. Проэкзаменовали двухъ вольноопредѣляющихся третьяго разряда. Послѣ этого пробилъ часъ Фендрикова…
— Вы гдѣ служите? — обратился къ нему инспекторъ.
— Пріемщикомъ въ здѣшнемъ почтовомъ отдѣленіи, ваше высокородіе, — проговорилъ онъ, выпрямляясь и стараясь скрыть отъ публики дрожаніе своихъ рукъ. — Прослужилъ двадцать одинъ годъ, ваше высокородіе, а нынѣ потребованы свѣдѣнія для представленія меня къ чину коллежскаго регистратора, для чего и осмѣливаюсь подвергнуться испытанію на первый классный чинъ.
— Такъ-съ… Напишите диктантъ.
Пивомедовъ поднялся, кашлянулъ и началъ диктовать густымъ, пронзительнымъ басомъ, стараясь уловить экзаменующагося на словахъ, которыя пишутся не такъ, какъ выговариваются: «хараша халодная вада, когда хочица пить» и проч.
Но какъ ни изощрялся хитроумный Пивомедовъ, диктантъ удался. Будущій коллежскій регистраторъ сдѣлалъ немного ошибокъ, хотя и напиралъ больше на красоту буквъ, чѣмъ на грамматику. Въ словѣ «чрезвычайно» онъ написалъ два «н», слово «лучше» написалъ «лутше», а словами «новое поприще» вызвалъ на лицѣ инспектора улыбку, такъ какъ написалъ «новое подприще»; но вѣдь все это не грубыя ошибки.
— Диктантъ удовлетворителенъ, — сказалъ инспекторъ.
— Осмѣлюсь довести до свѣдѣнія вашего высокородія, — сказалъ подбодренный Фендриковъ, искоса поглядывая на врага своего Галкина: — осмѣлюсь доложить, что геометрію я училъ изъ книги Давыдова, отчасти же обучался ей у племянника Варсонофія, пріѣзжавшаго на каникулахъ изъ Троице-Сергіевской, Виѳанской тожъ, семинаріи. И планиметрію училъ, и стереометрію… все какъ есть…
— Стереометріи по программѣ не полагается.
— Не полагается? А я мѣсяцъ надъ ней сидѣлъ… Этакая жалость! — вздохнулъ Фендриковъ.
— Но оставимъ пока геометрію. Обратимся къ наукѣ, которую вы, какъ чиновникъ почтоваго вѣдомства, вѣроятно, любите. Географія — наука почтальоновъ.
Всѣ учителя почтительно улыбнулись. Фендриковъ былъ не согласенъ съ тѣмъ, что географія есть наука почтальоновъ (объ этомъ нигдѣ не было написано: ни въ почтовыхъ правилахъ, ни въ приказахъ по округу), но изъ почтительности сказалъ: — «Точно такъ». Онъ нервно кашлянулъ и съ ужасомъ сталъ ждать вопросовъ. Его врагъ Галкинъ откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросилъ протяжно:
— Э… скажите мнѣ, какое правленіе въ Турціи?
— Извѣстно какое… турецкое…
— Гм!., турецкое… Это понятіе растяжимое. Тамъ правленіе конституціонное. А какіе вы знаете притоки Ганга?
— Я географію Смирнова училъ и, извините, не отчетливо выучилъ… Гангъ, это которая рѣка въ Индіи текетъ… рѣка эта текетъ въ океанъ.
— Я васъ не про это спрашиваю. Какіе притоки имѣетъ Гангъ? Не знаете? А гдѣ течетъ Араксъ? И этого не знаете? Странно… Какой губерніи Житомиръ?
— Трактъ 18, мѣсто 121.
На лбу у Фендрикова выступилъ холодный потъ. Онъ замигалъ глазами и сдѣлалъ такое глотательное движеніе, что показалось, будто онъ проглотилъ свой языкъ.
— Какъ передъ истиннымъ Богомъ, ваше высокородіе, — забормоталъ онъ. — Даже отецъ протоіерей могутъ подтвердить… Двадцать одинъ годъ прослужилъ и теперь это самое, которое… Вѣкъ буду Бога молить…
— Хорошо, оставимъ географію. Что вы изъ ариѳметики приготовили?
— И ариѳметику не отчетливо… Даже отецъ протоіерей могутъ подтвердитъ… Вѣкъ буду Бога молить… Съ самаго, Покрова учусь, учусь и… ничего толку… Постарѣлъ для умственности… Будьте столь милостивы, ваше высокородіе, заставьте вѣчно Бога молить.
На рѣсницахъ у Фендрикова повисли слезы.
— Прослужилъ честно и безпорочно… Говѣю ежегодно… Даже отецъ протоіерей могутъ подтвердить… Будьте великодушны, ваше высокородіе.
— Ничего не приготовили?
— Все приготовилъ-съ, но ничего не помню-съ… Скоро шестьдесятъ стукнетъ, ваше высокородіе, гдѣ ужъ тутъ за науками угоняться? Сдѣлайте милость!
— Ужъ и шапку съ кокардой себѣ заказалъ… — сказалъ протоіерей Зміежаловъ и усмѣхнулся.
— Хорошо, ступайте! — сказалъ инспекторъ.
Черезъ полчаса Фендриковъ шелъ съ учителями въ трактиръ Кухтина пить чай и торжествовалъ. Лицо у него сіяло, въ глазахъ свѣтилось счастье, но ежеминутное почесываніе затылка показывало, что его терзала какая-то мысль.
— Экая жалость! — бормоталъ онъ. — Вѣдь этакая, скажи на милость, глупость съ моей стороны!
— Да что такое? — спросилъ Пивомедовъ.
— Зачѣмъ я стереометрію училъ, ежели ея въ программѣ нѣтъ? Вѣдь цѣлый мѣсяцъ надъ ней, подлой, сидѣлъ. Этакая жалость!
Юмористическій журналъ «Осколки», 1884, № 28.
Счастливчикъ.
Со станціи «Бологое», Николаевской желѣзной дороги, трогается пассажирскій поѣздъ. Въ одномъ изъ вагоновъ второго класса «для курящихъ», окутанные вагонными сумерками, дремлютъ человѣкъ пять пассажировъ. Они только-что закусили и теперь, прикорнувъ къ спинкамъ дивановъ, стараются уснуть. Тишина.
Отворяется дверь, и въ вагонъ входитъ высокая, палкообразная фигура въ рыжей шляпѣ и въ щегольскомъ пальто, сильно напоминающая опереточныхъ и жюль-верновскихъ корреспондентовъ.
Фигура останавливается посреди вагона, сопитъ и долго щуритъ, глаза на диваны.
— Нѣтъ, и это не тотъ! — бормочетъ она. — Чортъ знаетъ, что такое! Это просто возмутительно! Нѣтъ, не тотъ!
Одинъ изъ пассажировъ всматривается въ фигуру и издаетъ радостный крикъ:
— Иванъ Алексѣевичъ! Какими судьбами? Это вы? Палкообразный Иванъ Алексѣевичъ вздрагиваетъ, тупо глядитъ на пассажира и, узнавъ его, весело всплескиваетъ руками.
— Га! Петръ Петровичъ! — говоритъ онъ. — Сколько зимъ, сколько лѣтъ! А я и не зналъ, что вы въ этомъ поѣздѣ ѣдете.
— Живы здоровы?
— Ничего себѣ, только вотъ, батенька, вагонъ свой потерялъ и никакъ теперь его не найду, этакая я идіотина! Пороть меня некому!
Палкообразный Иванъ Алексѣевичъ покачивается и хихикаетъ.
— Бываютъ же такіе случаи! — продолжаетъ онъ. — Вышелъ я послѣ второго звонка коньяку выпить. Выпилъ, конечно. Ну, думаю, такъ какъ станція слѣдующая еще далеко, то не выпить ли и другую рюмку. Пока я думалъ и пилъ, тутъ третій звонокъ… я, какъ сумасшедшій, бѣгу и вскакиваю въ первый попавшійся вагонъ. Ну, не идіотина ли я? Не курицынъ ли сынъ?
— А вы, замѣтно, въ веселомъ настроеніи, — говоритъ Петръ Петровичъ. — Подсаживайтесь-ка! Честь и мѣсто!
— Ни-ни… пойду свой вагонъ искать! Прощайте!
— Въ потемкахъ вы, чего добраго, съ площадки свалитесь. Садитесь, а когда подъѣдемъ къ станціи, вы и найдете свой вагонъ. Садитесь!
— Иванъ Алексѣевичъ вздыхаетъ и нерѣшительно садится противъ Петра Петровича. Онъ, видимо, возбужденъ и двигается, какъ на иголкахъ.
— Куда ѣдете? — спрашиваетъ Петръ Петровичъ.
— Я? Въ пространство. Такое у меня въ головѣ столпотвореніе, что я и самъ не разберу, куда я ѣду. Везетъ судьба, ну и ѣду. Ха-ха… Голубчикъ, видали ли вы когда-нибудь счастливыхъ дураковъ? Нѣтъ? Такъ вотъ глядите! Передъ вами счастливѣйшій изъ смертныхъ! Да-съ! Ничего по моему лицу не замѣтно?
— То-есть замѣтно, что… вы того… чуточку.
— Должно-быть, у меня теперь ужасно глупое лицо! Эхъ, жалко, зеркала нѣтъ, поглядѣлъ бы на свою мордолизацію! Чувствую, батенька, что идіотомъ становлюсь. Честное слово! Ха-ха… Я, можете себѣ представить, брачное путешествіе совершаю. Ну, не курицынъ ли сынъ?
— Вы? Развѣ вы женились?
— Сегодня, милѣйшій! Повѣнчался и прямо на поѣздъ.
Начинаются поздравленія и обычные вопросы.
— Ишь ты… — смѣется Петръ Петровичъ. — То-то вы франтомъ такимъ разрядились.
— Да-съ… Для полной иллюзіи даже духами попрыскался. По уши ушелъ въ суету! Ни заботъ, ни мыслей, а одно только ощущеніе чего-то этакого… чортъ его знаетъ, какъ его и назвать… благодушія, что ли? Отродясь еще такъ себя великолѣпно не чувствовалъ!
Иванъ Алексѣевичъ закрываетъ глаза и крутитъ головой.
— Возмутительно счастливъ! — говоритъ онъ. — Да вы сами посудите. Пойду я сейчасъ въ свой вагонъ. Тамъ, на диванчикѣ, около окошка сидитъ существо, которое, такъ сказать, всѣмъ своимъ существомъ предано вамъ. Этакая блондиночка съ носикомъ… съ пальчиками… Душечка моя! Ангелъ ты мой! Пупырчикъ ты этакій! Филоксера души моей! А ножка! Господи! Ножка вѣдь не то, что вотъ наши ножищи, а что-то этакое миніатюрное, волшебное… аллегорическое! Взялъ бы, да такъ и съѣлъ эту ножку! Э, да вы ничего не понимаете! Вѣдь вы матеріалистъ, сейчасъ у васъ анализъ, то да сё! Сухіе холостяки, и больше ничего! Вотъ когда женитесь, то вспомните! Гдѣ-то теперь, скажете, Иванъ Алексѣевичъ? Да-съ, такъ вотъ пойду я сейчасъ въ свой вагонъ. Тамъ ужъ меня съ нетерпѣніемъ ждутъ… предвкушаютъ мое появленіе. Навстрѣчу мнѣ улыбка. Я подсаживаюсь и этакъ двумя пальчиками за подбородочекъ…
Иванъ Алексѣевичъ крутитъ головой и закатывается счастливымъ смѣхомъ.
— Потомъ кладешь свою башку ей на плечико и обхватываешь рукой талію. Кругомъ, знаете ли, тишина… поэтическій полумракъ. Весь бы міръ обнялъ въ эти минуты. Петръ Петровичъ, позвольте мнѣ васъ обнять!
— Сдѣлайте одолженіе.
Пріятели при дружномъ смѣхѣ пассажировъ обнимаются, и счастливый новобрачный продолжаетъ:
— А для большаго идіотства или, какъ тамъ въ романахъ говорятъ, для бо́льшей иллюзіи, пойдешь къ буфету и опрокидонтомъ рюмочки двѣ-три. Тутъ ужъ въ головѣ и въ груди происходитъ что-то, чего и въ сказкахъ не вычитаешь. Человѣкъ я маленькій, ничтожный, а кажется мнѣ, что и границъ у меня нѣтъ… Весь свѣтъ собой обхватываю!
Пассажиры, глядя на пьяненькаго, счастливаго новобрачнаго, заражаются его весельемъ и ужъ не чувствуютъ дремоты. Вмѣсто одного слушателя, около Ивана Алексѣевича скоро появляется ужъ пять. Онъ вертится, какъ на иголкахъ, брызжетъ, машетъ руками и болтаетъ безъ умолку. Онъ хохочетъ и всѣ хохочутъ.
— Главное, господа, поменьше думать! Къ чорту всѣ эти анализы… Хочется выпить, ну и пей, а нечего тамъ философствовать, вредно это или полезно… Всѣ эти философіи и психологіи къ чорту!
Черезъ вагонъ проходитъ кондукторъ.
— Милый человѣкъ, — обращается къ нему новобрачный, — какъ будете проходить черезъ вагонъ № 209, то найдите тамъ даму въ сѣрой шляпкѣ съ бѣлой птицей и скажите ей, что я здѣсь!
— Слушаю. Только въ этомъ поѣздѣ нѣтъ № 209. Есть 219!
— Ну, 219! Все равно! Такъ и скажите этой дамѣ: мужъ цѣлъ и невредимъ!
Иванъ Алексѣевичъ хватаетъ вдругъ себя за голову и стонетъ:
— Мужъ… Дама… Давно ли это? Мужъ… Ха-ха… Пороть тебя нужно, а ты мужъ! Ахъ, идіотина! Но она! Вчера еще была дѣвочкой… козявочкой… Просто не вѣрится!
— Въ наше время даже какъ-то странно видѣть счастливаго человѣка, — говоритъ одинъ изъ пассажировъ. — Скорѣй бѣлаго слона увидишь.
— Да, а кто виноватъ? — говоритъ Иванъ Алексѣевичъ, протягивая свои длинныя ноги съ очень острыми носками. — Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты! Да-съ, а вы какъ думали? Человѣкъ есть самъ творецъ своего собственнаго счастія. Захотите, и вы будете счастливы, но вы вѣдь не хотите. Вы упрямо уклоняетесь отъ счастья!
— Вотъ-те на! Какимъ образомъ?
— Очень просто!… Природа постановила, чтобы человѣкъ въ извѣстный періодъ своей жизни любилъ. Насталъ этотъ періодъ, ну и люби во всѣ лопатки, а вы вѣдь не слушаетесь природы, все чего-то ждете. Далѣе… Въ законѣ сказано, что нормальный индивидуй долженъ вступить въ бракъ… Безъ брака счастья нѣтъ. Приспѣло время благопріятное, ну и женись, нечего канителить… Но вѣдь вы не женитесь, все чего-то ждете! Засимъ въ Писаніи сказано, что вино веселитъ сердце человѣческое… Если тебѣ хорошо и хочется, чтобы еще лучше было, то, стало-быть, иди въ буфетъ и выпей. Главное — не мудрствовать, а жарить по шаблону! Шаблонъ великое дѣло!
— Вы говорите, что человѣкъ творецъ своего счастія. Какой къ чорту онъ творецъ, если достаточно больного зуба или злой тещи, чтобъ счастье его полетѣло вверхъ тормашкой? Все зависитъ отъ случая. Случись сейчасъ съ нами кукуевская катастрофа, вы другое бы запѣли…
— Чепуха! — протестуетъ новобрачный. — Катастрофы бываютъ только разъ въ годъ. Никакихъ случаевъ я не боюсь, потому что нѣтъ предлога случаться этимъ случаямъ. Рѣдки случаи! Ну ихъ къ чорту! И говорить даже о нихъ не хочу! Ну, мы, кажется, къ полустанку подъѣзжаемъ.
— Вы теперь куда ѣдете? — спрашиваетъ Петръ Петровичъ. — Въ Москву, или куда-нибудь южнѣе?
— Здравствуйте! Какъ же это я, ѣдучи на сѣверъ, попаду куда-нибудь южнѣе?
— Но вѣдь Москва не на сѣверѣ.
— Знаю, но вѣдь мы сейчасъ ѣдемъ въ Петербургъ! — говоритъ Иванъ Алексѣевичъ.
— Въ Москву мы ѣдемъ, помилосердствуйте!
— То-есть, какъ же въ Москву? — изумляется новобрачный.
— Странно… Вы куда билетъ взяли?
— Въ Петербургъ.
— Въ такомъ случаѣ поздравляю. Вы не на тотъ поѣздъ попали.
Проходитъ полминуты молчанія. Новобрачный поднимается и тупо обводитъ глазами компанію.
— Да, да, — поясняетъ Петръ Петровичъ. — Въ «Бологомъ» вы не въ тотъ поѣздъ вскочили… Васъ, значитъ, угораздило послѣ коньяку во встрѣчный поѣздъ попасть.
Иванъ Алексѣевичъ блѣднѣетъ, хватаетъ себя за голову и начинаетъ быстро шагать по вагону.
— Ахъ, я идіотина! — негодуетъ онъ. — Ахъ, я подлецъ, чтобы меня черти съѣли! Ну, что я теперь буду дѣлать? Вѣдь въ томъ поѣздѣ жена! Она тамъ одна, ждетъ, томится! Ахъ, я шутъ гороховый!
Новобрачный падаетъ на диванъ и ежится, точно ему наступили на мозоль.
— Несчастный я человѣкъ! — стонетъ онъ. — Что же я буду дѣлать? Что?
— Ну, ну… — утѣшаютъ его пассажиры. — Пустяки… Вы телеграфируйте вашей женѣ, а сами постарайтесь сѣсть по пути въ курьерскій поѣздъ. Такимъ образомъ вы ее догоните.
— Курьерскій поѣздъ! — плачетъ новобрачный, «творецъ своего счастья». — А гдѣ я денегъ возьму на курьерскій поѣздъ? Всѣ мои деньги у жены!
Пошептавшись, смѣющіеся пассажиры дѣлаютъ складчину и снабжаютъ счастливца деньгами.
Петербургская газета, 1886, № 121.
Средство отъ запоя.
Въ городъ Д., въ отдѣльномъ купе перваго класса, прибылъ на гастроли извѣстный чтецъ и комикъ г. Фениксовъ-Дикобразовъ 2-й. Всѣ, встрѣчавшіе его на вокзалѣ, знали, что билетъ перваго класса былъ купленъ «для форса» лишь на предпослѣдней станціи, а до тѣхъ поръ знаменитость ѣхала въ третьемъ; всѣ видѣли, что, несмотря на холодное, осеннее время, на знаменитости были только лѣтняя крылатка да ветхая котиковая шапочка, но тѣмъ не менѣе, когда изъ вагона показалась сизая, заспанная физіономія Дикобразова 2-го, всѣ почувствовали нѣкоторый трепетъ и жажду познакомиться. Антрепренеръ Почечуевъ, по русскому обычаю, троекратно облобызалъ пріѣзжаго и повезъ его къ себѣ на квартиру.
Знаменитость должна была начатъ играть дня черезъ два послѣ пріѣзда, но судьба рѣшила иначе; за день до спектакля въ кассу театра вбѣжалъ блѣдный, взъерошенный антрепренеръ и сообщилъ, что Дикобразовъ 2-й играть не можетъ.
— Не можетъ! — объявилъ Почечуевъ, хватая себя за волосы. — Какъ вамъ это покажется? Мѣсяцъ, цѣлый мѣсяцъ печатали аршинными буквами, что у насъ будетъ Дикобразовъ, хвастали, ломались, забрали абонементныя деньги, и вдругъ этакая подлость! А? Да за это повѣсить мало!
— Но въ чемъ дѣло? Что случилось?
— Запилъ проклятый!
— Экая важность! Проспится.
— Скорѣй издохнетъ, чѣмъ проспится! Я его еще съ Москвы знаю: какъ начнетъ водку лопать, такъ потомъ мѣсяца два безъ просыпа. Запой! Это запой! Нѣтъ, счастье мое такое! И за что я такой несчастный! И въ кого я, окаянный, такимъ несчастнымъ уродился! За что… за что надъ моей головой всю жизнь виситъ проклятіе неба? (Почечуевъ трагикъ и по профессіи, и по натурѣ: сильныя выраженія, сопровождаемыя біеніемъ по груди кулаками, ему очень къ лицу). И какъ я гнусенъ, подлъ и презрѣненъ, рабски подставляя голову подъ удары судьбы! Не достойнѣе ли разъ навсегда покончить съ постыдной ролью Макара, на котораго всѣ шишки валятся, и пустить себѣ пулю въ лобъ? Чего же жду я? Боже, чего я жду?
Почечуевъ закрылъ ладонями лицо и отвернулся къ окну. Въ кассѣ, кромѣ кассира, присутствовало много актеровъ и театраловъ, а потому дѣло не стало за совѣтами, утѣшеніями и обнадеживаніями; но все это имѣло характеръ философскій или пророческій; дальше «суеты суетъ», «наплюйте» и «авось» никто не пошелъ. Одинъ только кассиръ, толстенькій, водяночный человѣкъ, отнесся къ дѣлу посущественнѣй.
— А вы, Проклъ Львовичъ, — сказалъ онъ: — попробуйте полѣчить его.
— Запой никакимъ чортомъ не вылѣчишь!
— Не говорите-съ. Нашъ парикмахеръ превосходно отъ запоя лѣчитъ. У него весь городъ лѣчится.
Почечуевъ обрадовался возможности ухватиться хоть за соломенку, и черезъ какія-нибудь пять минутъ передъ нимъ уже стоялъ театральный парикмахеръ Ѳедоръ Гребешковъ. Представьте вы себѣ высокую, костистую фигуру со впалыми глазами, длинной, жидкой бородой и коричневыми руками, прибавьте къ этому поразительное сходство со скелетомъ, котораго заставили двигаться на винтахъ и пружинахъ, одѣньте фигуру въ донельзя поношенную черную пару, и у васъ получится портретъ Гребешкова.
— Здорово, Ѳедя! — обратился къ нему Почечуевъ. — Я слышалъ, дружокъ, что ты того… лѣчишь отъ запоя. Сдѣлай милость, не въ службу, а въ дружбу, полѣчи ты Дикобразова! Вѣдь, знаешь, запилъ!
— Богъ съ нимъ, — пробасилъ уныло Гребешковъ. — Актеровъ, которые попроще, купцовъ и чиновниковъ я, дѣйствительно, пользую, а тутъ вѣдь знаменитость, на всю Россію!
— Ну, такъ что жъ?
— Чтобъ запой изъ него выгнать, надо во всѣхъ органахъ и суставахъ тѣла переворотъ произвесть. Я произведу въ немъ переворотъ, а онъ выздоровѣетъ и въ амбицію… «Какъ ты смѣлъ, скажетъ, собака, до моего лица касаться?» Знаемъ мы этихъ знаменитыхъ!
— Ни-ни… не отвиливай, братецъ! Назвался груздемъ — полѣзай въ кузовъ! Надѣвай шапку, пойдемъ!
Когда черезъ четверть часа Гребешковъ входилъ въ комнату Дикобразова, знаменитость лежала у себя на кровати и со злобой глядѣла на висячую лампу. Лампа висѣла спокойно, но Дикобразовъ 2-й не отрывалъ отъ нея глазъ и бормоталъ:
— Ты у меня повертишься! Я тебѣ, анаѳема, покажу, какъ вертѣться! Разбилъ графинъ, и тебя разобью, вотъ увидишь! А-а-а… и потолокъ вертится… Понимаю: заговоръ! Но лампа, лампа! Меньше всѣхъ, подлая, но больше всѣхъ вертится! Постой же…
Комикъ поднялся и, потянувъ за собой простыню, сваливая со столика стаканы и покачиваясь, направился къ лампѣ, но на полпути наткнулся на что-то высокое, костистое…
— Что такое!? — заревѣлъ онъ, поводя блуждающими глазами. — Кто ты? Откуда ты? А?
— А вотъ я тебѣ покажу, кто я… Пошелъ на кровать! И не дожидаясь, когда комикъ пойдетъ къ кровати, Гребешковъ размахнулся и трахнулъ его кулакомъ по затылку съ такою силой, что тотъ кубаремъ полетѣлъ на постель. Комика, вѣроятно, раньше никогда не били, потому что онъ, несмотря на сильную хмель, поглядѣлъ на Гребешкова съ удивленіемъ и даже съ любопытствомъ.
— Ты… ты ударилъ? По… постой, ты ударилъ?
— Ударилъ. Нешто еще хочешь?
И парикмахеръ ударилъ Дикобразова еще разъ по зубамъ. Не знаю, что тутъ подѣйствовало, сильные ли удары, или новизна ощущенія, но только глаза комика перестали блуждать, и въ нихъ замелькало что-то разумное. Онъ вскочилъ, и не столько со злобой, сколько съ любопытствомъ сталъ разсматривать блѣдное лицо и грязный сюртукъ Гребешкова.
— Ты… ты дерешься? — забормоталъ онъ. — Ты… ты смѣешь?
— Молчать!
И опять ударъ по лицу. Ошалѣвшій комикъ сталъ-было защищаться, но одна рука Гребешкова сдавила ему грудь, другая заходила по физіономіи.
— Легче! Легче! — послышался изъ другой комнаты голосъ Почечуева. — Легче, Ѳеденька!
— Ничего-съ, Проклъ Львовичъ! Сами же потомъ благодарить станутъ!
— Все-таки ты полегче! — проговорилъ плачущимъ голосомъ Почечуевъ, заглядывая въ комнату комика. — Тебѣ-то ничего, а меня морозъ по кожѣ деретъ. Ты подумай; среди бѣла дня бьютъ человѣка правоспособнаго, интеллигентнаго, извѣстнаго, да еще на собственной квартирѣ… Ахъ!
— Я Проклъ Львовичъ, бью не ихъ, а бѣса, что въ нихъ сидитъ. Уходите, сдѣлайте милость, и не безпокойтесь. Лежи, дьяволъ! — набросился Ѳедоръ на комика. — Не двигайся! Что-о-о?
Дикобразовымъ овладѣлъ ужасъ. Ему стало казаться, что все то, что раньше кружилось и было имъ разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетѣло на его голову.
— Караулъ! — закричалъ онъ. — Спасите! Караулъ!
— Кричи, кричи, лѣшій! Это еще цвѣтки, а вотъ погоди, ягодки будутъ! Теперь слушай: ежели ты скажешь еще хоть одно слово или пошевельнешься, убью! Убью и не пожалѣю! Заступиться, братъ, некому! Не придетъ никто, хоть изъ пушки пали. А ежели смиришься и замолчишь, водочки дамъ. Вотъ она, водка-то!
Гребешковъ вытащилъ изъ кармана полуштофъ водки и блеснулъ имъ передъ глазами комика. Пьяный, при видѣ предмета своей страсти, забылъ про побои и даже заржалъ отъ удовольствія. Гребешковъ вынулъ изъ жилетнаго кармана кусочекъ грязнаго мыла и сунулъ его въ полуштофъ. Когда водка вспѣнилась и замутилась, онъ принялся всыпать въ нее всякую дрянь. Въ полуштофъ посыпались селитра, нашатырь, квасцы, глауберова соль, сѣра, канифоль и другія «спеціи», продаваемыя въ москательныхъ лавочкахъ. Комикъ пялилъ глаза на Гребешкова и страстно слѣдилъ за движеніями полуштофа. Въ заключеніе парикмахеръ сжегъ кусокъ тряпки, высыпалъ пепелъ въ водку, поболталъ и подошелъ къ кровати.
— Пей! — сказалъ онъ, наливая полъ-чайнаго стакана. — Разомъ!
Комикъ съ наслажденіемъ выпилъ, крякнулъ, но тотчасъ же вытаращилъ глаза. Лицо у него вдругъ поблѣднѣло, на лбу выступилъ потъ.
— Еще пей! — предложилъ Гребешковъ.
— Не… не хочу! По… постой…
— Пей, чтобъ тебя!… Пей! Убью!
Дикобразовъ выпилъ и, застонавъ, повалился на подушку. Черезъ минуту онъ приподнялся, и Ѳедоръ могъ убѣдиться, что его спеція дѣйствуетъ.
— Пей еще! Пущай у тебя всѣ внутренности выворотитъ, это хорошо. Пей!
И для комика наступило время мученій. Внутренности его буквально переворачивало. Онъ вскакивалъ, метался на постели и съ ужасомъ слѣдилъ за медленными движеніями своего безпощаднаго и неугомоннаго врага, который не отставалъ отъ него ни на минуту и неутомимо колотилъ его, когда онъ отказывался отъ спеціи. Побои смѣнялись спеціей, спеція побоями. Никогда въ другое время бѣдное тѣло Фениксова-Дикобразова 2-го не переживало такихъ оскорбленій и униженій, и никогда знаменитость не была такъ слаба и беззащитна, какъ теперь. Сначала комикъ кричалъ и бранился, потомъ сталъ умолять, наконецъ, убѣдившись, что протесты ведутъ къ побоямъ, сталъ плакать. Почечуевъ, стоявшій за дверью и подслушивавшій, въ концѣ концовъ не выдержалъ и вбѣжалъ въ комнату комика.
— А ну тебя къ чорту! — сказалъ онъ, махая руками. — Пусть лучше пропадаютъ абонементныя деньги, пусть онъ водку пьетъ, только не мучь ты его, сдѣлай милость! Околѣетъ вѣдь, ну тебя къ чорту! Погляди: совсѣмъ вѣдь околѣлъ! Зналъ бы, ей-Богу не связывался…
— Ничего-съ… Сами еще благодарить будутъ, увидите-съ… Ну, ты что еще тамъ? — повернулся Гребешковъ къ комику. — Влетитъ!
До самаго вечера провозился онъ съ комикомъ. И самъ умаялся, и его заѣздилъ. Кончилось тѣмъ, что комикъ страшно ослабѣлъ, потерялъ способность даже стонать и окаменѣлъ съ выраженіемъ ужаса на лицѣ. За окаменѣніемъ наступило что-то похожее на сонъ.
На другой день комикъ, къ великому удивленію Почечуева, проснулся, — стало-быть не умеръ. Проснувшись, онъ тупо оглядѣлся, обвелъ комнату блуждающимъ взоромъ и сталъ припоминать.
— Отчего это у меня все болитъ? — недоумѣвалъ онъ. — Точно по мнѣ поѣздъ прошелъ. Нешто водки выпить? Эй, кто тамъ? Водки!
Въ это время за дверью стояли Почечуевъ и Гребешковъ.
— Водки проситъ, стало-быть, не выздоровѣлъ! — ужаснулся Почечуевъ.
— Что вы, батюшка, Проклъ Львовичъ! — удивился парикмахеръ. — Да нешто въ одинъ день вылѣчишь? Дай Богъ, чтобы въ недѣлю поправился, а не то что въ день. Иного слабенькаго и въ пять дней вылѣчишь, а это вѣдь по комплекціи тотъ же купецъ. Не скоро его проймешь.
— Что же ты мнѣ раньше не сказалъ этого, анаѳема? — застоналъ Почечуевъ. — И въ кого я несчастнымъ такимъ уродился! И чего я, окаянный, жду еще отъ судьбы? Не разумнѣе ли кончить разомъ, всадить себѣ пулю въ лобъ, и т. д.
Какъ ни мрачно глядѣлъ на свою судьбу Почечуевъ, однако черезъ недѣлю Дикобразовъ 2-й уже игралъ, и абонементныхъ денегъ не пришлось возвращать. Гримировалъ комика Гребешковъ, причемъ такъ почтительно касался къ его головѣ, что вы не узнали бы въ немъ прежняго заушателя.
— Живучъ человѣкъ! — удивлялся Почечуевъ. — Я чуть не померъ, на его муки глядючи, а онъ какъ ни въ чемъ не бывало, даже еще благодаритъ этого чорта Ѳедьку, въ Москву съ собой хочетъ взять! Чудеса, да и только!
Юмористическій журналъ «Осколки», 1885, № 43.
Житейскія невзгоды.
Левъ Ивановичъ Поповъ, человѣкъ нервный, несчастный на службѣ и въ семейной жизни, потянулъ къ себѣ счеты и сталъ считать снова. Мѣсяцъ тому назадъ онъ пріобрѣлъ въ банкирской конторѣ Кошкера выигрышный билетъ 1-го займа на условіяхъ погашенія ссуды частями, въ видѣ ежемѣсячныхъ взносовъ, и теперь высчитывалъ, сколько ему придется заплатить за все время погашенія и когда билетъ станетъ его полною собственностью.
— Билетъ стоитъ по курсу 246 рублей, — считалъ онъ. — Далъ я задатку 10 руб., значитъ, осталось 236. Хорошо-съ… Къ этой суммѣ нужно прибавить проценты за 1 мѣсяцъ въ размѣрѣ 7% годовыхъ и ¼% комиссіонныхъ, гербовый сборъ, почтовые расходы за пересылку залоговой квитанціи 21 коп., страхованіе билета 1 руб. 10 коп., за транзитъ 1 руб. 22 коп., за элеваторъ 74 коп., пени 18 коп…
За перегородкой на кровати лежала жена Попова, Софья Саввишна, пріѣхавшая къ мужу изъ Мценска просить отдѣльнаго вида на жительство. Въ дорогѣ она простудилась, схватила флюсъ и теперь невыносимо страдала. Наверху за потолкомъ какой-то энергическій мужчина, вѣроятно ученикъ консерваторіи, разучивалъ на рояли рапсодію Листа съ такимъ усердіемъ, что, казалось, по крышѣ дома ѣхалъ товарный поѣздъ. Направо, въ сосѣднемъ номерѣ, студентъ-медикъ готовился къ экзамену. Онъ шагалъ изъ угла въ уголъ и зубрилъ густымъ семинарскимъ басомъ:
— Хроническій катарръ желудка наблюдается также у привычныхъ пьяницъ, обжоръ, вообще у людей, ведущихъ неумѣренный образъ жизни…
Въ номерѣ стоялъ удушливый запахъ гвоздики, креозота, іода, карболки и другихъ вонючихъ веществъ, которыя Софья Саввишна употребляла противъ своей зубной боли.
— Хорошо-съ, — продолжалъ считать Поповъ. — Къ 236 прибавить 14 руб. 81 коп., итого къ этому мѣсяцу остается 250 руб; 81 коп. Теперь, если я въ мартѣ уплачу 5 руб., то, значить, останется 240 руб. 81 коп. Хорошо-съ. Теперь, считая за 1 мѣсяцъ впередъ 7% годовыхъ и ¼% комиссіонныхъ…
— А-ахъ! — застонала жена. — Да помоги же мнѣ, Левъ Иванычъ! Умира-аю!
— Что же я, матушка, сдѣлаю? Я не докторъ… ¼% комиссіонныхъ, 1/5% куртажа, на каботажъ 1 р. 22 коп., за транзитъ 74 коп…
— Безчувственный! — заплакала Софья Саввишна, высовывая свою опухшую физіономію изъ-за ширмы. — Ты никогда мнѣ не сочувствовалъ, мучитель! Слушай, когда я тебѣ говорю! Невѣжа!
— Стало-быть, ¼% комиссіонныхъ… за транзитъ 74 коп., за элеваторъ 18 коп., за упаковку 32 коп. — итого 17 руб. 12 коп.
— Хрроническій катарръ желудка, — зубрилъ студентъ, шагая изъ угла въ уголъ: — наблюдается также у привычныхъ пьяницъ, обжоръ…
Поповъ встряхнулъ счеты, мотнулъ угорѣвшей головой и сталъ считать снова. Черезъ часъ онъ сидѣлъ все на томъ же мѣстѣ, таращилъ глаза въ залоговую квитанцію и бормоталъ:
— Значитъ, въ апрѣлѣ 1896 года останется 228 руб. 67 коп. Хорошо-съ… Въ сентябрѣ я взношу 5 руб., останется 223 руб. 67 коп. Ну-съ, прибавляя за 1 мѣсяцъ впередъ 7% годовыхъ, ¼% комиссіонныхъ…
— Варваръ, подай нашатырный спиртъ! — взвизгнула Софья Саввишна. — Тиранъ! Убійца!
— Хрроническій катарръ желудка наблюдается также при стррраданіяхъ печени…
Поповъ подалъ женѣ спиртъ и продолжалъ:
— ¼% комиссіонныхъ, за транзитъ 74 коп., издержки по аберраціи 18 коп., пени 32 коп…
Наверху музыка было утихла, но черезъ минуту піанистъ заигралъ снова и съ такимъ ожесточеніемъ, что въ матрасѣ подъ Софьей Саввишной задвигалась пружина. Поповъ ошалѣло поглядѣлъ на потолокъ и началъ считать опять съ августа 1896 года. Онъ глядѣлъ на бумаги съ цифрами, на счеты, и видѣлъ что-то въ родѣ морской зыби; въ глазахъ его рябило, мозги путались, во рту пересохло и на лбу выступилъ холодный потъ, но онъ рѣшилъ не вставать, пока окончательно не уразумѣетъ своихъ денежныхъ отношеній къ банкирской конторѣ Кошкера.
— А-ахъ! — мучилась Софья Саввишна. — Всю правую сторону рветъ. Владычица! О-охъ, моченьки моей нѣтъ! А ему, аспиду, хоть трава не расти! Хотъ умри я, ему все равно! Несчастная я, страдалица! Вышла за идола, мученица!
— Но что же я могу сдѣлать? Значитъ, въ февралѣ 1903 года я буду долженъ 208 руб. 7 коп. Хорошо-съ. Теперь, прибавляя 7% годовыхъ, и ¼% комиссіонныхъ, куртажа 74 коп…
— Хррроническій катарръ желудка наблюдается и при страданіяхъ легкихъ…
— Не мужъ ты, не отецъ своихъ дѣтей, а тиранъ и мучитель! Подай скорѣй хоть гвоздичку, безчувственный!
— Тьфу! ¼% комиссіонныхъ… т. е., что же я? За вычетомъ прибыли отъ купоновъ, съ прибавленіемъ 7% годовыхъ за мѣсяцъ впередъ, ¼% комиссіонныхъ…
— Хррроническій катарръ желудка наблюдается и при страданіяхъ легкихъ…
Часа три спустя, Поповъ подвелъ послѣдній итогъ. Оказалось, что за все время погашенія придется заплатить банкирской конторѣ Кошкера 1.347.821 руб. 92 коп. и что если вычесть отсюда выигрышъ въ двѣсти тысячъ, то все же останется убытку больше милліона. Увидѣвъ такія цифры, Левъ Ивановичъ медленно поднялся, похолодѣлъ… На лицѣ у него выступило выраженіе ужаса, недоумѣнія и оторопи, какъ будто у него выстрѣлили подъ самымъ ухомъ. Въ это время наверху за потолкомъ къ піанисту подсѣлъ товарищъ, и четыре руки, дружно ударивъ по клавишамъ, стали нажаривать рапсодію Листа. Студентъ-медикъ быстрѣе зашагалъ, прокашлялся и загудѣлъ:
— Хррроническій катарръ желудка наблюдается также у привычныхъ пьяницъ, обжоррръ…
Софья Саввишна взвизгнула, швырнула подушку, застучала ногами… Боль ея, повидимому, только-что начинала разыгрываться…
Поповъ вытеръ холодный потъ, опять сѣлъ за столъ и, встряхнувъ счеты, сказалъ:
— Надо провѣрить… Очень возможно, что я немножко ошибся…
И онъ принялся опять за квитанцію и началъ снова считать:
— Билетъ стоитъ по курсу 246 руб… Далъ я задатку 10 руб., значитъ, осталось 236…
А въ ушахъ у него стучало:
— Дыр… дыр… дыр…
И уже слышались выстрѣлы, свистъ, хлопанье бичей, ревъ львовъ и леопардовъ.
— Осталось 236! — кричалъ онъ, стараясь перекричать этотъ шумъ. — Въ іюнѣ я взношу 5 рублей! Чортъ возьми, 5 рублей! Чортъ васъ дери, въ ротъ вамъ дышло, 5 рублей! Vive la France! Да здравствуетъ Деруледъ!
На утро его свезли въ больницу.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1887, № 13.
Дорогая собака.
Поручикъ Дубовъ, уже не молодой армейскій служака, и вольноопредѣляющійся Кнапсъ сидѣли и выпивали.
— Великолѣпный песъ! — говорилъ Дубовъ, показывая Кнапсу свою собаку Милку. — Замѣ-ча-тельная собака! Вы обратите вниманіе на морду! Морда одна чего стоитъ! Ежели на любителя наскочить, такъ за одну морду двѣсти рублей дадутъ! Не вѣрите? Въ такомъ случаѣ, вы ничего не понимаете…
— Я понимаю, но…
— Вѣдь сетеръ, чистокровный англійскій сетеръ! Стойка поразительная, а чутье… нюхъ! Боже, какой нюхъ! Знаете, сколько я далъ за Милку, когда она была еще щенкомъ? Сто рублей! Дивная собака! Ше-ельма, Милка! Ду-ура, Милка! Поди сюда, поди сюда… собачечка, песикъ мой…
Дубовъ привлекъ къ себѣ Милку и поцѣловалъ ее между ушей. На глазахъ у него выступили слезы.
— Никому тебя не отдамъ… красавица моя… разбойникъ этакій. Вѣдь ты любишь меня, Милка? Любишь?… Ну, пошла вонъ! — крикнулъ вдругъ поручикъ. — Грязными лапами прямо на мундиръ лѣзешь! Да, Кнапсъ, полтораста рублей далъ, за щенка! Стало-быть, было за что! Одно только жаль: охотиться мнѣ некогда! Гибнетъ безъ дѣла собака, талантъ свой зарываетъ… Потому-то и продаю. Купите, Кнапсъ! Всю жизнь будете благодарны! Ну, если у васъ денегъ мало, то извольте, я уступлю вамъ половину… Берите за пятьдесятъ! Грабьте!
— Нѣтъ, голубчикъ… — вздохнулъ Кнапсъ. — Будь ваша Милка мужескаго пола, то, можетъ-быть, я и купилъ бы, а то…
— Милка не мужескаго пола? — изумился поручикъ. — Кнапсъ, что съ вами? Милка не мужескаго… пола?! Ха-ха! Такъ что же она по вашему? Сука? Ха-ха… Хорошъ мальчикъ! Онъ еще не умѣетъ отличить кобеля отъ суки!
— Вы мнѣ говорите, словно я слѣпъ, или ребенокъ… — обидѣлся Кнапсъ! — Конечно, сука!
— Пожалуй, вы еще скажете, что я дама! Ахъ, Кнапсъ, Кнапсъ! А еще тоже въ техническомъ кончили! Нѣтъ, душа моя, это настоящій, чистокровный кобель! Мало того, любому кобелю десять очковъ впередъ дастъ, а вы… не мужескаго пола! Ха-ха…
— Простите, Михаилъ Ивановичъ, но вы… просто за дурака меня считаете… Обидно даже…
— Ну, не нужно, чортъ съ вами… Не покупайте… Вамъ не втолкуешь! Вы скоро скажете, что у нея это не хвостъ, а нога… Не нужно. Вамъ же хотѣлъ одолженіе сдѣлать. Вахрамѣевъ, коньяку!
Денщикъ подалъ еще коньяку. Пріятели налили себѣ по стакану и задумались. Прошло полчаса въ молчаніи.
— А хоть бы и женскаго пола… — прервалъ молчаніе поручикъ, угрюмо глядя на бутылку. — Удивительное дѣло! Для васъ же лучше. Принесетъ вамъ щенятъ, а что ни щенокъ, то и четвертная… Всякій у васъ охотно купитъ. Не знаю, почему это вамъ такъ нравятся кобели! Суки въ тысячу разъ лучше. Женскій полъ и признательнѣе, и привязчивѣе… Ну, ужъ если вы такъ боитесь женскаго пола, то извольте, берите за двадцать пять.
— Нѣтъ, голубчикъ… Ни копейки не дамъ. Во-первыхъ, собака мнѣ не нужна, а во-вторыхъ, денегъ нѣтъ.
— Такъ бы и сказали раньше. Милка, пошла отсюда!
Денщикъ подалъ яичницу. Пріятели принялись за нее и молча очистили сковороду.
— Хорошій вы малый, Кнапсъ, честный… — сказалъ поручикъ, вытирая губы. — Жалко мнѣ васъ такъ отпускать, чортъ подери… Знаете что? Берите собаку даромъ!
— Куда же я ее, голубчикъ, возьму? — сказалъ Кнапсъ и вздохнулъ. — И кто у меня съ ней возиться будетъ?
— Ну, не нужно, не нужно… чортъ съ вами! Не хотите, и не нужно… Куда же вы? Сидите!
Кнапсъ, потягиваясь, всталъ и взялся за шапку.
— Пора, прощайте… — сказалъ онъ, зѣвая.
— Такъ постойте же, я васъ провожу.
Дубовъ и Кнапсъ одѣлись и вышли на улицу. Первые сто шаговъ прошли молча.
— Вы не знаете, кому бы это отдать собаку? — началъ поручикъ. — Нѣтъ ли у васъ такихъ знакомыхъ? Собака, вы видѣли, хорошая, породистая, но… мнѣ рѣшительно не нужна!
— Не знаю, милый… Какіе же у меня тутъ знакомые? До самой квартиры Кнапса пріятели не сказали больше ни одного слова. Только когда Кнапсъ пожалъ поручику руку и отворилъ свою калитку, Дубовъ кашлянулъ и какъ-то нерѣшительно выговорилъ:
— Вы не знаете, здѣшніе живодеры собакъ принимаютъ или нѣтъ?
— Должно-быть, принимаютъ… Навѣрное не могу сказать.
— Пошлю завтра съ Вахрамѣевымъ… Чортъ съ ней, пусть съ нея кожу сдерутъ… Мерзкая собака! Отвратительная! Мало того, что нечистоту въ комнатахъ завела, но еще въ кухнѣ вчера все мясо сожрала, п-п-подлая… Добро бы, порода хорошая, а то чортъ знаетъ что, помѣсь дворняжки со свиньей. Спокойной ночи!
— Прощайте! — сказалъ Кнапсъ.
Калитка хлопнула, и поручикъ остался одинъ.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1885, № 45.
Не въ духѣ.
Становой приставъ Семенъ Ильичъ Прачкинъ ходилъ по своей комнатѣ изъ угла въ уголъ и старался заглушить въ себѣ непріятное чувство. Вчера онъ заѣзжалъ по дѣлу къ воинскому начальнику, сѣлъ нечаянно играть въ карты и проигралъ восемь рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но бѣсъ жадности и корыстолюбія сидѣлъ въ ухѣ станового и упрекалъ его въ расточительности.
— Восемь рублей — экая важность! — заглушалъ въ себѣ Прачкинъ этого бѣса. — Люди и больше проигрываютъ, да ничего. И къ тому же деньги дѣло наживное… Съѣздилъ разъ на фабрику, или въ трактиръ Рылова, вотъ тебѣ и всѣ восемь, даже еще больше!
— «Зима… Крестьянинъ, торжествуя…» — монотонно зубрилъ въ сосѣдней комнатѣ сынъ станового, Ваня. — «Крестьянинъ, торжествуя… обновляетъ путь…»
— Да и отыграться можно… Что это тамъ «торжествуя»?
— «Крестьянинъ, торжествуя, обновляетъ путь… обновляетъ…»
— «Торжествуя»… — продолжалъ размышлять Прачкинъ. — Влѣпить бы ему десятокъ горячихъ, такъ не очень бы торжествовалъ. Чѣмъ торжествовать, лучше бы подати исправно платилъ… Восемь рублей — экая важность! Не восемь тысячъ, всегда отыграться можно…
— «Его лошадка, снѣгъ почуя… снѣгъ почуя, плетется рысью какъ-нибудь…»
— Еще бы она вскачь понеслась! Рысакъ какой нашелся, скажи на милость! Кляча — кляча и есть… Неразсудительный мужикъ радъ съ-пьяну лошадь гнать, а потомъ, какъ угодитъ въ прорубь или въ оврагъ, тогда и возись съ нимъ… Поскачи только мнѣ, такъ я тебѣ такого скипидару пропишу, что лѣтъ пять не забудешь! И зачѣмъ это я съ маленькой пошелъ? Пойди я туза трефъ, не былъ бы я безъ двухъ…
— «Бразды пушистыя взрывая, летитъ кибитка удалая… бразды пушистыя взрывая…»
— «Взрывая… Бразды взрывая… бразды…» Скажетъ же этакую штуку! Позволяютъ же писать, прости Господи! А все десятка, въ сущности, надѣлала! Принесли же ее черти не во-время!
— «Вотъ бѣгаетъ дворовый мальчикъ… дворовый мальчикъ, въ салазки Жучку посадивъ… посадивъ…»
— Стало-быть, наѣлся, коли бѣгаетъ, да балуется… А у родителей нѣтъ того въ умѣ, чтобъ мальчишку за дѣло усадить. Чѣмъ собаку-то возить, лучше бы дрова кололъ, или Священное Писаніе читалъ… И собакъ тоже развели… ни пройти, ни проѣхать! Было бы мнѣ послѣ ужина не садиться… Поужинать бы, да и уѣхать…
— «Ему и больно и смѣшно, а мать грозитъ… а мать грозитъ ему въ окно…»
— Грози, грози… Лѣнь на дворъ выйти да наказать… Задрала бы ему шубенку, да чикъ-чикъ! чикъ-чикъ! Это лучше, чѣмъ пальцемъ грозить… А то, гляди, выйдетъ изъ него пьяница… Кто это сочинилъ? — спросилъ громко Прачкинъ.
— Пушкинъ, папаша.
— Пушкинъ? Гм!… Должно-быть, чудакъ какой-нибудь. Пишутъ-пишутъ, а что пишутъ — и сами не понимаютъ. Лишь бы написать!
— Папаша, мужикъ муку привезъ! — крикнулъ Ваня.
— Принять!
Но и мука не развеселила Прачкина. Чѣмъ болѣе онъ утѣшалъ себя, тѣмъ чувствительнѣе становилась для него потеря. Такъ было жалко восьми рублей, такъ жалко, точно онъ въ самомъ дѣлѣ проигралъ восемь тысячъ. Когда Ваня кончилъ урокъ и умолкъ, Прачкинъ стоялъ у окна и, тоскуя, вперилъ свой печальный взоръ въ снѣжные сугробы… Но видъ сугробовъ только растеребилъ его сердечную рану. Онъ напомнилъ ему о вчерашней поѣздкѣ къ воинскому начальнику. Заиграла желчь, подкатило подъ душу… Потребность излить на чемъ-нибудь свое горе достигла степеней, не терпящихъ отлагательства. Онъ не вынесъ…
— Ваня! — крикнулъ онъ. — Иди, я тебя высѣку за то, что ты вчера стекло разбилъ!
Юмористическій журналъ «Осколки», 1884, № 52.
Надлежащія мѣры.
Маленькій, заштатный городокъ, котораго, по выраженію мѣстнаго тюремнаго смотрителя, на географической картѣ даже подъ телескопомъ не увидишь, освѣщенъ полуденнымъ солнцемъ. Тишина и спокойствіе. По направленію отъ думы къ торговымъ рядамъ медленно подвигается санитарная комиссія, состоящая изъ городового врача, полицейскаго надзирателя, двухъ уполномоченныхъ отъ думы и одного торговаго депутата. Сзади почтительно шагаютъ городовые… Путь комиссіи, какъ путь въ адъ, усыпанъ благими намѣреніями. Санитары идутъ и, размахивая руками, толкуютъ о нечистотѣ, вони, надлежащихъ мѣрахъ и прочихъ холерныхъ матеріяхъ. Разговоры до того умные, что идущій впереди всѣхъ полицейскій надзиратель вдругъ приходитъ въ восторгъ и, обернувшись, заявляетъ:
— Вотъ такъ бы намъ, господа, почаще собираться да разсуждать! И пріятно, и въ обществѣ себя чувствуешь, а то только и знаемъ, что ссоримся. Да ей-Богу!
— Съ кого бы намъ начать? — обращается торговый депутатъ къ врачу тономъ палача, выбирающаго жертву. — Не начать ли намъ, Аникита Николаичъ, съ лавки Ошейникова? Мошенникъ, во-первыхъ, и… во-вторыхъ, пора ужъ до него добраться. Намедни приносятъ мнѣ отъ него гречневую крупу, а въ ней, извините, крысиный пометъ… Жена такъ и не ѣла!
— Ну, что жъ? Съ Ошейникова начинать, такъ съ Ошейникова, — говоритъ безучастно врачъ.
Санитары входятъ въ «Магазинъ, чаю, сахару и кофію и прочихъ колоннеальныхъ товаровъ А. М. Ошейникова» и тотчасъ же, безъ длинныхъ предисловій, приступаютъ къ ревизіи.
— М-да-съ… — говоритъ врачъ, разсматривая красиво сложенныя пирамиды изъ казанскаго мыла. — Какихъ ты у себя здѣсь изъ мыла вавилоновъ настроилъ! Изобрѣтательность, подумаешь! Э… э… э! Это что же такое? Поглядите, господа! Демьянъ Гаврилычъ изводитъ мыло и хлѣбъ однимъ и тѣмъ же ножомъ рѣзать!
— Отъ этого холеры не выйдетъ-съ, Аникита Николаичъ! — резонно замѣчаетъ хозяинъ.
— Оно-то такъ, но вѣдь противно! Вѣдь и я у тебя хлѣбъ покупаю.
— Для кого поблагороднѣй, мы особый ножъ держимъ. Будьте покойны-съ… Что вы-съ…
Полицейскій надзиратель щуритъ свои близорукіе глаза на окорокъ, долго царапаетъ его ногтемъ, громко нюхаетъ, затѣмъ, пощелкавъ по окороку пальцемъ, спрашиваетъ:
— А онъ у тебя, бываетъ, не съ стрихнинами?
— Что вы-съ… Помилуйте-съ… Нешто можно-съ! Надзиратель конфузится, отходитъ отъ окорока и щуритъ глаза на прейсъ-курантъ Асмолова и К°. Торговый депутатъ запускаетъ руку въ боченокъ съ гречневой крупой и ощущаетъ тамъ что-то мягкое, бархатистое… Онъ глядитъ туда, и по лицу его разливается нѣжность.
— Кисаньки… кисаньки! Манюнечки мои! — лепечетъ онъ. — Лежатъ въ крупѣ и мордочки подняли… нѣжатся… Ты бы, Демьянъ Гаврилычъ, прислалъ мнѣ одного котеночка!
— Это можно-съ… А вотъ, господа, закуски, ежели желаете осмотрѣть… Селедки вотъ, сыръ… балыкъ, изволите видѣть… Балыкъ въ четвергъ получилъ, самый лучшшш… Мишка, дай-ка сюда ножикъ!
Санитары отрѣзываютъ по куску балыка и, понюхавъ, пробуютъ.
— Закушу ужъ и я кстати… — говоритъ какъ бы про себя хозяинъ лавки Демьянъ Гаврилычъ. — Тамъ гдѣ-то у меня бутылочка валялась. Пойти передъ балыкомъ выпить… Другой вкусъ тогда… Мишка, дай-ка сюда бутылочку.
Мишка, надувъ щеки и выпучивъ глаза, раскупориваетъ бутылку и со звономъ ставитъ ее на прилавокъ.
— Пить натощакъ… — говоритъ полицейскій надзиратель, въ нерѣшимости почесывая затылокъ. — Впрочемъ, ежели по одной… Только ты поскорѣй, Демьянъ Гаврилычъ, намъ некогда съ твоей водкой!
Черезъ четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками въ зубахъ, идутъ къ лавкѣ Голорыбенко. Тутъ, какъ на зло, пройти негдѣ… Человѣкъ пять молодцовъ, съ красными, вспотѣвшими физіономіями, катятъ изъ лавки боченокъ съ масломъ.
— Держи вправо!… Тяни за край… тяни, тяни! Брусокъ подложи… а, чортъ! Отойдите, ваше благородіе, ноги отдавимъ!
Боченокъ застряваетъ въ дверяхъ и — ни съ мѣста… Молодцы налегаютъ на него и прутъ изо всѣхъ силъ, испуская громкое сопѣнье и бранясь на всю площадь. Послѣ такихъ усилій, когда отъ долгихъ сопѣній воздухъ значительно измѣняетъ свою чистоту, боченокъ, наконецъ, выкатывается и почему-то, вопреки законамъ природы, катится назадъ и опять застряваетъ въ дверяхъ. Сопѣнье начинается снова.
— Тьфу! — плюетъ надзиратель. — Пойдемте къ Шибукину. Эти черти до вечера будутъ пыхтѣть.
Шибукинскую лавку санитары находятъ запертой.
— Да вѣдь она же была отперта! — удивляются санитары, переглядываясь. — Когда мы къ Ошейникову входили, Шибукинъ стоялъ на порогѣ и мѣдный чайникъ полоскалъ. Гдѣ онъ? — обращаются они къ нищему, стоящему около запертой лавки.
— Подайте милостыньку, Христа ради, — сипитъ нищій: — убогому калѣкѣ, что милость ваша, господа благодѣтели… родителямъ вашимъ…
Санитары машутъ руками и идутъ дальше, за исключеніемъ одного только уполномоченнаго отъ думы, Плюнина. Этотъ подаетъ нищему копейку и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бѣжитъ въ догонку за компаніей.
Часа черезъ два комиссія идетъ обратно. Видъ у санитаровъ утомленный, замученный. Ходили они не даромъ: одинъ изъ городовыхъ, торжественно шагая, несетъ лотокъ, наполненный гнилыми яблоками.
— Теперь, послѣ трудовъ праведныхъ, недурно бы дрызнуть, — говоритъ надзиратель, косясь на вывѣску «Ренсковый погребъ винъ и водокъ». — Подкрѣпиться бы.
— М-да, не мѣшаетъ. Зайдемте, если хотите. Санитары спускаются въ погребъ и садятся вокругъ круглаго стола съ погнувшимися ножками. Надзиратель киваетъ сидѣльцу, и на столѣ появляется бутылка.
— Жаль, что закусить нечѣмъ, — говоритъ торговый депутатъ, выпивая и морщаясь. — Огурчика далъ бы, что ли… Впрочемъ…
Депутатъ поворачивается къ городовому съ лоткомъ, выбираетъ наиболѣе сохранившееся яблоко и закусываетъ.
— Ахъ… тутъ есть и не очень гнилыя! — какъ бы удивляется надзиратель. — Дай-ка, и я себѣ выберу! Да ты поставь здѣсь лотокъ… Какія лучше — мы выберемъ, почистимъ, а остальныя можешь уничтожить. Аникита Николаичъ, наливайте! Вотъ такъ почаще бы намъ собираться да разсуждать. А то живешь-живешь въ этой глуши, никакого образованія, ни клуба, ни общества — Австралія, да и только! Наливайте, господа! Докторъ, яблочекъ! Самолично для васъ очистилъ!
…
— Ваше благородіе, куда лотокъ дѣвать прикажете? — спрашиваетъ городовой надзирателя, выходящаго съ компаніей изъ погреба.
— Ло… лотокъ? Который лотокъ? П-понимаю! Уничтожь вмѣстѣ съ яблоками… потому — зараза!
— Яблоки вы изволили скушать!
— А-а… очень пріятно! Послушш… поди ко мнѣ домой и скажи Марьѣ Власьевнѣ, чтобъ не сердилась… Я только на часокъ… Къ Плюнину спать… Понимаешь? Спать… объятія Морфея. Шпрехенъ зи деичъ, Иванъ Андреичъ.
И поднявъ къ небу глаза, надзиратель горько качаетъ головой, растопыриваетъ руки и говоритъ:
— Такъ и вся жизнь наша!
Юмористическій журналъ «Осколки», 1884, № 38.
Первый любовникъ.
Евгеній Алексѣевичъ Поджаровъ, jeune premier7, стройный, изящный, съ овальнымъ лицомъ и съ мѣшочками подъ глазами, пріѣхавъ на сезонъ въ одинъ изъ южныхъ городовъ, первымъ дѣломъ постарался познакомиться съ нѣсколькими почтенными семействами.
— Да-съ, синьоръ! — часто говорилъ онъ, граціозно болтая ногой и показывая свои красные чулки. — Артистъ долженъ дѣйствовать на массы посредственно и непосредственно; первое достигается служеніемъ на сценѣ, второе — знакомствомъ съ обывателями. Честное слово, parole d’honneur8, не понимаю, отчего это нашъ братъ актеръ избѣгаетъ знакомствъ съ семейными домами? Отчего? Не говоря ужъ объ обѣдахъ, именинахъ, пирогахъ, суарэ-фиксахъ9, не говоря ужъ о развлеченіяхъ, какое нравственное вліяніе онъ можетъ имѣть на общество! Развѣ не пріятно сознаніе, что ты заронилъ искру въ какую-нибудь толстокожую башку? А типы! А женщины! Mon Dieu10, что за женщины! Голова кружится! Заберешься въ какой-нибудь купеческій домище, въ завѣтные терема, выберешь апельсинчикъ посвѣжѣе и румянѣе и! — блаженство. Parole d’honneur!
Въ южномъ городѣ онъ познакомился, между прочимъ, съ почтенной семьей фабриканта Зыбаева. При воспоминаніи объ этомъ знакомствѣ онъ теперь всякій разъ презрительно морщится, щуритъ глаза и нервно теребитъ цѣпочку.
Однажды — это было на именинахъ у Зыбаева — артистъ сидѣлъ въ гостиной своихъ новыхъ знакомыхъ и по обыкновенію разглагольствовалъ. Вокругъ него въ креслахъ и на диванѣ сидѣли «типы» и благодушно слушали; изъ сосѣдней комнаты доносились женскій смѣхъ и звуки вечерняго чаепитія… Положивъ ногу на ногу, запивая каждую фразу чаемъ съ ромомъ и стараясь придать своему лицу небрежно-скучающее выраженіе, онъ разсказывалъ о своихъ успѣхахъ на сценѣ.
— Я актеръ по преимуществу провинціальный, — говорилъ онъ, снисходительно улыбаясь: — но случалось играть и въ столицахъ… Кстати разскажу одинъ случай, достаточно характеризующій современное умственное настроеніе. Въ Москвѣ въ мой бенефисъ мнѣ молодежь поднесла такую массу лавровыхъ вѣнковъ, что я, клянусь всѣмъ, что только есть у меня святого, не зналъ, куда дѣвать ихъ! Parole d’honneur! Впослѣдствіи, въ минуты безденежья, я снесъ лавровый листъ въ лавочку и… угадайте, сколько въ немъ было вѣсу? Два пуда и восемь фунтовъ! Ха-ха! Деньги пригодились какъ нельзя кстати. Вообще, артисты часто бываютъ бѣдны. Сегодня у меня сотни, тысячи, завтра ничего… Сегодня нѣтъ куска хлѣба, а завтра устрицы и анчоусы, чортъ возьми.
Обыватели чинно хлебали изъ своихъ стакановъ и слушали. Довольный хозяинъ, не зная, чѣмъ угодить образованному и занимательному гостю, представилъ ему пріѣзжаго гостя, своего дальняго родственника, Павла Игнатьевича Климова, мясистаго человѣка лѣтъ сорока, въ длинномъ сюртукѣ и въ широчайшихъ панталонахъ.
— Рекомендую! — сказалъ Зыбаевъ, представляя Климова. — Любитъ театры и самъ когда-то игрывалъ. Тульскій помѣщикъ!
Поджаровъ и Климовъ разговорились. Къ великому удовольствію обоихъ, оказалось, что тульскій помѣщикъ живалъ въ томъ самомъ городѣ, гдѣ jeune premier два сезона подъ рядъ игралъ на сценѣ. Начались разспросы о городѣ, объ общихъ знакомыхъ, о театрѣ…
— Знаете, мнѣ этотъ городъ ужасно нравится! — говорилъ jeune premier, показывая свои красные чулки. — Какія мостовыя, какой миленькій садъ… а какое общество! Прекрасное общество!
— Да, прекрасное общество, — согласился помѣщикъ.
— Городъ торговый, но весьма интеллигентный!… Напримѣръ, э-э-э… директоръ гимназіи, прокуроръ… офицерство… Недуренъ также исправникъ… Человѣкъ, какъ говорятъ французы, аншантэ11. А женщины! Аллахъ, что за женщины!
— Да, женщины… дѣйствительно…
— Быть-можетъ, я пристрастенъ! Дѣло въ томъ, что въ вашемъ городѣ мнѣ, не знаю почему, чертовски везло по амурной части! Я могъ бы написать десять романовъ. Напримѣръ, взять бы хоть этотъ романъ… Жилъ я на Егорьевской улицѣ, въ томъ самомъ домѣ, гдѣ помѣщается казначейство…
— Это красный, нештукатуренный?
— Да, да… нештукатуренный. По сосѣдству со мной, какъ теперь помню, въ домѣ Кощеева жила мѣстная красавица Варенька…
— Не Варвара ли Николаевна? — спросилъ Климовъ и просіялъ отъ удовольствія. — Дѣйствительно, красавица… Первая въ городѣ!
— Первая въ городѣ! Классическій профиль… большущіе черные глаза и коса по поясъ! Увидала она меня въ Гамлетѣ… Пишетъ письмо â̂ la пушкинская Татьяна… Я, понятно, отвѣчаю…
Поджаровъ оглядѣлся и, убѣдившись, что въ гостиной нѣтъ дамъ, закатилъ глаза, грустно улыбнулся и вздохнулъ.
— Прихожу однажды послѣ спектакля домой, — зашепталъ онъ: — а она сидитъ у меня на диванѣ. Начинаются слезы, объясненія въ любви… поцѣлуи… О, то была чудная, то была дивная ночь! Нашъ романъ потомъ продолжался мѣсяца два, но эта ночь ужъ не повторялась. Что за ночь, parole d’honneur!
— Позвольте, какъ же это? — забормоталъ Климовъ, багровѣя и тараща глаза на актера. — Я Варвару Николаевну отлично знаю… Она моя племянница!
Поджаровъ смутился и тоже вытаращилъ глаза.
— Какъ же это-съ? — продолжалъ Климовъ, разводя руками. — Я эту дѣвушку знаю, и… и… меня удивляетъ…
— Очень жаль, что такъ пришлось… — забормоталъ актеръ, поднимаясь и чистя мизинцемъ лѣвый глазъ. — Хотя, впрочемъ… конечно, вы какъ дядя…
Гости, доселѣ съ удовольствіемъ слушавшіе и награждавшіе актера улыбками, смутились и потупили глаза.
— Нѣтъ, ужъ вы будьте такъ любезны, возьмите ваши слова назадъ… — сказалъ Климовъ въ сильномъ смущеніи. — Прошу васъ!
— Если васъ… э-э-э… это оскорбляетъ, то извольте-съ! — отвѣтилъ актеръ, дѣлая рукою неопредѣленный жестъ.
— И сознайтесь, что вы сказали неправду.
— Я? Нѣтъ… э-э-э… я не лгалъ, но… очень жалѣю, что и проговорился… И вообще… не понимаю этого вашего тона! Климовъ заходилъ изъ угла въ уголъ молча, какъ бы въ раздумьѣ или нерѣшимости. Мясистое лицо его становилось все багровѣе и на шеѣ надулись жилы. Походивъ минуты двѣ, онъ подошелъ къ актеру и сказалъ плачущимъ голосомъ:
— Нѣтъ, ужъ вы будьте добры, сознайтесь, что солгали насчетъ Вареньки! Сдѣлайте милость!
— Странно! — пожалъ плечами актеръ, насильно улыбаясь и болтая ногой. — Это… это даже оскорбительно!
— Стало-бытъ, вы не желаете сознаться?
— Н-не понимаю!
— Не желаете? Въ такомъ случаѣ извините… Я долженъ буду прибѣгнуть къ непріятнымъ мѣрамъ… Или я васъ тутъ сейчасъ же оскорблю, милостивый государь, или же… если вы благородный человѣкъ-съ, то извольте принять мой вызовъ на дуэль-съ… Будемъ стрѣляться!
— Извольте! — отчеканилъ jeune premier, дѣлая презрительный жестъ. — Извольте!
Смущенные до крайности гости и хозяинъ, не зная, что имъ дѣлать, отвели въ сторону Климова и стали просить его, чтобы онъ не затѣвалъ скандала. Въ дверяхъ показались удивленныя женскія физіономіи… Jeune premier повертѣлся, поболталъ и съ такимъ выраженіемъ, будто онъ не можетъ болѣе оставаться въ домѣ, гдѣ его оскорбляютъ, взялъ шапку и, не прощаясь, удалился.
Идя домой, jeune premier всю дорогу презрительно улыбался и пожималъ плечами, но у себя въ номерѣ, растянувшись на диванѣ, почувствовалъ сильнѣйшее безпокойство.
«Чортъ его возьми! — думалъ онъ. — Дуэль не бѣда, онъ меня не убьетъ, но бѣда въ томъ, что узнаютъ товарищи, а имъ отлично извѣстно, что я совралъ. Мерзко! Осрамлюсь на всю Россію…»
Поджаровъ подумалъ, покурилъ и, чтобы успокоиться, вышелъ на улицу.
«Поговорить бы съ этимъ бурбономъ, — думалъ онъ, — вбить бы ему въ глупую башку, что онъ болванъ, дуракъ… что я его вовсе не боюсь…»
Jeune premier остановился передъ домомъ Зыбаева и поглядѣлъ на окна. За кисейными занавѣсками еще горѣли огни и двигались фигуры.
— Подожду! — рѣшилъ актеръ.
Было темно и холодно. Какъ сквозь сито, моросилъ противный, осенній дождикъ… Поджаровъ, облокотился о фонарный столбъ и весь отдался чувству безпокойства.
Онъ промокъ и измучился.
Въ два часа ночи изъ дома Зыбаева начали выходить гости. Послѣ всѣхъ въ дверяхъ показался тульскій помѣщикъ. Онъ вздохнулъ на всю улицу и заскребъ по тротуару своими тяжелыми калошами.
— Позвольте-съ! — началъ jeune premier, догоняя его. — На минутку.
Климовъ остановился. Актеръ улыбнулся, помялся и заговорилъ, заикаясь:
— Я… я сознаю… Я солгалъ…
— Нѣтъ-съ, вы извольте публично сознаться! — сказалъ Климовъ и опять побагровѣлъ. — Я этого дѣла не могу такъ оставить-съ…
— Но вѣдь я извиняюсь! Я прошу васъ… понимаете? Прошу, потому что, согласитесь сами, дуэль вызоветъ толки, а я служу… у меня товарищи… Могутъ Богъ знаетъ что подумать…
Jeune premier старался казаться равнодушнымъ, улыбаться, держаться прямо, но натура не слушалась: голосъ его дрожалъ, глаза виновато мигали и голову тянуло внизъ. Долго онъ бормоталъ еще что-то. Климовъ выслушалъ его, подумалъ и вздохнулъ.
— Ну, такъ и быть! — сказалъ онъ. — Богъ проститъ. Только въ другой разъ не лгите, молодой человѣкъ. Ничто такъ не унижаетъ человѣка, какъ ложь… Да-съ! Вы молоды, получили образованіе…
Тульскій помѣщикъ благодушно, родительскимъ тономъ читалъ наставленіе, а jeune premier слушалъ и кротко улыбался… Когда тотъ кончилъ, онъ оскалилъ зубы, поклонился и виноватой походкой, ежась всѣмъ тѣломъ, направился къ своей гостиницѣ.
Ложась спать полчаса спустя, онъ уже чувствовалъ себя внѣ опасности и въ отличномъ настроеніи. Покойный, довольный, что недоразумѣніе такъ благополучно кончилось, онъ укрылся одѣяломъ и скоро уснулъ и спалъ крѣпко до десяти часовъ утра.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1886, № 37.
Хорошій конецъ.
У оберъ-кондуктора Стычкина въ одинъ изъ его недежурныхъ дней сидѣла Любовь Григорьевна, солидная, крупичатая дама лѣтъ сорока, занимающаяся сватовствомъ и многими другими дѣлами, о которыхъ принято говорить только шопотомъ. Стычкинъ, нѣсколько смущенный, но, какъ всегда, серьезный, положительный и строгій, ходилъ по комнатѣ, курилъ сигару и говорилъ:
— Весьма пріятно познакомиться. Семенъ Ивановичъ рекомендовалъ васъ съ той точки, что вы можете помочь мнѣ въ одномъ щекотливомъ, весьма важномъ дѣлѣ, касающемся счастья моей жизни. Мнѣ, Любовь Григорьевна, уже 52 года, то-есть такой періодъ времени, въ который весьма многіе имѣютъ уже взрослыхъ дѣтей. Должность у меня основательная. Состоянія хотя и не имѣю большого, но могу около себя прокормить любимое существо и дѣтей. Скажу вамъ, между нами, что, кромѣ жалованья, я имѣю также и деньги въ банкѣ, которыя сберегъ вслѣдствіе своего образа жизни. Человѣкъ я положительный и трезвый, жизнь веду основательную и сообразную, такъ что могу многимъ себя въ примѣръ поставить. Но нѣтъ у меня только одного — своего домашняго очага и подруги жизни, и веду я свою жизнь, какъ какой-нибудь кочующій венгерецъ, съ мѣста на мѣсто, безъ всякаго удовольствія, и не съ кѣмъ мнѣ посовѣтоваться, а будучи боленъ, некому мнѣ даже воды подать и прочее. Кромѣ того, Любовь Григорьевна, женатый всегда имѣетъ больше вѣсу въ обществѣ, чѣмъ холостой… Я человѣкъ образованнаго класса, при деньгахъ, но ежели взглянуть на меня съ точки зрѣнія, то кто я? Бобыль, все равно, какъ какой-нибудь ксендзъ. А потому я весьма желалъ бы сочетаться узами игуменея, то-есть вступить въ законный бракъ съ какой-нибудь достойной особой.
— Хорошее дѣло! — вздохнула сваха.
— Человѣкъ я одинокій и въ здѣшнемъ городѣ никого не знаю. Куда я пойду и къ кому обращусь, если для меня всѣ люди въ неизвѣстности? Вотъ почему Семенъ Ивановичъ посовѣтовалъ мнѣ обратиться къ такой особѣ, которая спеціалистка по этой части и въ разсужденіи счастья людей имѣетъ свою профессію. А потому я убѣдительнѣйше прошу васъ, Любовь Григорьевна, устроить мою судьбу при вашемъ содѣйствіи. Вы въ городѣ знаете всѣхъ невѣстъ и вамъ легко меня приспособить.
— Это можно…
— Кушайте, покорнѣйше прошу…
Привычнымъ жестомъ сваха поднесла рюмку ко рту, выпила и не поморщилась.
— Это можно, — повторила она. — А какую вамъ, Николай Николаичъ, невѣсту угодно?
— Мнѣ-съ? Какую судьба пошлетъ.
— Оно, конечно, это дѣло отъ судьбы, но вѣдь у всякаго свой вкусъ есть. Одинъ любитъ брюнетокъ, другой блондинокъ.
— Видите ли, Любовь Григорьевна… — сказалъ Стычкинъ, солидно вздыхая. — Я человѣкъ положительный и съ характеромъ. Для меня красота и вообще видимость имѣетъ второстепенную роль, потому что, сами знаете, съ лица воды не пить и съ красивой женой весьма много хлопотъ. Я такъ предполагаю, что въ женщинѣ главное не то, что снаружи, а то, что находится извнутри, то-есть чтобы у нея была душа и всѣ свойства. Кушайте, покорнѣйше прошу… Оно, конечно, весьма пріятно, ежели жена будетъ изъ себя полненькая, но это для обоюдной фортуны не суть важно; главное — умъ. Собственно говоря, въ женщинѣ и ума не нужно, потому что отъ ума она объ себѣ большое понятіе будетъ имѣть и думать разные идеалы. Безъ образованія нынче нельзя, это конечно, но образованіе разное бываетъ. Пріятно, ежели жена по-французски и по-нѣмецки, на разные голоса тамъ, очень пріятно; но что изъ этого толку, ежели она не умѣетъ тебѣ пуговки, положимъ, пришить? Я образованнаго класса, съ княземъ Канителинымъ, могу сказать, все одно, какъ вотъ съ вами теперь, но я имѣю простой характеръ. Мнѣ нужна дѣвушка попроще. Главнѣе же всего, чтобы она меня почитала и чувствовала, что я ее осчастливилъ.
— Дѣло извѣстное.
— Ну-съ, теперь насчетъ существительнаго… Богатую мнѣ не нужно. Я не позволю себѣ такой подлости, чтобъ на деньгахъ жениться. Я желаю, чтобъ не я женинъ хлѣбъ ѣлъ, а чтобъ она мой, чтобъ она чувствовала. Но и бѣдной мнѣ тоже не нужно. Человѣкъ я хотя и со средствами, и хотя я женюсь не изъ интереса, а по любви, но нельзя мнѣ взять бѣдную, потому что, сами знаете, теперь все вздорожало и будутъ дѣти.
— Можно и съ приданымъ сыскать, — сказала сваха.
— Кушайте, покорнѣйше прошу…
Помолчали минутъ пять. Сваха вздохнула, искоса поглядѣла на кондуктора и спросила:
— Ну, а того, батюшка… по холостой части тебѣ не требуется? Хорошій есть товаръ. Одна французенка, а другая будетъ изъ гречанокъ. Очень стоющія.
Кондукторъ подумалъ и сказалъ:
— Нѣтъ, благодарю васъ. Видя съ вашей стороны такое благорасположеніе, позвольте теперь спросить: сколько вы возьмете за ваши хлопоты насчетъ невѣсты?
— Мнѣ не много надо. Дадите четвертную и матеріи на платье, какъ водится, и спасибо… А за приданое особо, это ужъ другой счетъ.
Стычкинъ скрестилъ на груди руки и сталъ молча думать. Подумавъ, онъ вздохнулъ и сказалъ:
— Это дорого…
— И нисколько не дорого, Николай Николаичъ! Прежде, бывало, когда свадебъ было много, брали и дешевле, а по нынѣшнему времени — какіе наши заработки? Ежели въ скоромный мѣсяцъ заработаешь двѣ четвертныхъ, и слава Богу. И то, батюшка, не на свадьбахъ наживаемъ.
Стычкинъ съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на сваху и пожалъ плечами.
— Гм!… Да развѣ двѣ четвертныхъ мало? — спросилъ онъ.
— Стало-быть, мало! Въ прежнее время мы побольше ста добывали, случалось.
— Гм!… Я никакъ не ожидалъ, чтобы этакими дѣлами можно было зарабатывать такую сумму. Пятьдесятъ рублей! Не всякій мужчина столько получитъ! Кушайте, покорнѣйше прошу…
Сваха выпила и не поморщилась. Стычкинъ молча оглядѣлъ ее съ ногъ до головы и сказалъ:
— Пятьдесятъ рублей… Это, значитъ, шестьсотъ рублей въ годъ… Кушайте, покорнѣйше прошу… Съ этакими, знаете ли, дивидендами вамъ, Любовь Григорьевна, не трудно и партію себѣ составитъ…
— Мнѣ-то? — засмѣялась сваха. — Я старая…
— Нисколько-съ… И комплекція у васъ этакая, и лицо полное, бѣлое, и все прочее.
Сваха сконфузилась. Стычкинъ тоже сконфузился и сѣлъ рядомъ съ ней.
— Вы еще весьма можете понравиться, — сказалъ онъ. — Ежели мужъ попадется вамъ положительный, степенный, бережливый, то при его жалованьѣ да съ вашимъ заработкомъ вы можете даже очень ему понравиться и проживете душа въ душу…
— Богъ знаетъ, что вы говорите, Николай Николаичъ…
— Что жъ? Я ничего…
Наступило молчаніе. Стычкинъ началъ громко сморкаться, а сваха раскраснѣлась и, стыдливо глядя на него, спросила:
— А вы сколько получаете, Николай Николаичъ?
— Я-съ? Семьдесятъ пять рублей, помимо наградныхъ… Кромѣ того, мы имѣемъ доходъ отъ стеариновыхъ свѣчей и зайцевъ.
— Охотой занимаетесь?
— Нѣтъ-съ, зайцами у насъ называются безбилетные пассажиры.
Прошла еще минута въ молчаніи. Стычкинъ поднялся и въ волненія заходилъ по комнатѣ.
— Мнѣ молодой супруги не надо, — сказалъ онъ. — Я человѣкъ пожилой и мнѣ нужна, которая такая… въ родѣ какъ бы вы… степенная и солидная… и въ родѣ вашей комплекціи…
— И Богъ знаетъ, что вы говорите… — захихикала сваха, закрывая платкомъ свое багровое лицо.
— Что жъ тутъ долго думать? Вы мнѣ по сердцу и для меня вы подходящая въ вашихъ качествахъ. Человѣкъ я положительный, трезвый и, ежели вамъ нравлюсь, то… чего же лучше? Позвольте вамъ сдѣлать предложеніе!
Сваха прослезилась, засмѣялась и, въ знакъ своего согласія, чокнулась со Стычкинымъ.
— Ну-съ, — сказалъ счастливый оберъ-кондукторъ — теперь позвольте вамъ объяснить, какого я желаю отъ васъ поведенія и образа жизни. Я человѣкъ строгій, солидный, положительный, обо всемъ благородно понимаю и желаю, чтобы моя жена была тоже строгая и понимала, что я для нея благодѣтель и первый человѣкъ.
Онъ сѣлъ и, глубоко вздохнувъ, сталъ излагать своей невѣстѣ взглядъ на семейную жизнь и обязанности жены.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1887, № 30.
Много бумаги. Архивное изысканіе.
«Имѣю честь покорнѣйше заявить 8-го сего декабря замѣчена болѣзнь на двухъ мальчикахъ, которые ребята пришедши объяснили что въ школѣ и протчіи ребяты хвораютъ глоткой жаръ и по всему тѣлу сыпь, ходятъ они въ Жаровскую земскую школу. Ноября 19-го дня 1885 г. Староста Ефимъ Кириловъ».
«М. В. Д. N-ская Уѣздная Земская Управа. Земскому Врачу Г. Радушному. Вслѣдствіе заявленія старосты села Курносова отъ 19-го ноября, предлагаю Вамъ, м. г., отправиться въ Курносово и озаботиться по правиламъ науки о скорѣйшемъ прекращеніи эпидеміи болѣзни, по всѣмъ признакамъ, скарлатины. Изъ названнаго заявленія явствуетъ, что заболѣванія начались въ Жаровской школѣ, на каковую и прошу обратить вниманіе. 4-го декабря 1885 г. За предсѣдателя: С. Паркинъ».
«Г. Приставу 2-го стана N-скаго уѣзда. Вслѣдствіе отношенія уѣздной земской управы за № 102 отъ 4-го декабря, которое при семъ прилагаю, прошу Васъ, м. г., сдѣлать распоряженіе о закрытіи школы въ селѣ Жаровѣ впредь до прекращенія скарлатинной эпидеміи. 13-го декабря 1885 г. Земскій врачъ Радушный».
«М. В. Д. Пристава 2-го стана N-скаго уѣзда. № 1011. Въ Жаровское земское училище. Земскій Врачъ Г. Радушный 18-го декабря сего года сообщилъ мнѣ, что въ селѣ Жаровѣ усмотрѣна имъ на дѣтяхъ эпидемія болѣзни скарлатины (или, какъ называютъ въ народѣ, дифтерита). Во избѣжаніе проявленія болѣе грустныхъ результатовъ отъ упомянутой болѣзни, которая прогрессивно увеличивается, и озабочиваясь необходимостью принять установленныя закономъ мѣры къ предупрежденію и пресѣченію случаевъ развивающагося заболѣванія, я съ своей стороны поставленъ въ необходимость покорнѣйше просить: не признаете ли вы возможнымъ распустить учащихся въ Жаровской земской школѣ до время совершеннаго прекращенія свирѣпствующей болѣзни и о послѣдующемъ увѣдомить меня для дальнѣйшихъ распоряженій. Января 2-го дня 1886 года. Приставъ Подпрунинъ».
«Въ дирекцію народныхъ училищъ Х-ской губерніи. Г. Инспектору народныхъ училищъ. Учителя Жаровскаго училища Фортянскаго заявленіе. Честь имѣю довести до свѣдѣнія Вашего Высокоблагородія, что вслѣдствіе отношенія г. Пристава 2-го стана за № 1011 отъ 2-го января, появилась въ селѣ Жаровѣ эпидемія скарлатины, о чемъ имѣю честь Васъ извѣстить. 12-го января 1886 г. Учитель Фортянскій».
«Г. Приставу 2-го стана N-скаго уѣзда. Въ виду того, что скарлатинная эпидемія прекратилась уже мѣсяцъ тому назадъ, къ открытію временно закрытой школы въ селѣ Жаровѣ съ моей стороны препятствій не имѣется, о чемъ я уже два раза писалъ въ управу, а теперь Вамъ пишу и покорнѣйше прошу обращаться впредь съ вашими бумагами къ уѣздному врачу, съ меня же достаточно и одной земской управы. Я занятъ съ утра до вечера и у меня нѣтъ времени отвѣчать на всѣ Ваши канцелярскія измышленія. 26-го января. Земскій врачъ Радушный».
«М. В. Д. Его Высокоблагородію Господину N-скому Исправнику Пристава 2-го стана. Рапортъ. Имѣю честь препроводить при семъ отношеніе г. Земскаго Врача Радушнаго отъ 26 января за № 31 на предметъ разсмотрѣнія Вашего Высокоблагородія о преданіи суду лѣкаря Радушнаго за неумѣстныя и въ высшей степени оскорбительныя выраженія, употребленныя имъ въ офиціально-служебной бумагѣ, какъ-то; «канцелярскія измышленія». 8-го Февраля дня 1886 г. Приставъ Подпрунинъ».
Изъ частнаго письма г. Исправника къ приставу 2-го стана: «Алексѣй Мануиловичъ, возвращаю Вамъ Вашъ рапортъ. Прекратите пожалуйста Ваши постоянныя неудовольствія съ докторомъ Радушнымъ. Такой антагонизмъ по меньшей мѣрѣ неудобенъ въ положеніи полицейскаго чиновника, обязаннаго блюсти въ сношеніяхъ прежде всего тактъ и умѣренность. Что касается бумаги Радушнаго, то не нахожу въ ней ничего особеннаго. О скарлатинѣ въ с. Жаровѣ я уже слышалъ и въ ближайшемъ училищномъ совѣтѣ доложу о неправильныхъ дѣйствіяхъ учителя Фортянскаго, котораго считаю главнымъ виновникомъ всей этой непріятной переписки».
«М. Н. П. Инспекторъ народныхъ училищъ Х-ой губерніи, № 810. Г. Учителю Жаровскаго училища. На представленіе Ваше отъ 12-го января сего года, поставляю Васъ въ извѣстность, что уроки во ввѣренномъ Вамъ училищѣ должны быть немедленно прекращены и ученики распущены въ отвращеніе дальнѣйшаго распространенія скарлатины. Февраля 22-го дня 1886 г. Инспекторъ народныхъ училищъ И. Жилеткинъ».
По прочтеніи всѣхъ документовъ, относящихся къ эпидеміи въ селѣ Жаровѣ (а ихъ, кромѣ здѣсь напечатанныхъ, имѣется еще двадцать восемь), читателю станетъ понятнымъ многое изъ слѣдующаго описанія, помѣщеннаго въ № 36 Х-кихъ Губернскихъ Вѣдомостей:
…«покончивъ съ чрезмѣрною дѣтскою смертностью, перейдемъ теперь къ болѣе веселому и отрадному. Вчера, въ церкви св. Михаила Архистратига происходило торжественное бракосочетаніе дочери извѣстнаго бумажнаго фабриканта М. съ потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ К. Вѣнчаніе совершалъ протоіерей о. Кліопа Гвоздевъ въ сослуженіи съ прочимъ соборнымъ духовенствомъ. Пѣлъ хоръ Красноперова. Оба молодые сіяли красотой и молодостью. Говорятъ, что г. К. получаетъ въ приданое около милліона и, кромѣ того, еще имѣніе Благодушное съ конскимъ заводомъ и съ оранжереями, въ коихъ произрастаютъ ананасы и цвѣтущія пальмы, переносящія ваше воображеніе далеко на югъ. Молодые тотчасъ же послѣ вѣнца уѣхали заграницу».
Какъ пріятно быть бумажнымъ фабрикантомъ!
Юмористическій журналъ «Осколки», 1886, № 13.
Справка.
Былъ полдень. Помѣщикъ Волдыревъ, высокій, плотный мужчина съ стриженой головой и съ глазами на выкатѣ, снялъ пальто, вытеръ шелковымъ платкомъ лобъ и несмѣло вошелъ въ присутствіе. Тамъ скрипѣли…
— Гдѣ здѣсь я могу навести справку? — обратился онъ къ швейцару, который несъ изъ глубины присутствія подносъ со стаканами — Мнѣ нужно тутъ справиться и взять копію съ журнальнаго постановленія.
— Пожалуйте туда-съ! Вотъ къ энтому, что около окна сидитъ! — сказалъ швейцаръ, указавъ подносомъ на крайнее окно.
Волдыревъ кашлянулъ и направился къ окну. Тамъ за зеленымъ, пятнистымъ, какъ тифъ, столомъ сидѣлъ молодой человѣкъ съ четырьмя хохлами на головѣ, длиннымъ, угреватымъ носомъ и въ полиняломъ мундирѣ. Уткнувъ свой большой носъ въ бумаги, онъ писалъ. Около правой ноздри его гуляла муха, и онъ то и дѣло вытягивалъ нижнюю губу и дулъ себѣ подъ носъ, что придавало его лицу крайне озабоченное выраженіе.
— Могу ли я здѣсь… у васъ, — обратился къ нему Волдыревъ: — навести справку о моемъ дѣлѣ? Я Волдыревъ… И кстати же мнѣ нужно взять копію съ журнальнаго постановленія отъ второго марта.
Чиновникъ умокнулъ перо въ чернильницу и поглядѣлъ, не много ли онъ набралъ? Убѣдившись, что перо не капнетъ, онъ заскрипѣлъ. Губа его вытянулась, но дуть уже не нужно было: муха сѣла на ухо.
— Могу ли я навести здѣсь справку? — повторилъ черезъ минуту Волдыревъ. — Я Волдыревъ, землевладѣлецъ…
— Иванъ Алексѣичъ! — крикнулъ чиновникъ въ воздухъ, какъ бы не замѣчая Волдырева. — Скажешь купцу Яликову, когда придетъ, чтобы копію съ заявленія въ полиціи засвидѣтельствовалъ! Тысячу разъ говорилъ ему!
— Я относительно тяжбы моей съ наслѣдниками княгини Гугулиной, — пробормоталъ Волдыревъ. — Дѣло извѣстное. Убѣдительно васъ прошу заняться мною.
Все не замѣчая Волдырева, чиновникъ поймалъ на губѣ муху, посмотрѣлъ на нее со вниманіемъ и бросилъ. Помѣщикъ кашлянулъ и громко высморкался въ свой клѣтчатый платокъ. Но и это не помогло. Его продолжали не слышать. Минуты двѣ длилось молчаніе. Волдыревъ вынулъ изъ кармана рублевую бумажку и положилъ ее передъ чиновникомъ на раскрытую книгу. Чиновникъ сморщилъ лобъ, потянулъ къ себѣ книгу съ озабоченнымъ лицомъ и закрылъ ее.
— Маленькую справочку… Мнѣ хотѣлось бы только узнать, на какомъ такомъ основаніи наслѣдники княгини Гугулиной… Могу ли я васъ побезпокоить?
А чиновникъ, занятый своими мыслями, всталъ и, почесывая локоть, пошелъ зачѣмъ-то къ шкапу. Возвратившись черезъ минуту къ своему столу, онъ опять занялся книгой: на ней лежала рублевка.
— Я побезпокою васъ на одну только минуту… Мнѣ справочку сдѣлать, только…
Чиновникъ не слышалъ; онъ сталъ что-то переписывать.
Волдыревъ поморщился и безнадежно поглядѣлъ на всю скрипѣвшую братію.
«Пишутъ! — подумалъ онъ, вздыхая. — Пишутъ, чтобы чортъ ихъ взялъ совсѣмъ!»
Онъ отошелъ отъ стола и остановился среди комнаты, безнадежно опустивъ руки. Швейцаръ, опять проходившій со стаканами, замѣтилъ, вѣроятно, безпомощное выраженіе на его лицѣ, потому что подошелъ къ нему совсѣмъ близко и спросилъ тихо:
— Ну, что? Справлялись?
— Справлялся, но со мной говорить не хотятъ.
— А вы дайте ему три рубля… — шепнулъ швейцаръ.
— Я уже далъ два.
— А вы еще дайте.
Волдыревъ вернулся къ столу и положилъ на раскрытую книгу зеленую бумажку.
Чиновникъ снова потянулъ къ себѣ книгу и занялся перелистываніемъ, и вдругъ, какъ бы нечаянно, поднялъ глаза на Волдырева. Носъ его залоснился, покраснѣлъ и поморщился улыбкой.
— Ахъ… что вамъ угодно? — спросилъ онъ.
— Я хотѣлъ бы навести справку относительно моего дѣла… Я Волдыревъ.
— Очень пріятно-съ! По Гугулинскому дѣлу-съ? Очень хорошо-съ! Такъ вамъ что же, собственно говоря?
Волдыревъ изложилъ ему свою просьбу.
Чиновникъ ожилъ, точно его подхватилъ вихрь. Онъ далъ справку, распорядился, чтобы написали копію, подалъ просящему стулъ — и все это въ одно мгновеніе. Онъ даже поговорилъ о погодѣ и спросилъ насчетъ урожая. И когда Волдыревъ уходилъ, онъ провожалъ его внизъ по лѣстницѣ, привѣтливо и почтительно улыбаясь и дѣлая видъ, что онъ каждую минуту готовъ передъ просителемъ пасть ницъ. Волдыреву почему-то стало неловко и, повинуясь какому-то внутреннему влеченію, онъ досталъ изъ кармана рублевку и подалъ ее чиновнику. А тотъ все кланялся и улыбался, и принялъ рублевку, какъ фокусникъ, такъ что она только промелькнула въ воздухѣ…
«Ну, люди!»… — подумалъ помѣщикъ, выйдя на улицу, остановился и вытеръ лобъ платкомъ.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1883, № 36.
Знакомый мужчина.
Прелестнѣйшая Ванда или, какъ она называлась въ паспортѣ, почетная гражданка Настасья Канавкина, выписавшись изъ больницы, очутилась въ положеніи, въ какомъ она раньше никогда не бывала; безъ пріюта и безъ копейки денегъ. Какъ быть?
Она первымъ дѣломъ отправилась въ ссудную кассу и заложила тамъ кольцо съ бирюзой — единственную свою драгоцѣнность. Ей дали за кольцо рубль, но… что купишь за рубль? За эти деньги не купишь ни модной, короткой кофточки, ни высокой шляпы, ни туфель бронзоваго цвѣта, а безъ этихъ вещей она чувствовала себя точно голой. Ей казалось, что не только люди, но даже лошади и собаки глядятъ на нее и смѣются надъ простотой ея платья. И думала она только о платьѣ, вопросъ же о томъ, что она будетъ ѣсть и гдѣ будетъ ночевать, не тревожилъ ея нисколько.
«Хоть бы мужчину знакомаго встрѣтить… — думала она. — Я взяла бы денегъ… Мнѣ ни одинъ не откажетъ, потому что…»
Но знакомые мужчины не встрѣчались. Ихъ не трудно встрѣтить вечеромъ въ Ренесансѣ, но въ Ренесансъ не пустятъ въ этомъ простомъ платьѣ и безъ шляпы. Какъ быть? Послѣ долгаго томленія, когда уже надоѣло и ходить, и сидѣть, и думать, Ванда рѣшила пуститься на послѣднее средство: сходить къ какому-нибудь знакомому мужчинѣ прямо на квартиру и попросить денегъ.
«Къ кому бы сходить? — размышляла она. — Къ Мишѣ нельзя — семейный… Рыжій старикъ теперь на службѣ»…
Ванда вспомнила о зубномъ врачѣ Финкелѣ, выкрестѣ, который мѣсяца три назадъ подарилъ ей браслетъ и которому она однажды за ужиномъ въ нѣмецкомъ клубѣ вылила на голову стаканъ пива. Вспомнивъ про этого Финкеля, она ужасно обрадовалась.
«Онъ навѣрное дастъ, лишь бы только мнѣ дома его застать… — думала она, идя къ нему. — А не дастъ, такъ я у него тамъ всѣ лампы перебью».
Когда она подходила къ двери зубного врача, у нея уже былъ готовъ планъ: она со смѣхомъ взбѣжитъ по лѣстницѣ, влетитъ къ врачу въ кабинетъ и потребуетъ 25 рублей… Но когда она взялась за звонокъ, этотъ планъ какъ-то самъ собою вышелъ изъ головы. Ванда вдругъ начала трусить и волноваться, чего съ ней раньше никогда не бывало. Она бывала смѣла и нахальна только въ пьяныхъ компаніяхъ, теперь же, одѣтая въ обыкновенное платье, очутившись въ роли обыкновенной просительницы, которую могутъ не принять, она почувствовала себя робкой и приниженной. Ей стало стыдно и страшно.
«Можетъ-быть, онъ ужъ забылъ про меня… — думала она, не рѣшаясь дернуть за звонокъ. — И какъ я пойду къ нему въ такомъ платьѣ? Точно нищая или мѣщанка какая-нибудь»…
И нерѣшительно позвонила.
За дверью послышались шаги; это былъ швейцаръ.
— Докторъ дома? — спросила она.
Теперь ей пріятнѣе было бы, если бы швейцаръ сказалъ «нѣтъ», но тотъ, вмѣсто отвѣта, впустилъ ее въ переднюю и снялъ съ нея пальто. Лѣстница показалась ей роскошной, великолѣпной, но изъ всей роскоши ей прежде всего бросилось въ глаза большое зеркало, въ которомъ она увидѣла оборвашку безъ высокой шляпы, безъ модной кофточки и безъ туфель бронзоваго цвѣта. И Вандѣ казалось страннымъ, что теперь, когда она была бѣдно одѣта и походила на швейку или прачку, въ ней появился стыдъ и ужъ не было ни наглости, ни смѣлости, и въ мысляхъ она называла себя уже не Вандой, а какъ раньше, Настей Канавкиной…
— Пожалуйте! — сказала горничная, провожая ее въ кабинетъ. — Докторъ сейчасъ… Садитесь.
Ванда опустилась въ мягкое кресло.
«Такъ и скажу: дайте взаймы! — думала она. — Это прилично, потому что, вѣдь, онъ знакомъ со мной. Только вотъ если бъ горничная вышла отсюда. При горничной неловко… И зачѣмъ она тутъ стоитъ?»
Минутъ черезъ пять отворилась дверь, и вошелъ Финкель, высокій, черномазый выкрестъ съ жирными щеками и съ глазами на выкатѣ. Щеки, глаза, животъ, толстыя бедра — все это у него было такъ сыто, противно, сурово. Въ Ренесансѣ и въ нѣмецкомъ клубѣ онъ обыкновенно бывалъ навеселѣ, много тратилъ тамъ на женщинъ и терпѣливо сносилъ ихъ шутки (напримѣръ, когда Ванда вылила ему на голову пиво, то онъ только улыбнулся и погрозилъ пальцемъ); теперь же онъ имѣлъ хмурый, сонный видъ и глядѣлъ важно, холодно, какъ начальникъ, и что-то жевалъ.
— Что прикажете? — спросилъ онъ, не глядя на Ванду. Ванда поглядѣла на серьезное лицо горничной, на сытую фигуру Финкеля, который, повидимому, не узнавалъ ея, и покраснѣла…
— Что прикажете? — повторилъ зубной врачъ уже съ раздраженіемъ.
— Зу… зубы болятъ… — прошептала Ванда.
— Ага… Какіе зубы? Гдѣ?
Ванда вспомнила, что у нея есть одинъ зубъ съ дупломъ.
— Внизу направо… — сказала она.
— Гм!… Раскрывайте ротъ.
Финкель нахмурился, задержалъ дыханіе и сталъ разсматривать больной зубъ.
— Больно? — спросилъ онъ, ковыряя въ зубѣ какой-то желѣзкой.
— Больно… — солгала Ванда. — «Напомнить ему, — думала она, — такъ онъ навѣрное бы узналъ… Но… горничная! Зачѣмъ она тутъ стоитъ?»
Финкель вдругъ засопѣлъ, какъ паровозъ, прямо ей въ ротъ и сказалъ:
— Я не совѣтую вамъ плюмбуровать его… Изъ етова зуба вамъ никакого пользы, все равно.
Поковырявъ еще немножко въ зубѣ и опачкавъ губы и десны Ванды табачными пальцами, онъ опять задержалъ дыханіе и полѣзъ ей въ ротъ съ чѣмъ-то холоднымъ… Ванда вдругъ почувствовала страшную боль, вскрикнула и схватила за руку Финкеля.
— Ничего, ничего… — бормоталъ онъ. — Вы не пугайтесь… Изъ этимъ зубомъ вамъ все равно мало толку. Надо быть храброй.
И табачные, окровавленные пальцы поднесли къ ея глазамъ вырванный зубъ, а горничная подошла и подставила къ ея рту чашку.
— Дома вы холодной водой ротъ полоскайте… — сказалъ Финкель: — и тогда кровь остановится…
Онъ стоялъ передъ ней въ позѣ человѣка, который ждетъ, когда же, наконецъ, уйдутъ, оставятъ его въ покоѣ…
— Прощайте… — сказала она, поворачиваясь къ двери.
— Гм!… А кто же мнѣ заплатитъ за работу? — спросилъ смѣющимся голосомъ Финкель.
— Ахъ, да!… — вспомнила Ванда, покраснѣла и подала выкресту рубль, вырученный ею за кольцо съ бирюзой.
Выйдя на улицу, она чувствовала еще большій стыдъ, чѣмъ прежде, но теперь ужъ ей было стыдно не бѣдности. Она уже не замѣчала, что на ней нѣтъ высокой шляпы и модной кофточки. Шла она по улицѣ, плевала кровью, и каждый красный плевокъ говорилъ ей объ ея жизни, не хорошей, тяжелой жизни, о тѣхъ оскорбленіяхъ, какія она переносила и еще будетъ переносить завтра, черезъ недѣлю, черезъ годъ — всю жизнь, до самой смерти…
— О, какъ это страшно! — шептала она. — Какъ ужасно, Боже мой!
Впрочемъ, на другой день она уже была въ Ренесансѣ и танцовала тамъ. На ней была новая громадная, красная шляпа, новая модная кофточка и туфли бронзоваго цвѣта. И ужиномъ угощалъ ее молодой купецъ, пріѣзжій изъ Казани.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1886, № 18.
Изъ дневника помощника бухгалтера.
1863 г. Май, 11. Нашъ шестидесятилѣтній бухгалтеръ Глоткинъ пилъ молоко съ коньякомъ по случаю кашля и заболѣлъ по сему случаю бѣлою горячкой. Доктора, со свойственною имъ самоувѣренностью, утверждаютъ, что завтра помретъ. Наконецъ-таки я буду бухгалтеромъ! Это мѣсто мнѣ уже давно обѣщано.
Секретарь Клещевъ пойдетъ подъ судъ за нанесеніе побоевъ просителю, назвавшему его бюрократомъ. Это, повидимому, рѣшено.
Принималъ декоктъ отъ катара желудка.
1865 г. Августъ, 3. У бухгалтера Глоткина опять заболѣла грудь. Сталъ кашлять и пьетъ молоко съ коньякомъ. Если помретъ, то мѣсто останется за мной. Питаю надежду, но слабую, ибо, повидимому, бѣлая горячка не всегда смертельна!
Клещевъ вырвалъ у армянина вексель и порвалъ. Пожалуй, дѣло до суда дойдетъ.
Одна старушка (Гурьевна) вчера говорила, что у меня не катаръ, а скрытый геморрой. Очень можетъ быть!
1867 г. Іюнь, 30. Въ Аравіи, пишутъ, холера. Быть-можетъ, въ Россію придетъ, и тогда откроется много вакансій. Быть-можетъ, старикъ Глоткинъ помретъ и я получу мѣсто бухгалтера. Живучъ человѣкъ! Жить такъ долго, по-моему, даже предосудительно.
Что бы такое отъ катара принять? Не принять ли цитварнаго сѣмени?
1870 г. Январь, 2. Во дворѣ Глоткина всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говоритъ, что это вѣрная примѣта, и мы съ нею до двухъ часовъ ночи говорили о томъ, какъ я, ставши бухгалтеромъ, куплю себѣ енотовую шубу и шлафрокъ. И пожалуй женюсь. Конечно, не на дѣвушкѣ — это мнѣ не по годамъ, а на вдовѣ.
Вчера Клещевъ выведенъ былъ изъ клуба за то, что вслухъ неприличный анекдотъ разсказывалъ и смѣялся надъ патріотизмомъ члена торговой депутаціи Понюхова. Послѣдній, какъ слышно, подаетъ въ судъ.
Хочу съ катаромъ къ доктору Боткину сходить. Говорятъ; хорошо лѣчитъ…
1878 г. Іюнь, 4. Въ Ветлянкѣ, пишутъ, чума. Народъ такъ и валится, пишутъ. Глоткинъ пьетъ по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможетъ перцовка. Если придетъ чума, то ужъ навѣрное я буду бухгалтеромъ.
1883 г. Іюнь, 4. Умираетъ Глоткинъ. Былъ у него и со слезами просилъ прощенія за то, что смерти его съ нетерпѣніемъ ждалъ. Простилъ со слезами великодушно и посовѣтовалъ мнѣ употреблять отъ катара желудевый кофій.
А Клещевъ опять едва не угодилъ подъ судъ: заложилъ еврею взятый напрокатъ фортепьянъ. И несмотря на все это, имѣетъ уже Станислава и чинъ коллежскаго асессора. Удивительно, что творится на этомъ свѣтѣ!
Инбиря 2 золотника, калгана 1½ зол., острой водки 1 зол., семибратней крови 5 зол.; все смѣшавъ, настоять на штофѣ водки и принимать отъ катара натощакъ по рюмкѣ.
Того же года. Іюнь, 7. Вчера хоронили Глоткина. Увы! Не въ пользу мнѣ смерть сего старца! Снится мнѣ по ночамъ въ бѣлой хламидѣ и киваетъ пальцемъ. И, о горе, горе мнѣ, окаянному: бухгалтеръ не я, а Чаликовъ. Получилъ это мѣсто не я, а молодой человѣкъ, имѣющій протекцію отъ тетки генеральши. Пропали всѣ мои надежды!
1886 г. Іюнь, 10. У Чаликова жена сбѣжала. Тоскуетъ, бѣдный. Можетъ-быть, съ горя руки на себя наложитъ. Ежели наложитъ, то я — бухгалтеръ. Объ этомъ уже разговоръ. Значитъ, надежда еще не потеряна, жить можно и, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко. Что же касается женитьбы, то я не прочь. Отчего не жениться, ежели представится хорошій случай, только нужно посовѣтоваться съ кѣмъ-нибудь, это шагъ серьезный.
Клещевъ обмѣнялся калошами съ тайнымъ совѣтникомъ Лирмансомъ. Скандалъ!
Швейцаръ Паисій посовѣтовалъ отъ катара сулему употреблять. Попробую.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1883, № 25.
Злой мальчикъ.
Иванъ Иванычъ Лапкинъ, молодой человѣкъ пріятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая дѣвушка со вздернутымъ носикомъ, спустились внизъ по крутому берегу и усѣлись на скамеечкѣ. Скамеечка стояла у самой воды, между густыми кустами молодого ивняка. Чудное мѣстечко! Сѣли вы тутъ, и вы скрыты отъ міра — видятъ васъ одни только рыбы да пауки-плауны, молніей бѣгающіе по водѣ. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками съ червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усѣвшись, они тотчасъ же принялись за рыбную ловлю.
— Я радъ, что мы, наконецъ, одни, — началъ Лапкинъ, оглядываясь. — Я долженъ сказать вамъ многое, Анна Семеновна… Очень многое… Когда я увидѣлъ васъ въ первый разъ… У васъ клюетъ… Я понялъ тогда, для чего я живу, понялъ, гдѣ мой кумиръ, которому я долженъ посвятить свою честную, трудовую жизнь.. Это, должно-быть, большая… клюетъ… Увидя васъ, я полюбилъ впервые, полюбилъ страстно! Подождите дергать… пусть лучше клюнетъ.. Скажите мнѣ, моя дорогая, заклинаю васъ, могу ли я разсчитывать — не на взаимность, нѣтъ! — этого я не стою, я не смѣю даже помыслить объ этомъ, — могу ли я разсчитывать на… Тащите!
Анна Семеновна подняла вверхъ руку съ удилищемъ, рванула и вскрикнула. Въ воздухѣ блеснула серебристо-зеленая рыбка.
— Боже мой, окунь! Ай, ахъ… Скорѣй! Сорвался!
Окунь сорвался съ крючка, запрыгалъ по травкѣ къ родной стихіи и… бултыхъ въ воду!
Въ погонѣ за рыбой Лапкинъ, вмѣсто рыбы, какъ-то нечаянно схватилъ руку Анны Семеновны, нечаянно прижалъ ее къ губамъ… Та отдернула, но уже было поздно: уста нечаянно слились въ поцѣлуй. Это вышло какъ-то нечаянно. За поцѣлуемъ слѣдовалъ другой поцѣлуй, затѣмъ клятвы, увѣренія… Счастливыя минуты! Впрочемъ, въ этой земной жизни нѣтъ ничего абсолютно-счастливаго. Счастливое обыкновенно носитъ отраву въ себѣ самомъ или же отравляется чѣмъ-нибудь, извнѣ. Такъ и на этотъ разъ. Когда молодые люди цѣловались, вдругъ послышался смѣхъ. Они взглянули на рѣку и обомлѣли: въ водѣ по поясъ стоялъ голый мальчикъ. Это былъ Коля, гимназистъ, братъ Анны Семеновны. Онъ стоялъ въ водѣ, глядѣлъ на молодыхъ людей и ехидно улыбался.
— А-а-а… вы цѣлуетесь? — сказалъ онъ. — Хорошо же! Я скажу мамашѣ.
— Надѣюсь, что вы, какъ честный человѣкъ… — забормоталъ Лапкинъ, краснѣя. — Подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко… Полагаю, что вы, какъ честный и благородный человѣкъ…
— Дайте рубль, тогда не скажу! — сказалъ благородный человѣкъ. — А то скажу.
Лапкинъ вынулъ изъ кармана рубль и подалъ его Колѣ. Тотъ сжалъ рубль въ мокромъ кулакѣ, свистнулъ и поплылъ. И молодые люда на этотъ разъ уже больше не цѣловались. На другой день Лапкинъ привезъ Колѣ изъ города краски и мячикъ, а сестра подарила ему всѣ свои коробочки изъ-подъ пилюль. Потомъ пришлось подарить и, запонки съ собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось, и, чтобы получить еще больше, онъ сталъ наблюдать. Куда Лапкинъ съ Анной Семеновной, туда и онъ. Ни на минуту не оставлялъ ихъ однихъ.
— Подлецъ! — скрежеталъ зубами Лапкинъ. — Какъ малъ, и какой уже большой подлецъ! Что же изъ него дальше будетъ?!
Весь іюнь Коля не давалъ житья бѣднымъ влюбленнымъ. Онъ грозилъ доносомъ, наблюдалъ и требовалъ подарковъ; и ему все было мало, и въ концѣ концовъ онъ сталъ поговаривать о карманныхъ часахъ. И что же? Пришлось пообѣщать часы.
Какъ-то разъ за обѣдомъ, когда подали вафли, онъ вдругъ захохоталъ, подмигнулъ однимъ глазомъ и спросилъ у Лапкина:
— Сказать? А?
Лапкинъ страшно покраснѣлъ и зажевалъ вмѣсто вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила изъ-за стола и убѣжала въ другую комнату.
И въ такомъ положеніи молодые люди находились до конца августа, до того самаго дня, когда, наконецъ, Лапкинъ сдѣлалъ Аннѣ Семеновнѣ предложеніе. О, какой это былъ счастливый день! Поговоривши съ родителями невѣсты и получивъ согласіе, Лапкинъ прежде всего побѣжалъ въ садъ и принялся искать Колю. Найдя его, онъ чуть не зарыдалъ отъ восторга и схватилъ злого мальчика за ухо. Подбѣжала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видѣть, какое наслажденіе было написано на лицахъ у влюбленныхъ, когда Коля плакалъ и умолялъ ихъ:
— Миленькіе, славненькіе, голубчики, не буду! Ай, ай, простите!
И потомъ оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены другъ въ друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающаго блаженства, какъ въ тѣ минуты, когда драли злого мальчика за уши.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1883, № 30.
То была она!
— Разскажите намъ что-нибудь, Петръ Ивановичъ! — сказали дѣвицы.
Полковникъ покрутилъ свой сѣдой усъ, крякнулъ и началъ:
— Это было въ 1813 году, когда нашъ полкъ стоялъ подъ Ченстоховымъ. А надо вамъ замѣтить, сударыни мои, зима въ томъ году стояла лютая, такъ что не проходило ни одного дня, чтобы часовые не отмораживали себѣ носовъ, или вьюга не засыпала бы снѣгомъ дорогъ. Трескучій морозище какъ сталъ въ концѣ октября, такъ и продержался вплоть до самаго апрѣля. Въ тѣ поры, надо вамъ замѣтить, я не выглядѣлъ такимъ старымъ, прокопченымъ чубукомъ, какъ теперь, а былъ, можете себѣ представить, молодецъ-молодцомъ, кровь съ молокомъ, красавецъ-мужчина, однимъ словомъ. Франтилъ я, какъ павлинъ, сорилъ деньгами направо и налѣво и закручивалъ свои усы, какъ ни одинъ прапорщикъ въ свѣтѣ. Бывало, стоило мнѣ только моргнуть глазомъ, звякнуть шпорой и крутнуть усъ — и самая гордая красавица обращалась въ послушнаго ягненка. Жаденъ я былъ до женщинъ, какъ паукъ до мухъ, и если бы, сударыни мои, я сталъ сейчасъ перечислять вамъ полячекъ и жидовочекъ, которыя въ свое время висли на моей шеѣ, то, смѣю васъ увѣрить, въ математикѣ не хватило бы чиселъ… Прибавьте ко всему этому, что я состоялъ полковымъ адъютантомъ, отлично танцовалъ мазурку и былъ женатъ на прехорошенькой женщинѣ, упокой Господи ея душу. А какой я былъ сорванецъ, буйная головушка, вы и представить себѣ не можете. Если въ уѣздѣ случалась какая-нибудь амурная кувырколлегія, если кто-нибудь вырывалъ жиду пейсы, или билъ по мордасамъ шляхтича, то такъ и знали, что это подпоручикъ Вывертовъ натворилъ.
Въ качествѣ адъютанта, мнѣ много приходилось рыскать по уѣзду. То я ѣздилъ овесъ или сѣно покупать, то продавалъ жидамъ и панамъ бракованныхъ лошадей, а чаще всего, сударыни мои, подъ видомъ службы, скакалъ къ панночкамъ на рандеву, или къ богатымъ помѣщикамъ поиграть въ картишки… Въ ночь подъ Рождество, какъ теперь помню, я ѣхалъ изъ Ченстохова въ деревню Шевелки, куда послали меня по служебнымъ надобностямъ. Погода была, я вамъ доложу, нестерпимая… Морозъ трещалъ и сердился, такъ что даже лошади крякали, а я и мой возница въ какіе-нибудь полчаса обратились въ двѣ сосульки… Съ морозомъ еще можно мириться, куда ни шло, но представьте себѣ, на полдорогѣ вдругъ поднялась метель. Бѣлый саванъ закружился, завертѣлся, какъ чортъ передъ заутреней, вѣтеръ застоналъ, точно у него жену отняли, дорога исчезла… Не больше, какъ въ десять минутъ, меня, возницу и лошадей облѣпило снѣгомъ.
— Ваше благородіе, мы съ дороги сбились! — говоритъ возница.
— Ахъ, чортъ возьми! Что же ты, болванъ, глядѣлъ? Ну, поѣзжай прямо, авось наткнемся на жилье!
Ну-съ, ѣхали мы, ѣхали, кружились-кружились, и этакъ къ полночи наши кони уперлись въ ворота имѣнія, какъ теперь помню, графа Боядловскаго, богатаго поляка. Поляки и жиды для меня все равно, что хрѣнъ послѣ обѣда, но, надо правду сказать, шляхта гостепріимный народъ, и нѣтъ горячѣй женщинъ, какъ панночки…
Насъ впустили… Самъ графъ Боядловскій жилъ въ ту пору въ Парижѣ, и насъ принялъ его управляющій, полякъ Казимиръ Хапцинскій. Помню, не прошло и часа, какъ я уже сидѣлъ во флигелѣ управляющаго, миндальничалъ съ его женой, пилъ и игралъ въ карты. Выигравъ пять червонцевъ и напившись, я попросился спать. За неимѣніемъ мѣста во флигелѣ, мнѣ отвели комнату въ графскихъ хоромахъ.
— Вы не боитесь привидѣній? — спросилъ управляющій, вводя меня въ небольшую комнату, прилегающую къ громадной пустой залѣ, полной холода и потемокъ.
— А развѣ тутъ есть привидѣнія? — спросилъ я, слушая, какъ глухое эхо повторяетъ мои слова и шаги.
— Не знаю, — засмѣялся полякъ: — но мнѣ кажется, что это мѣсто самое подходящее для привидѣній и нечистыхъ духовъ.
Я хорошо заложилъ за галстукъ и былъ пьянъ, какъ сорокъ тысячъ сапожниковъ, но, признаться, отъ такихъ словъ меня обдало холодкомъ. Чортъ побери, лучше сотня черкесовъ, чѣмъ одно привидѣніе! Но дѣлать было нечего, я раздѣлся и легъ… Моя свѣчка освѣщала стѣны еле-еле, а на стѣнахъ, можете себѣ представить, портреты предковъ, одинъ страшнѣе другого, старинное оружіе, охотничьи рога и прочая фантасмагорія… Тишина стояла, какъ въ могилѣ, только въ сосѣдней залѣ шуршали мыши и потрескивала разсохшаяся мебель. А за окномъ творилось что-то адское… Вѣтеръ отпѣвалъ кого-то, деревья гнулись съ воемъ и плачемъ; какая-то чертовщинка, должно-быть, ставня, жалобно скрипѣла и стучала по оконной рамѣ. Прибавьте ко всему этому, что у меня кружилась голова, а съ головой и весь міръ… Когда я закрывалъ глаза, мнѣ казалось, что моя кровать носилась по всему пустому дому и играла въ чехарду съ духами. Чтобы уменьшить свой страхъ, я первымъ долгомъ потушилъ свѣчу, такъ какъ пустующія комнаты при свѣтѣ гораздо страшнѣй, чѣмъ въ потемкахъ…
Три дѣвицы, слушавшія полковника, придвинулись поближе къ разсказчику и уставились на него неподвижными глазами.
— Ну-съ, — продолжалъ полковникъ: — какъ я ни старался уснуть, сонъ бѣжалъ отъ меня. То мнѣ казалось, что воры лѣзутъ въ окно, то слышался чей-то шопотъ, то кто-то касался моего плеча — вообще чудилась чертовщина, какая знакома всякому, кто когда-нибудь находился въ нервномъ напряженіи. Но можете себѣ представить, среди чертовщины и хаоса звуковъ я явственно различаю звукъ, похожій на шлепанье туфель. Прислушиваюсь — и что бы вы думали? — слышу я, кто-то подходитъ къ моей двери, кашляетъ и отворяетъ ее…
— Кто здѣсь? — спрашиваю я, поднимаясь.
— Это я… не бойся! — отвѣчаетъ женскій голосъ.
Я направился къ двери… Прошло нѣсколько секундъ, и я почувствовалъ, какъ двѣ женскія ручки, мягкія, какъ гагачій пухъ, легли мнѣ на плечи.
— Я люблю тебя… Ты для меня дороже жизни, — сказалъ женскій мелодическій голосокъ.
Горячее дыханіе коснулось моей щеки… Забывъ про метель, про духовъ, про все на свѣтѣ, я обхватилъ рукой талію… и какую талію! Такія таліи природа можетъ изготовлять только по особому заказу, разъ въ десять лѣтъ… Тонкая, точно выточенная, горячая, эфемерная, какъ дыханіе младенца! Я не выдержалъ, крѣпко сжалъ ее въ объятіяхъ… Уста наши слились въ крѣпкій, продолжительный поцѣлуй и… клянусь вамъ всѣми женщинами въ мірѣ, я до могилы не забуду этого поцѣлуя.
Полковникъ умолкъ, выпилъ полстакана воды и продолжалъ, понизивъ голосъ:
— Когда на другой день я выглянулъ въ окно, то увидѣлъ, что метель стала еще больше… ѣхать не было никакой возможности. Пришлось весь день сидѣть у управляющаго, играть въ карты и пить. Вечеромъ я опять былъ въ пустомъ домѣ, и ровно въ полночь я опять обнималъ знакомую талію… Да, барышни, если бъ не любовь, околѣлъ бы я тогда отъ скуки. Спился бы, пожалуй.
Полковникъ вздохнулъ, поднялся и молча заходилъ по гостиной.
— Но… что же дальше? — спросила одна изъ барышень, замирая отъ ожиданія.
— Ничего. На слѣдующій день я былъ уже въ дорогѣ.
— Но… кто же была та женщина? — спросили нерѣшительно барышни.
— Понятно, кто!
— Ничего не понятно…
— Это была моя жена!
Всѣ три барышни вскочили, точно ужаленныя.
— То-есть… какъ же такъ? — спросили онѣ.
— Ахъ, Господи, что же тутъ непонятнаго? — сказалъ полковникъ съ досадой и пожалъ плечами. — Вѣдь я, кажется, достаточно ясно выражался! Ѣхалъ я въ Шевелки съ женой… Ночевала она въ пустомъ домѣ, въ сосѣдней комнатѣ… Очень ясно!
— Ммм… — проговорили барышни, разочарованно опуская руки. — Начали хорошо, а кончили Богъ знаетъ какъ… Жена… Извините, но это даже не интересно и… нисколько не умно.
— Странно! Значитъ, вамъ хотѣлось бы, чтобъ это была не моя законная жена, а какая-нибудь посторонняя женщина! Ахъ, барышни, барышни! Если вы теперь такъ разсуждаете, то что же вы будете говорить, когда повыходите замужъ?
Барышни сконфузились и замолчали. Онѣ надулись, нахмурились и, совсѣмъ разочарованныя, стали громко зѣвать… За ужиномъ онѣ ничего не ѣли, катали изъ хлѣба шарики и молчали.
— Нѣтъ, это даже… безсовѣстно! — не выдержала одна изъ нихъ. — Зачѣмъ же было разсказывать, если такой конецъ? Ничего хорошаго въ этомъ разсказѣ нѣтъ… Даже дико!
— Начали такъ заманчиво и… вдругъ оборвали… — добавила другая. — Насмѣшка, и больше ничего.
— Ну, ну, ну… я пошутилъ… — сказалъ полковникъ. — Не сердитесь, барышни, я пошутилъ. То была не моя жена, а жена управляющаго…
-Да?!
Барышни вдругъ повеселѣли, глазки ихъ засверкали… Онѣ придвинулись къ полковнику и, подливая ему вина, засыпали его вопросами. Скука исчезла, исчезъ скоро и ужинъ, такъ какъ барышни стали кушать съ большимъ аппетитомъ.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1886, № 52.
Интриги.
Докторъ Шелестовъ, виновникъ инцидента 2-го октября, собирается на это засѣданіе; онъ давно уже стоитъ передъ зеркаломъ и старается придать своей физіономіи томное выраженіе. Если онъ сейчасъ явится на засѣданіе съ лицомъ взволнованнымъ, напряженнымъ, краснымъ или слишкомъ блѣднымъ, то его враги могутъ вообразить, что онъ придаетъ большое значеніе ихъ интригамъ; если же его лицо будетъ холодно, безстрастно, какъ бы заспано, такое лицо, какое бываетъ у людей, стоящихъ выше толпы и утомленныхъ жизнью, то всѣ враги, взглянувъ на него, втайнѣ проникнутся уваженіемъ и подумаютъ:
Какъ человѣкъ, котораго мало интересуютъ враги и ихъ дрязги, онъ придетъ на засѣданіе позже всѣхъ. Онъ войдетъ въ залу безшумно, томно проведетъ рукой по волосамъ и, не поглядѣвъ ни на кого, сядетъ у самаго краешка стола. Принявъ позу скучающаго слушателя, онъ чуть замѣтно зѣвнетъ, потянетъ къ себѣ какую-нибудь газету, начнетъ читать… Всѣ будутъ говорить, спорить, кипятиться, призывать другъ друга къ порядку, а онъ будетъ молчать и смотрѣть въ газету. Но вотъ, наконецъ, когда его имя станетъ повторяться все чаще и чаще и жгучій вопросъ накалится до-бѣла, онъ подниметъ скучающіе, утомленные глаза на коллегъ и скажетъ, какъ бы нехотя.
— Меня вынуждаютъ говорить… Я не готовился, господа, а потому простите, моя рѣчь будетъ недостаточно складна. Начну ab ovo12… Въ прошломъ засѣданіи нѣкоторые уважаемые товарищи заявили, что я веду себя на консиліумахъ не такъ, какъ имъ хочется, и потребовали отъ меня объясненій. Находя объясненія излишними, а обвиненіе недобросовѣстнымъ, я попросилъ исключить меня изъ числа членовъ общества и удалился. Теперь же, когда на меня возводится новая серія обвиненій, я, къ прискорбію, вижу, что мнѣ не обойтись безъ объясненій. Извольте, я объяснюсь.
Далѣе, небрежно играя карандашомъ или цѣпочкой, онъ скажетъ, что, дѣйствительно, на консиліумахъ онъ иногда возвышаетъ голосъ и обрываетъ коллегъ, не стѣсняясь присутствіемъ постороннихъ; правда и то, что онъ однажды на консиліумѣ, въ присутствіи врачей и родныхъ, спросилъ у больного: «Какой это дуракъ прописалъ вамъ опіумъ?» Рѣдкій консиліумъ обходится безъ инцидента… Но почему? Очень просто. На консиліумахъ его, Шелестова, всегда поражаетъ въ товарищахъ низкій уровень знаній. Въ городѣ врачей тридцать два, и большинство изъ нихъ знаетъ меньше, чѣмъ любой студентъ перваго курса. За примѣрами ходить недалеко. Конечно, nomina sunt odiosa13, но на засѣданіи все люди свои, и къ тому же, чтобы не казаться голословнымъ, можно назвать имена. Напримѣръ, всѣмъ извѣстно, что уважаемый товарищъ фонъ-Бронъ проткнулъ зондомъ пищеводъ чиновницѣ Сережкиной…
Въ это время фонъ-Бронъ вскочитъ, всплеснетъ руками и завопіетъ.
— Коллега, это вы проткнули, а не я! Вы! И я это докажу вамъ!
Шелестовъ не обратитъ на него вниманія и будетъ продолжать;
— Всѣмъ также извѣстно, что уважаемый коллега Жила у актрисы Семирамидиной принялъ блуждающую почку за абсцессъ и сдѣлалъ пробный проколъ, отчего и послѣдовалъ въ скорости exitus letalis14. Уважаемый товарищъ Безструнко, вмѣсто того, чтобы вылущить ноготь на большомъ пальцѣ лѣвой ноги, вылущилъ здоровый ноготь на правой ногѣ. Не могу также не напомнить вамъ случая, когда уважаемый товарищъ Терхарьянцъ съ такимъ усердіемъ катетеризовалъ у солдата Иванова евстахіевы трубы, что у больного лопнули обѣ барабанныя перепонки. Припоминаю кстати, какъ этотъ же самый товарищъ, извлекая зубъ, вывихнулъ больному нижнюю челюсть и не вправилъ ее до тѣхъ поръ, пока больной не согласился уплатить ему за вправленіе пять рублей. Уважаемый товарищъ Курицынъ женатъ на племянницѣ аптекаря Груммеръ и находится съ нимъ въ стачкѣ. Всѣмъ также извѣстно, что секретарь нашего Общества, молодой товарищъ Скоропалительный, живетъ съ женою нашего достоуважаемаго и почтеннаго предсѣдателя Густава Густавовича Прехтеля… Отъ низкаго уровня знаній я незамѣтно перешелъ къ погрѣшностямъ этическаго свойства. Тѣмъ лучше. Этика — наше больное мѣсто, господа, и чтобы не казаться голословнымъ, я назову вамъ уважаемаго товарища Пузырькова, который, будучи на именинахъ у полковницы Трещинской, разсказывалъ, что будто бы съ женою нашего предсѣдателя живетъ не Скоропалительный, а я! Это смѣетъ говорить тотъ самый господинъ Пузырьковъ, котораго я въ прошломъ году засталъ съ женою уважаемаго товарища Знобиша! Кстати о докторѣ Знобишъ… Кто пользуется репутаціей врача, у котораго лѣчиться дамамъ не совсѣмъ безопасно? — Знобишъ… Кто женился на купеческой дочери изъ-за приданаго? — Знобишъ! Что же касается нашего всѣми уважаемаго предсѣдателя, то онъ занимается втайнѣ гомеопатіей и получаетъ деньги отъ пруссаковъ за шпіонство. Прусскій шпіонъ — это ужъ ultima ratio! 15!
Доктора, когда хотятъ казаться умными и краснорѣчивыми, употребляютъ два латинскія выраженія: nomina sunt odiosa и ultima ratio. Шелестовъ будетъ говорить не только по-латыни, но и по-французски и по-нѣмецки — какъ угодно! Онъ будетъ выводить всѣхъ на чистую воду, срывать съ интригановъ маски; предсѣдатель утомится звонить, уважаемые товарищи повскакиваютъ со своихъ мѣстъ, завопіютъ, замашутъ руками… Товарищи іудейскаго вѣроисповѣданія соберутся въ кучку и загалдятъ:
— Гал-гал-гал-гал-гал…
Шелестовъ же, ни на что не глядя, будетъ продолжать:
— Что же касается всего Общества, то, при настоящемъ его составѣ и порядкахъ, оно неминуемо должно погибнуть. Все въ немъ построено исключительно на интригахъ. Интриги, интриги и интриги! Я, какъ одна изъ жертвъ этой сплошной, демонической интриги, считаю себя обязаннымъ изложить слѣдующее…
Онъ будетъ излагать, а его партія апплодировать и торжествующе потирать руки. И вотъ, среди невообразимаго гвалта и раскатовъ грома, начинаются выборы предсѣдателя. Фонъ-Бронъ и К° горой стоятъ за Прехтеля, но публика и благомыслящіе врачи шикаютъ имъ и кричатъ:
— Долой Прехтеля! Просимъ Шелестова! Шелестова!
Шелестовъ соглашается, но съ условіемъ, что Прехтель и фонъ-Бронъ попросятъ у него извиненія за инцидентъ 2-го октября. Опять подымается невообразимый шумъ, и опять уважаемые товарищи іудейскаго вѣроисповѣданія собираются въ кучку и — «гал-гал-гал»… Прехтель и фонъ-Бронъ, возмущенные, кончаютъ тѣмъ, что просятъ не считать ихъ болѣе членами Общества. И прекрасно!
Шелестовъ — предсѣдатель. Прежде всего онъ почиститъ авгіевы конюшни. Знобиша — вонъ! Терхарьянца — вонъ! Уважаемыхъ товарищей іудейскаго вѣроисповѣданія — вонъ! Со своей партіей онъ сдѣлаетъ то, что къ январю въ Обществѣ не останется ни одного интригана. Въ лѣчебницѣ Общества онъ прежде всего велитъ покрасить въ амбулаторной стѣны и вывѣсить объявленіе: «Курить строго запрещается»; засимъ онъ прогонитъ фельдшера и фельдшерицу, лѣкарства будетъ забирать не у Груммера, а у Хрящамбжицкаго, врачамъ предложитъ не дѣлать ни одной операціи безъ его наблюденія и т. п. А главное, онъ у себя на визитныхъ карточкахъ будетъ печатать: «Предсѣдатель Общества N-скихъ врачей».
Такъ мечтаетъ Шелестовъ, стоя у себя дома передъ зеркаломъ. Но вотъ часы бьютъ семь и напоминаютъ ему, что пора уже ѣхать на засѣданіе. Онъ пробуждается отъ сладкихъ мечтаній и спѣшитъ придать своему лицу томное выраженіе, но — увы! — хочетъ онъ сдѣлать лицо томнымъ и интереснымъ, а оно не слушается и становится кислымъ, тупымъ, какъ у озябшаго дворняшки-щенка; хочетъ онъ сдѣлать его солиднымъ, а оно вытягивается и выражаетъ недоумѣніе, и ему теперь кажется, что онъ похожъ не на щенка, а на гуся. Онъ опускаетъ вѣки, щуритъ глаза, надуваетъ щеки, морщитъ лобъ, но — хоть плюнь! — выходитъ совсѣмъ не то, что хотѣлось бы. Таковы ужъ, должно-быть, природныя свойства этого лица, что съ нимъ ничего не подѣлаешь. Лобъ узенькій, маленькіе глазки бѣгаютъ быстро, какъ у плутоватой торговки, нижняя челюсть какъ-то глупо и нелѣпо торчитъ впередъ, а щеки и шевелюра имѣютъ такой видъ, точно «уважаемаго товарища» минуту назадъ вытолкали изъ бильярдной.
Глядитъ Шелестовъ на это свое лицо, злится, и ему начинаетъ казаться, что и оно интригуетъ противъ него. Идетъ онъ въ переднюю, одѣвается, и кажется ему, что интригуютъ и шуба, и калоши, и шапка.
— Извозчикъ, въ лѣчебницу! — кричитъ онъ.
Даетъ онъ двугривенный, а интриганы-извозчики просятъ четвертакъ… Садится онъ въ пролетку, ѣдетъ, а холодный вѣтеръ бьетъ ему въ лицо, мокрый снѣгъ застилаетъ глаза, лошаденка плетется еле-еле. Все сговорилось и все интригуетъ… Интриги, интриги и интриги!
Юмористическій журналъ «Осколки», 1887, № 43.
Въ почтовомъ отдѣленіи.
Хоронили мы какъ-то на-дняхъ молоденькую жену нашего стараго почтмейстера Сладкоперцева. Закопавши красавицу, мы, по обычаю дѣдовъ и отцовъ, отправились въ почтовое отдѣленіе «помянуть».
Когда были поданы блины, старикъ-вдовецъ горько заплакалъ и сказалъ:
— Блины такіе же румяненькіе, какъ и покойница. Такіе же красавцы! Точь-въ-точь!
— Да, — согласились поминавшіе: — она у васъ, дѣйствительно, была красавица… Женщина первый сортъ!
— Да-съ… Всѣ удивлялись, на нее глядючи… Но, господа, любилъ я ее не за красоту и не за добрый нравъ. Эти два качества присущественны всей женской природѣ и встрѣчаются довольно часто въ подлунномъ мірѣ. Я ее любилъ за иное качество души. А именно-съ: любилъ я ее, покойницу, дай Богъ ей царство небесное, за то, что она, при бойкости и игривости своего характера, мужу своему была вѣрна. Она была вѣрна мнѣ, несмотря на то, что ей было только двадцать, а мнѣ скоро ужъ шестьдесятъ стукнетъ! Она была вѣрна мнѣ, старику!
Дьяконъ, трапезовавшій съ нами, краснорѣчивымъ мычаніемъ и кашлемъ выразилъ свое сомнѣніе.
— Вы не вѣрите, стало-быть? — обратился къ нему вдовецъ.
— Не то, что не вѣрю, — смутился дьяконъ: — а такъ… Молодыя жены нынче ужъ слишкомъ тово… рандеву, соусъ провансаль…
— Вы сомнѣваетесь, а я вамъ докажу-съ! Я въ ней поддерживалъ ея вѣрность разными способами, такъ сказать, стратегическаго свойства, въ родѣ какъ бы фортификаціи. При моемъ поведеніи и хитромъ характерѣ жена моя не могла измѣнить мнѣ ни въ какомъ случаѣ. Я хитрость употреблялъ для охраненія своего супружескаго ложа. Слова такія знаю, въ родѣ какъ бы пароль. Скажу эти самыя слова и — баста, могу спать въ спокойствіи насчетъ вѣрности…
— Какія же это слова?
— Самыя простыя. Я распространялъ по городу нехорошій слухъ. Вамъ этотъ слухъ доподлинно извѣстенъ. Я говорилъ всякому: «Жена моя Алена находится въ сожительствѣ съ нашимъ полицеймейстеромъ Иваномъ Алексѣичемъ Залихватскимъ». Этихъ словъ было достаточно. Ни одинъ человѣкъ не осмѣливался ухаживать за Аленой, ибо боялся полицеймейстерскаго гнѣва. Какъ, бывало, увидятъ ее, такъ и бѣгутъ прочь, чтобъ Залихватскій чего не подумалъ. Хе-хе-хе. Вѣдь съ этимъ усастымъ идоломъ свяжись, такъ потомъ не радъ будешь, пять протоколовъ составитъ насчетъ санитарнаго состоянія. Къ примѣру, увидитъ твою кошку на улицѣ и составитъ протоколъ, какъ будто это бродячій скотъ.
— Такъ жена ваша, значитъ, не жила съ Иваномъ Алексѣичемъ? — удивились мы протяжно.
— Нѣтъ-съ, это моя хитрость… Хе-хе… Что, ловко надувалъ я васъ, молодежь? То-то вотъ оно и есть.
Прошло минуты три въ молчаніи. Мы сидѣли и молчали, и намъ было обидно и совѣстно, что насъ такъ хитро провелъ этотъ толстый, красноносый старикъ.
— Ну, Богъ дастъ, въ другой разъ женишься! — проворчалъ дьяконъ.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1883, № 44.
Мужъ.
N-скій кавалерійскій полкъ, маневрируя, остановился на ночевку въ уѣздномъ городишкѣ К. Такое событіе, какъ ночевка гг. офицеровъ, дѣйствуетъ всегда на обывателей самымъ возбуждающимъ и вдохновляющимъ образомъ. Лавочники, мечтающіе о сбытѣ лежалой заржавленной колбасы и «самыхъ лучшихъ» сардинокъ, которыя лежатъ на полкѣ уже десять лѣтъ, трактирщики и прочіе промышленники не закрываютъ своихъ заведеній въ теченіе всей ночи; воинскій начальникъ, его дѣлопроизводитель и мѣстная гарниза надѣваютъ лучшіе мундиры; полиція снуетъ, какъ угорѣлая, а съ дамами дѣлается чортъ знаетъ что!
N-скія дамы, заслышавъ приближеніе полка, бросили горячіе тазы съ вареньемъ и выбѣжали на улицу. Забывъ про свое дезабилье и растрепанный видъ, тяжело дыша и замирая, онѣ стремились навстрѣчу полку и жадно вслушивались въ звуки марша. Глядя на ихъ блѣдныя вдохновенныя лица, можно было подумать, что эти звуки неслись не изъ солдатскихъ трубъ, а съ неба.
— Полкъ! — говорили онѣ радостно. — Полкъ идетъ!
А на что понадобился имъ этотъ незнакомый, случайно зашедшій полкъ, который уйдетъ завтра же на разсвѣтѣ? Когда потомъ гг. офицеры стояли среди площади и, заложивъ руки назадъ, рѣшали квартирный вопросъ, всѣ онѣ сидѣли въ квартирѣ слѣдовательши и взапуски критиковали полкъ. Имъ было уже, Богъ вѣсть откуда, извѣстно, что командиръ женатъ, но не живетъ съ женой, что у старшаго офицера родятся ежегодно мертвыя дѣти, что адъютантъ безнадежно влюбленъ въ какую-то графиню и даже разъ покушался на самоубійство. Извѣстно имъ было все. Когда подъ окнами мелькнулъ рябой солдатъ въ красной рубахѣ, онѣ отлично знали, что это денщикъ подпоручика Рымзова бѣгаетъ по городу и ищетъ для своего барина въ долгъ англійской горькой. Офицеровъ видѣли онѣ только мелькомъ и въ спины, но уже рѣшили, что между ними нѣтъ ни одного хорошенькаго и интереснаго… Наговорившись, онѣ вытребовали къ себѣ воинскаго начальника и старшинъ клуба и приказали имъ устроитъ во что бы то ни стало танцовальный вечеръ.
Желаніе ихъ было исполнено. Въ девятомъ часу вечера на улицѣ передъ клубомъ гремѣлъ военный оркестръ, а въ самомъ клубѣ гг. офицеры танцовали съ N-скими дамами. Дамы чувствовали себя на крыльяхъ. Упоенныя танцами, музыкой и звономъ шпоръ, онѣ всей душой отдались мимолетному знакомству и совсѣмъ забыли про своихъ штатскихъ. Ихъ отцы и мужья, отошедшіе на самый задній планъ, толпились въ передней около тощаго буфета. Всѣ эти казначеи, секретари и надзиратели, испитые, геморроидальные и мѣшковатые, отлично сознавали свою убогость и не входили въ залу, а только издали поглядывали, какъ ихъ жены и дочери танцовали съ ловкими и стройными поручиками.
Между мужьями находился акцизный Кириллъ Петровичъ Шаликовъ, существо пьяное, узкое и злое, съ большой стриженой головой и съ жирными, отвислыми губами. Когда-то онъ былъ въ университетѣ, читалъ Писарева и Добролюбова, пѣлъ пѣсни, а теперь онъ говорилъ про себя, что онъ коллежскій асессоръ и больше ничего. Онъ стоялъ, прислонившись къ косяку, и не отрывалъ глазъ отъ своей жены. Его жена, Анна Павловна, маленькая брюнетка лѣтъ тридцати, длинноносая, съ острымъ подбородкомъ, напудренная и затянутая, танцовала безъ передышки, до упада. Танцы утомили ее, но изнемогала она тѣломъ, а не душой… Вся ея фигура выражала восторгъ и наслажденіе. Грудь ея волновалась, на щекахъ играли красныя пятнышки, всѣ движенія были томны, плавны; видно было, что, танцуя, она вспоминала свое прошлое, то давнее прошлое, когда она танцовала въ институтѣ и мечтала о роскошной, веселой жизни и когда была увѣрена, что у нея будетъ мужемъ, непремѣнно баронъ или князь.
Акцизный глядѣлъ на нее и морщился отъ злости… Ревности онъ не чувствовалъ, но ему непріятно было, во-первыхъ, что благодаря танцамъ, негдѣ было играть въ карты; во-вторыхъ, онъ терпѣть не могъ духовой музыки; въ-третьихъ, ему казалось, что гг. офицеры слишкомъ небрежно и свысока обращаются со штатскими, а самое главное, въ-четвертыхъ, его возмущало и приводило въ негодованіе выраженіе блаженства на жениномъ лицѣ…
— Глядѣть противно! — бормоталъ онъ. — Скоро уже сорокъ лѣтъ, ни кожи, ни рожи, а тоже поди ты, напудрилась, завилась, корсетъ надѣла! Кокетничаетъ, жеманничаетъ и воображаетъ, что это у нея хорошо выходитъ… Ахъ, скажите, какъ вы прекрасны!
Анна Павловна такъ ушла въ танцы, что ни разу не взглянула на своего мужа.
— Конечно, гдѣ намъ, мужикамъ! — злорадствовалъ акцизный. — Теперь мы за штатомъ… Мы тюлени, уѣздные медвѣди! А она царица бала; она вѣдь настолько еще сохранилась, что даже офицеры ею интересоваться могутъ. Пожалуй, и влюбиться не прочь.
Во время мазурки лицо акцизнаго перекосило отъ злости. Съ Анной Павловной танцовалъ мазурку черный офицеръ съ выпученными глазами и съ татарскими скулами. Онъ работалъ ногами серьезно и съ чувствомъ, дѣлая строгое лицо, и такъ выворачивалъ колѣни, что походилъ на игрушечнаго паяца, котораго дергаютъ за ниточку. А Анна Павловна, блѣдная, трепещущая, согнувъ томно станъ и закатывая глаза, старалась дѣлать видъ, что она едва касается земли, и, повидимому, ей самой казалось, что она не на землѣ, не въ уѣздномъ клубѣ, а гдѣ-то далеко-далеко — на облакахъ! Не одно только лицо, но уже все тѣло выражало блаженство… Акцизному стало невыносимо; ему захотѣлось насмѣяться надъ этимъ блаженствомъ, дать почувствовать Аннѣ Павловнѣ, что она забылась, что жизнь вовсе не такъ прекрасна, какъ ей теперь кажется въ упоеніи…
— Погоди, я покажу тебѣ, какъ блаженно улыбаться! — бормоталъ онъ. — Ты не институтка, не дѣвочка. Старая рожа должна понимать, что она рожа!
Мелкія чувства зависти, досады, оскорбленнаго самолюбія, маленькаго, уѣзднаго человѣконенавистничества, того самаго, которое заводится въ маленькихъ чиновникахъ отъ водки и отъ сидячей жизни, закопошились въ немъ, какъ мыши… Дождавшись конца мазурки, онъ вошелъ въ залу и направился къ женѣ. Анна Павловна сидѣла въ это время съ кавалеромъ и, обмахиваясь вѣеромъ, кокетливо щурила глаза и разсказывала, какъ она когда-то танцовала въ Петербургѣ. (Губы у нея были сложены сердечкомъ и произносила она такъ: — «У насъ въ Пютюрбюргѣ»).
— Анюта, пойдемъ домой! — прохрипѣлъ акцизный. Увидѣвъ передъ собой мужа, Анна Павловна сначала вздрогнула, какъ бы вспомнивъ, что у нея есть мужъ, потомъ вся вспыхнула: ей стало стыдно что у нея такой испитой, угрюмый, обыкновенный мужъ…
— Пойдемъ домой! — повторилъ акцизный.
— Зачѣмъ? Вѣдь еще рано!
— Я прошу тебя идти домой! — сказалъ акцизный съ разстановкой, дѣлая злое лицо.
— Зачѣмъ? Развѣ что случилось? — встревожилась Анна Павловна.
— Ничего не случилось, но я желаю, чтобъ ты сію минуту шла домой… Желаю, вотъ и все, и пожалуйста, безъ разговоровъ.
Анна Павловна не боялась мужа, но ей было стыдно кавалера, который удивленно и насмѣшливо поглядывалъ на акцизнаго. Она поднялась и отошла съ мужемъ въ сторону.
— Что ты выдумалъ? — начала она. — Зачѣмъ мнѣ домой? Вѣдь еще и одиннадцати часовъ нѣтъ!
— Я желаю, и баста! Изволь идти — и все тутъ.
— Перестань выдумывать глупости! Ступай самъ, если хочешь.
— Ну, такъ я скандалъ сдѣлаю!
Акцизный видѣлъ, какъ выраженіе блаженства постепенно сползало съ лица его жены, какъ ей было стыдно и какъ она страдала — и у него стало какъ будто легче на душѣ.
— Зачѣмъ я тебѣ сейчасъ понадобилась? — спросила жена.
— Ты не нужна мнѣ, но я желаю, чтобъ ты сидѣла дома. Желаю, вотъ и все.
Анна Павловна не хотѣла и слушать, потомъ начала умолять, чтобы мужъ позволилъ ей остаться еще хоть полчаса; потомъ, сама не зная зачѣмъ, извинялась, клялась — и все это шопотомъ, съ улыбкой, чтобы публика не подумала, что у нея съ мужемъ недоразумѣніе. Она стала увѣрять, что останется еще недолго, только десять минутъ, только пять минуть; но акцизный упрямо стоялъ на своемъ.
— Какъ хочешь, оставайся! Только я скандалъ сдѣлаю. И, разговаривая теперь съ мужемъ, Анна Павловна осунулась, похудѣла и постарѣла. Блѣдная, кусая губы и чуть не плача, она пошла въ переднюю и стала одѣваться…
— Куда же вы? — удивлялись N-скія дамы. — Анна Павловна, куда же вы это, милочка?
— Голова заболѣла, — говорилъ за жену акцизный. Выйдя изъ клуба, супруги до самаго дома шли молча.
Акцизный шелъ сзади жены и, глядя на ея согнувшуюся, убитую горемъ и униженную фигурку, припоминалъ блаженство, которое такъ раздражало его въ клубѣ, и сознаніе, что блаженства уже нѣтъ, наполняло его душу побѣднымъ чувствомъ. Онъ былъ радъ и доволенъ, и въ то же время ему недоставало чего-то и хотѣлось вернуться въ клубъ и сдѣлать такъ, чтобы всѣмъ стало скучно и горько, и чтобы всѣ почувствовали, какъ ничтожна, плоска эта жизнь, когда вотъ идешь въ потемкахъ по улицѣ и слышишь, какъ всхлипываетъ подъ ногами грязь, и когда знаешь, что проснешься завтра утромъ — и опять ничего, кромѣ водки и кромѣ картъ! О, какъ это ужасно!
А Анна Павловна едва шла… Она была все еще подъ впечатлѣніемъ танцевъ, музыки, разговоровъ, блеска, шума; она шла и спрашивала себя: за что ее покаралъ такъ Господь Богъ? Было ей горько, обидно и душно отъ ненависти, съ которой она прислушивалась къ тяжелымъ шагамъ мужа. Она молчала и старалась придумать какое-нибудь самое бранное, ѣдкое и ядовитое слово, чтобы пустить его мужу, и въ то же время сознавала, что ея акцизнаго не проймешь никакими словами. Что ему слова? Безпомощнѣе состоянія не могъ бы придумать и злѣйшій врагъ.
А музыка между тѣмъ гремѣла, и потемки были полны самыхъ плясовыхъ, зажигательныхъ звуковъ.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1886, № 32.
Въ номерахъ.
— Послушайте, милѣйшій! — набросилась на хозяина багровая и брызжущая жилица 47-го номера, полковница Нашатырина. — Или дайте мнѣ другой номеръ, или же я совсѣмъ уѣду изъ вашихъ проклятыхъ номеровъ! Это вертепъ! Помилуйте, у меня дочери взрослыя, а тутъ день, и ночь однѣ только мерзости слышишь! На что это похоже? День и ночь! Иной разъ онъ такое выпалитъ, что просто уши вянутъ! Просто какъ извозчикъ! Хорошо еще, что мои бѣдныя дѣвочки ничего не понимаютъ, а то хоть на улицу съ ними бѣги… Онъ и сейчасъ что-то говоритъ! Вы послушайте!
— Я, братецъ ты мой, еще лучше случай знаю, — донесся хриплый басъ изъ сосѣдняго номера. — Помнишь ты поручика Дружкова? Такъ вотъ этотъ самый Дружковъ дѣлаетъ однажды клопштосомъ желтаго въ уголъ и по обыкновенію, знаешь, высоко ногу задралъ… Вдругъ что-то: тррресь! Думали сначала, что онъ на бильярдѣ сукно порвалъ, а какъ поглядѣли, братецъ ты мой, у него Соединенные Штаты по всѣмъ швамъ! Такъ высоко задралъ, бестія, ногу, что ни одного шва не осталось… Ха-ха-ха. А тутъ въ это время дамы были… между прочимъ, жена этой слюни — подпоручика Окурина… Окуринъ взбѣленился… Какъ онъ, молъ, смѣетъ вести себя неприлично при его женѣ? Слово за слово… знаешь вѣдь нашихъ!… Посылаетъ Окуринъ къ Дружкову секундантовъ, а Дружковъ не будь глупъ и скажи… ха-ха-ха… и скажи: — «Пусть онъ посылаетъ не ко мнѣ, а къ портному, который шилъ мнѣ эти штаны. Онъ вѣдь виноватъ!» — Ха-ха-ха… Ха-ха-ха!
Лиля и Мила, дочки полковницы, сидѣвшія у окна и подпиравшія кулаками пухлыя щеки, потупили заплывшіе глазки и вспыхнули.
— Теперь вы слышали? — продолжала Нашатырина, обращаясь къ хозяину. — И это, по-вашему, ничего? Я, милостивый государь, полковница! Мужъ мой воинскимъ начальникомъ! Я не позволю, чтобы почти въ моемъ присутствіи какой-нибудь извозчикъ говорилъ такія мерзости!
— Онъ, сударыня, не извозчикъ, а штабсъ-капитанъ Кикинъ… Изъ благородныхъ-съ.
— Если онъ забылъ свое благородство до такой степени, что выражается, какъ извозчикъ, то онъ заслуживаетъ еще большаго презрѣнія! Однимъ словомъ, не разсуждайте, а извольте принять мѣры!
— Но что же я могу сдѣлать, сударыня? Не вы однѣ жалуетесь, всѣ жалуются, — да что же я съ нимъ сдѣлаю? Придешь къ нему въ номеръ и начнешь стыдить: «Ганнибалъ Иванычъ! Бога побойтесь! Совѣстно!», а онъ сейчасъ къ лицу съ кулаками и разныя слова: «Накося выкуси» и прочее. Безобразіе! Проснется утромъ и давай ходить по коридору въ одномъ, извините, нижнемъ. А то вотъ возьметъ револьверъ въ пьяномъ видѣ и давай садить пули въ стѣну. Днемъ винище трескаетъ, ночью въ карты рѣжется… А послѣ картъ драка… Отъ жильцовъ совѣстно!
— Что же вы не откажете этому негодяю?
— Да нетто выкуришь этакого? Задолжалъ за три мѣсяца, ужъ мы и денегъ не просимъ, уходи только, сдѣлай милость… Мировой присудилъ ему номеръ очистить, а онъ и на аппеляцію, и на кассацію, да такъ и тянетъ… Горе, да и только! Господи, а человѣкъ-то какой! Молодой, красивый, умственный… Когда не выпивши, лучше и человѣка не надо. Намедни пьянъ не былъ и весь день родителямъ письма писалъ.
— Бѣдные родители! — вздохнула полковница.
— Извѣстно, бѣдные! Нешто пріятно имѣть такого лодыря? И ругаютъ его, и изъ номеровъ гонятъ, и нѣтъ того дня, чтобъ за скандалы не судился. Горе!
— Бѣдная, несчастная жена! — вздохнула полковница.
— Онъ, сударыня, не женатъ. Гдѣ ужъ ему! Была бы цѣла одна голова — и за то благодарить Бога…
Полковница прошлась изъ угла въ уголъ.
— Не женатый, вы говорите? — спросила она.
— Никакъ нѣтъ, сударыня.
Полковница опять прошлась изъ угла въ уголъ и подумала немного.
— Гм!… Не женатъ… — проговорила она въ раздумьи. — Гм!… Лиля и Мила, не сидите у окна — сквозитъ! Какъ жаль! Молодой человѣкъ и такъ себя распустилъ! А все отчего? Вліянія хорошаго нѣтъ! Нѣтъ матери, которая бы… Не женатъ? Ну, вотъ… такъ и есть… Пожалуйста, будьте такъ добры, — продолжала полковница мягко, подумавъ: — сходите къ нему и отъ моего имени попросите, чтобы онъ… воздержался отъ выраженій… Скажите: полковница Нашатырина просила… Съ дочерями, скажите, въ 47-мъ номерѣ живетъ… изъ своего имѣнія пріѣхала…
— Слушаю-съ.
— Такъ и скажите: полковница съ дочерями. Пусть хоть придетъ извиниться… Мы послѣ обѣда всегда дома. Ахъ, Мила, закрой окно!
— Ну, на что вамъ, мама, сдался этотъ… забулдыга? — протянула Лиля по уходѣ хозяина. — Нашли кого приглашать! Пьяница, буянъ, оборванецъ!
— Ахъ, не говори, ma chère!… Вы вѣчно такъ говорите, ну и… сидите вотъ! Что жъ? Какой бы онъ ни былъ, а все же пренебрегать не слѣдуетъ… Всякъ злакъ на пользу человѣка. Кто знаетъ? — вздохнула полковница, заботливо оглядывая дочерей. — Можетъ-быть, тутъ ваша судьба. Одѣньтесь-же на всякій случай…
Юмористическій журналъ «Осколки», 1885, № 20.
Гриша.
Гриша, маленькій, пухлый мальчикъ, родившійся два года и восемь мѣсяцевъ тому назадъ, гуляетъ съ нянькой по бульвару. На немъ длинный ватный бурнусикъ, шарфъ, большая шапка съ мохнатой пуговкой и теплыя калоши. Ему душно и жарко, а тутъ еще разгулявшееся апрѣльское солнце бьетъ, прямо въ глаза и щиплетъ вѣки.
Вся его неуклюжая, робко, неувѣренно шагающая фигура выражаетъ крайнее недоумѣніе.
До сихъ поръ Гриша зналъ одинъ только четырехъ-угольный міръ, гдѣ въ одномъ углу стоитъ его кровать, въ другомъ — нянькинъ сундукъ, въ третьемъ — стулъ, а въ четвертомъ — горитъ лампадка. Если взглянуть подъ кровать, то увидишь куклу съ отломанной рукой и барабанъ, а за нянькинымъ сундукомъ очень много разныхъ вещей: катушки отъ нитокъ, бумажки, коробка безъ крышки и сломанный паяцъ. Въ этомъ мірѣ, кромѣ няни и Гриши, часто бываетъ мама и кошка. Мама похожа на куклу, а кошка на папину шубу, только у шубы нѣтъ глазъ и хвоста. Изъ міра, который называется дѣтской, дверь ведетъ въ пространство, гдѣ обѣдаютъ и пьютъ чай. Тутъ стоитъ Гришинъ стулъ на высокихъ ножкахъ и висятъ часы, существующіе для того только, чтобы махать маятникомъ и звонить. Изъ столовой можно пройти въ комнату, гдѣ стоятъ красныя кресла. Тутъ на коврѣ темнѣетъ пятно, за которое Гришѣ до сихъ поръ грозятъ пальцами. За этой комнатой есть еще другая, куда не пускаютъ и гдѣ мелькаетъ папа — личность въ высшей степени загадочная! Няня и мама понятны: онѣ одѣваютъ Гришу, кормятъ и укладываютъ его спать, но для чего существуетъ папа — неизвѣстно. Еще есть другая загадочная личность — это тетя, которая подарила Гришѣ барабанъ. Она то появляется, то исчезаетъ. Куда она исчезаетъ? Гриша не разъ заглядывалъ подъ кровать, за сундукъ и подъ диванъ, но тамъ ея не было…
Въ этомъ же новомъ мірѣ, гдѣ солнце рѣжетъ глаза, столько папъ, мамъ и теть, что не знаешь, къ кому и подбѣжать. Но страннѣе и нелѣпѣе всего — лошади. Гриша глядитъ на ихъ двигающіяся ноги и ничего не можетъ понять. Глядитъ на няньку, чтобы та разрѣшила его недоумѣніе, но та молчитъ.
Вдругъ онъ слышитъ страшный топотъ… По бульвару, мѣрно шагая, двигается прямо на него толпа солдатъ съ красными лицами и съ банными вѣниками подъ мышкой. Гриша весь холодѣетъ отъ ужаса и глядитъ вопросительно на няньку: не опасно ли? Но нянька не бѣжитъ и не плачетъ, — значитъ, не опасно. Гриша провожаетъ глазами солдатъ и самъ начинаетъ шагать имъ въ тактъ.
Черезъ бульваръ перебѣгаютъ двѣ большія кошки съ длинными мордами, съ высунутыми языками и съ задранными вверхъ хвостами. Гриша думаетъ, что и ему тоже нужно бѣжать, и бѣжитъ за кошками.
— Стой! — кричитъ ему нянька, грубо хватая его за плечи. — Куда ты? Нешто тебѣ велѣно шалить?
Вотъ какая-то няня сидитъ и держитъ маленькое корыто съ апельсинами. Гриша проходитъ мимо нея и молча беретъ себѣ одинъ апельсинъ.
— Это ты зачѣмъ же? — кричитъ его спутница, хлопая его по рукѣ и вырывая апельсинъ. — Дуракъ!
Теперь Гриша съ удовольствіемъ бы поднялъ стеклышко, которое валяется подъ ногами и сверкаетъ какъ лампадка, но онъ боится, что его опять ударятъ по рукѣ.
— Мое вамъ почтеніе! — слышитъ вдругъ Гриша почти надъ самымъ ухомъ чей-то громкій, густой голосъ и видитъ высокаго человѣка со свѣтлыми пуговицами.
Къ великому его удовольствію, этотъ человѣкъ подаетъ нянькѣ руку, останавливается съ ней и начинаетъ разговаривать. Блескъ солнца, шумъ экипажей, лошади, свѣтлыя пуговицы, все это такъ поразительно ново и не страшно, что душа Гриши наполняется чувствомъ наслажденія и онъ начинаетъ хохотать.
— Пойдемъ! Пойдемъ! — кричитъ онъ человѣку со свѣтлыми пуговицами, дергая его за фалду.
— Куда пойдемъ? — спрашиваетъ человѣкъ.
— Пойдемъ! — настаиваетъ Гриша.
Ему хочется сказать, что не дурно бы также прихватить съ собой папу, маму и кошку, но языкъ говоритъ совсѣмъ не то, что нужно.
Немного погодя, нянька сворачиваетъ съ бульвара и вводитъ Гришу въ большой дворъ, гдѣ есть еще снѣгъ. И человѣкъ со свѣтлыми пуговицами тоже идетъ за ними. Минуютъ старательно снѣговыя глыбы и лужи, потомъ по грязной, темной лѣстницѣ входятъ въ комнату. Тутъ много дыма, пахнетъ жаркимъ, и какая-то женщина стоитъ около печки и жаритъ котлеты. Кухарка и нянька цѣлуются и вмѣстѣ съ человѣкомъ садятся на скамью и начинаютъ говоритъ тихо. Гришѣ, окутанному, становится невыносимо жарко и душно.
«Отчего бы это?» — думаетъ онъ, оглядываясь.
Видитъ онъ темный потолокъ, ухватъ съ двумя рогами, печку, которая глядитъ большимъ, чернымъ дупломъ…
— Ма-а-ма! — тянетъ онъ.
— Ну, ну, ну! — кричитъ нянька. — Подождешь!
Кухарка ставитъ на столъ бутылку, двѣ рюмки и пирогъ. Двѣ женщины и человѣкъ со свѣтлыми пуговицами чокаются и пьютъ по нѣскольку разъ, и человѣкъ обнимаетъ то няньку, то кухарку. И потомъ всѣ трое начинаютъ тихо пѣть.
Гриша тянется къ пирогу, и ему даютъ кусочекъ. Онъ ѣстъ и глядитъ, какъ пьетъ нянька… Ему тоже хочется выпить.
— Дай! Няня, дай! — проситъ онъ.
Кухарка даетъ ему отхлебнуть изъ своей рюмки. Онъ таращитъ глаза, морщится, кашляетъ и долго потомъ машетъ руками, а кухарка глядитъ на него и смѣется.
Вернувшись домой, Гриша начинаетъ разсказывать мамѣ, стѣнамъ и кровати, гдѣ онъ былъ и что видѣлъ. Говоритъ онъ не столько языкомъ, сколько лицомъ и руками. Показываетъ онъ, какъ блеститъ солнце, какъ бѣгаютъ лошади, какъ глядитъ страшная печь и какъ пьетъ кухарка…
Вечеромъ онъ никакъ не можетъ уснуть. Солдаты съ вѣниками, большія кошки, лошади, стеклышко, корыто съ апельсинами, свѣтлыя пуговицы, — все это собралось въ кучу и давитъ его мозгъ. Онъ ворочается съ-боку-на-бокъ, болтаетъ и въ концѣ-концовъ, не вынося своего возбужденія, начинаетъ плакать.
— А у тебя жаръ! — говоритъ мама, касаясь ладонью его лба. — Отчего бы это могло случиться?
— Печка! — плачетъ Гриша. — Пошла отсюда, печка!
— Вѣроятно, покушалъ лишнее… — рѣшаетъ мама.
И Гриша, распираемый впечатлѣніями новой, только-что извѣданной жизни, получаетъ отъ мамы ложку касторки.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1886, № 14.
Необыкновенный.
Первый часъ ночи. Передъ дверью Марьи Петровны Кошкиной, старой дѣвы-акушерки, останавливается высокій господинъ въ цилиндрѣ и въ шинели съ капюшономъ. Въ осеннихъ потемкахъ не отличишь ни лица, ни рукъ, но уже въ манерѣ покашливать и дергать за звонокъ слышится солидность, положительность и нѣкоторая внушительность. Послѣ третьяго звонка отворяется дверь, и показывается сама Марья Петровна. На ней, поверхъ бѣлой юбки, наброшено мужское пальто. Маленькая лампочка съ зеленымъ колпакомъ, которую она держитъ въ рукахъ, краситъ въ зелень ея заспанное, весноватое лицо, жилистую шею и жидкіе, рыжеватые волосики, выбивающіеся изъ-подъ чепца.
— Могу ли я видѣть акушерку? — спрашиваетъ господинъ.
— Я-съ акушерка. Что вамъ угодно?
Господинъ входитъ въ сѣни, я Марья Петровна видитъ передъ собой высокаго, стройнаго мужчину, уже не молодого, но съ красивымъ, строгимъ лицомъ и съ пушистыми бакенами.
— Я коллежскій ассесоръ Кирьяковъ, — говоритъ онъ. — Пришелъ я проситъ васъ къ своей женѣ. Только, пожалуйста, поскорѣе.
— Хорошо-съ… — соглашается акушерка. — Я сейчасъ одѣнусь, а вы потрудитесь подождать меня въ залѣ.
Кирьяковъ снимаетъ шинель и входитъ въ залу. Зеленый свѣтъ лампочки скудно ложится на дешевую мебель въ бѣлыхъ заплатанныхъ чехлахъ, на жалкіе цвѣты, на косяки, по которымъ вьется плющъ… Пахнетъ геранью и карболкой. Стѣнные часики тикаютъ робко, точно конфузясь передъ постороннимъ мужчиной.
— Я готова-съ! — говоритъ Марья Петровна, входя минутъ черезъ пять въ залу, уже одѣтая, умытая и бодрая. — Поѣдемте-съ!
— Да, надо спѣшить… — говоритъ Кирьяковъ. — Между прочимъ, не лишній вопросъ; сколько вы возьмете за труды?
— Я, право, не знаю… — конфузливо улыбается Марья Петровна. — Сколько дадите…
— Нѣтъ, я этого не люблю, — говоритъ Кирьяковъ, холодно и неподвижно глядя на акушерку. — Договоръ лучше денегъ. Мнѣ не нужно вашего, вамъ не нужно моего. Во избѣжаніе недоразумѣній, намъ разумнѣе уговориться заранѣе.
— Я, право, не знаю… Опредѣленной цѣны нѣтъ.
— Я самъ тружусь и привыкъ цѣнить чужой трудъ. Несправедливости я не люблю. Для меня одинаково будетъ непріятно, если я вамъ не доплачу, или если вы съ меня потребуете лишнее, а потому я настаиваю на томъ, чтобы вы назвали вашу цѣну.
— Вѣдь цѣны разныя бываютъ!
— Гм!… Въ виду вашихъ колебаній, которыя мнѣ непонятны, я самъ долженъ назначить цѣну. Дать вамъ я могу два рубля.
— Что вы, помилуйте! — говоритъ Марья Петровна, краснѣя и пятясь назадъ. — Мнѣ даже совѣстно… Чѣмъ два рубля брать, такъ я ужъ лучше даромъ. Извольте, за пять рублей…
— Два рубля, ни копейки больше. Вашего мнѣ не нужно, но и лишнее платить я не намѣренъ.
— Какъ вамъ угодно-съ, но за два рубля я не поѣду…
— Но по закону вы не имѣете права отказываться.
— Извольте, я задаромъ поѣду.
— Даромъ я не хочу. Каждый трудъ долженъ быть вознаграждаемъ. Я самъ тружусь и понимаю.
— За два рубля не поѣду-съ… — кротко заявляетъ Марья Петровна. — Извольте, задаромъ…
— Въ такомъ случаѣ, очень жалѣю, что напрасно обезпокоилъ… Честь имѣю кланяться.
— Какіе вы, право… — говоритъ акушерка, провожая Кирьякова въ переднюю. — Если ужъ вамъ такъ угодно, то извольте, я за три рубля поѣду.
Кирьяковъ хмурится и думаетъ цѣлыхъ двѣ минуты, сосредоточенно глядя на полъ, потомъ говоритъ рѣшительно «нѣтъ!» и выходитъ на улицу. Удивленная и сконфуженная акушерка запираетъ за нимъ дверь и идетъ къ себѣ въ спальню.
«Красивый, солидный, но какой странный, Богъ съ нимъ», — думаетъ она, ложась.
Но не проходитъ и получаса, какъ опять звонокъ; она поднимается и видитъ въ передней того же Кирьякова.
— Удивительные безпорядки! — говоритъ онъ. — Ни въ аптекѣ, ни городовые, ни дворники, никто не знаетъ адресовъ акушерокъ, и такимъ образомъ я поставленъ въ необходимость согласиться на ваши условія. Я дамъ вамъ три рубля, но… предупреждаю, что, нанимая прислугу и вообще пользуясь чьими-либо услугами, я заранѣе условливаюсь, чтобы при расплатѣ не было разговоровъ о прибавкахъ, на чай и пр. Каждый долженъ получать свое.
Марья Петровна не долго слушала Кирьякова, но уже чувствуетъ, что онъ надоѣлъ ей, опротивѣлъ, что его ровная, мѣрная рѣчь тяжестью ложится ей на душу. Она одѣвается и выходитъ съ нимъ на улицу. Въ воздухѣ тихо, но холодно и такъ пасмурно, что даже фонарные огни еле видны. Подъ ногами всхлипываетъ слякоть. Акушерка всматривается и не видитъ извозчика…
— Вѣроятно, недалеко? — спрашиваетъ она.
— Недалеко, — угрюмо отвѣчаетъ Кирьяковъ. Проходятъ одинъ переулокъ, другой, третій… Кирьяковъ шагаетъ, и даже въ походкѣ его сказывается солидность и положительность.
— Какая ужасная погода! — заговариваетъ съ нимъ акушерка.
Но онъ солидно молчитъ и замѣтно старается идти по гладкимъ камнямъ, чтобы не портить калошъ. Наконецъ, послѣ долгой ходьбы, акушерка входитъ въ переднюю; оттуда видна большая, прилично убранная зала. Въ комнатахъ, даже въ спальнѣ, гдѣ лежитъ роженица, ни души… Родственниковъ и старухъ, которыми на всякихъ родинахъ хоть прудъ пруди, тутъ не видно. Мечется, какъ угорѣлая, одна только кухарка съ тупымъ, испуганнымъ лицомъ. Слышны громкіе стоны.
Проходитъ три часа. Марья Петровна, сидитъ у кровати роженицы и шепчетъ о чемъ-то. Обѣ женщицы уже успѣли познакомиться, узнали другъ друга, посудачили, поахали…
— Вамъ нельзя говорить! — тревожится акушерка, а сама такъ и сыплетъ вопросами.
Но вотъ открывается дверь, и тихо, солидно входитъ въ спальню самъ Кирьяковъ. Онъ садится на стулъ и поглаживаетъ бакены. Наступаетъ молчаніе… Марья Петровна робко поглядываетъ на его красивое, но безстрастное, деревянное лицо и ждетъ, когда онъ начнетъ говорить. Но онъ упорно молчитъ и о чемъ-то думаетъ. Не дождавшись, акушерка рѣшается сама начать разговоръ и произноситъ фразу, какую обыкновенно говорятъ на родинахъ:
— Ну, вотъ и слава Богу, однимъ человѣкомъ на этомъ свѣтѣ больше!
— Да, пріятно, — говоритъ Кирьяковъ, сохраняя деревянное выраженіе лица: — хотя, впрочемъ, съ другой стороны, чтобы имѣть лишнихъ дѣтей, нужно имѣть лишнія деньги. Ребенокъ не родится сытымъ и одѣтымъ.
На лицѣ у роженицы показывается виноватое выраженіе, точно она произвела на свѣтъ живое существо безъ позволенія, или изъ пустой прихоти. Кирьяковъ со вздохомъ поднимается и солидно выходитъ.
— Какой онъ у васъ, Богъ съ нимъ… — говоритъ акушерка роженицѣ. — Строгій такой и не улыбнется…
Роженица разсказываетъ, что онъ у нея всегда такой… Онъ честенъ, справедливъ, разсудителенъ, разумно экономенъ, но все это въ такихъ необыкновенныхъ размѣрахъ, что простымъ смертнымъ дѣлается душно. Родня разошлась съ нимъ, прислуга не живетъ больше мѣсяца, знакомыхъ нѣтъ, жена и дѣти вѣчно напряжены отъ страха за каждый свой шагъ. Онъ не дерется, не кричитъ, добродѣтелей у него гораздо больше, чѣмъ недостатковъ, но когда онъ уходитъ изъ дому, всѣ чувствуютъ себя здоровѣе и легче. Отчего это такъ, роженица и сама не можетъ понять.
— Нужно тазы вычистить хорошенько и поставить ихъ въ кладовую, — говоритъ Кирьяковъ, опять входя въ спальню. — Эти флаконы тоже нужно спрятать: пригодятся.
То, что̀ онъ говоритъ, очень просто и обыкновенно, но акушерка почему-то чувствуетъ оторопь. Она начинаетъ бояться этого человѣка и вздрагиваетъ всякій разъ, когда слышитъ его шаги. Утромъ, собираясь уходить, она видитъ, какъ въ столовой маленькій сынъ Кирьякова, блѣдный, стриженый гимназистъ, пьетъ чай… Противъ него стоитъ Кирьяковъ и говоритъ своимъ мѣрнымъ, ровнымъ голосомъ:
— Ты умѣешь ѣсть, умѣй же и работать. Ты вотъ сейчасъ глотнулъ, но не подумалъ, вѣроятно, что этотъ глотокъ стоитъ денегъ, а деньги добываются трудомъ. Ты ѣшь и думай…
Акушерка глядитъ на тупое лицо мальчика, и ей кажется, что даже воздуху тяжело, что еще немного — и стѣны упадутъ, не вынося давящаго присутствія необыкновеннаго человѣка. Не помня себя отъ страха и уже чувствуя сильную ненависть къ этому человѣку, Марья Петровна беретъ свои узелки и торопливо уходитъ.
На полдорогѣ она вспоминаетъ, что забыла получить свои три рубля, но, постоявъ немного и подумавъ, машетъ рукой и идетъ дальше.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1886, № 43.
Левъ и Солнце.
Въ одномъ изъ городовъ, расположенныхъ по сю сторону Уральскаго хребта, разнесся слухъ, что на-дняхъ прибылъ въ городъ и остановился въ гостиницѣ «Японія» персидскій сановникъ Рахатъ-Хеламъ. Этотъ слухъ не произвелъ на обывателей никакого впечатлѣнія: пріѣхалъ персъ, ну и ладно. Одинъ только городской голова, Степанъ Ивановичъ Куцынъ, узнавъ отъ секретаря управы о пріѣздѣ восточнаго человѣка, задумался и спросилъ:
— Куда онъ ѣдетъ?
— Кажется, въ Парижъ или въ Лондонъ.
— Гм!… Значитъ, важная птица?
— А чортъ его знаетъ.
Придя изъ управы къ себѣ домой и пообѣдавъ, городской голова опять задумался, и ужъ на этотъ разъ думалъ до самаго вечера. Пріѣздъ знатнаго перса сильно заинтриговалъ его. Ему казалось, что сама судьба послала ему этого Рахатъ-Хелама и что, наконецъ, наступило благопріятное время для того, чтобы осуществить свою страстную, завѣтную мечту. Дѣло въ томъ, что Куцынъ имѣлъ двѣ медали, Станислава 3-й степени, знакъ Краснаго Креста и знакъ «Общества спасанія на водахъ», и кромѣ того онъ сдѣлалъ себѣ еще брелокъ (золотое ружье и гитара, которыя перекрещивались), и этотъ брелокъ, продѣтый въ мундирную петлю, похожъ былъ издали на что-то особенное и прекрасно сходилъ за знакъ отличія. Извѣстно же, что чѣмъ больше имѣешь орденовъ и медалей, тѣмъ больше ихъ хочется, — и городской голова давно уже желалъ получить персидскій орденъ «Льва и Солнца», желалъ страстно, безумно. Онъ отлично зналъ, что для полученія этого ордена не нужно ни сражаться, ни жертвовать въ пріютъ, ни служить по выборамъ, а нуженъ только подходящій случай. И теперь ему казалось, что этотъ случай наступилъ.
На другой день, въ полдень, онъ надѣлъ всѣ свои знаки отличія, цѣпь и поѣхалъ въ «Японію». Судьба ему благопріятствовала. Когда онъ вошелъ въ номеръ знатнаго перса, то послѣдній былъ одинъ и ничего не дѣлалъ. Рахатъ-Хеламъ, громадный азіатъ съ длиннымъ, бекасинымъ носомъ, съ глазами на выкатѣ и въ фескѣ, сидѣлъ на полу и рылся въ своемъ чемоданѣ.
— Прошу извинить за безпокойство, — началъ Куцынъ, улыбаясь. — Честь имѣю рекомендоваться: потомственный почетный гражданинъ и кавалеръ Степанъ Ивановичъ Куцынъ, мѣстный городской голова. Почитаю своимъ долгомъ почтить въ лицѣ вашей персоны, такъ сказать, представителя дружественной и сосѣдственной намъ державы.
Персъ обернулся и пробормоталъ что-то на очень плохомъ французскомъ языкѣ, прозвучавшемъ какъ стукъ деревяшки о доску.
— Границы Персіи, — продолжалъ Куцынъ заранѣе выученное привѣтствіе: — тѣсно соприкасаются съ предѣлами нашего обширнаго отечества, а потому взаимныя симпатіи побуждаютъ меня, такъ сказать, выразить вамъ солидарность.
Знатный персъ поднялся и опять пробормоталъ что-то на деревянномъ языкѣ. Куцынъ, не знавшій языковъ, мотнулъ головой въ знакъ того, что не понимаетъ.
«Ну, какъ я съ нимъ буду разговаривать? — подумалъ онъ. — Хорошо бы сейчасъ за переводчикомъ послать, да дѣло щекотливое, нельзя говорить при свидѣтеляхъ. Переводчикъ разболтаетъ потомъ по всему городу».
И Куцынъ сталъ вспоминать иностранныя слова, какія зналъ изъ газетъ.
— Я городской голова… — пробормоталъ онъ. — То-есть, лордъ-меръ… муниципале… Вуй? Компрене?
Онъ хотѣлъ выразить на словахъ или мимикой свое общественное положеніе и не зналъ, какъ это сдѣлать. Выручила его картина съ крупною надписью: «Городъ Венеція», висѣвшая на стѣнѣ. Онъ указалъ пальцемъ на городъ, потомъ себѣ на голову, и такимъ образомъ, по его мнѣнію, получилась фраза: «Я городской голова». Персъ ничего не понялъ, но улыбнулся и сказалъ:
— Каряшо, мусье… каряшо…
Полчаса спустя городской голова похлопывалъ перса то по колѣну, то по плечу и говорилъ:
— Комирене? Вуй? Какъ лордъ-меръ и муниципале… я предлагаю вамъ сдѣлать маленькій променажъ… Компрене? Променажъ…
Куцынъ ткнулъ пальцемъ на Венецію и двумя пальцами изобразилъ шагающія ноги. Рахатъ-Хеламъ, не спускавшій глазъ съ его медалей и, повидимому, догадываясь, что это самое важное лицо въ городѣ, понялъ слово «променажъ» и любезно осклабился. Затѣмъ оба надѣли пальто и вышли изъ номера. Внизу, около двери, ведущей въ ресторанъ «Японія», Куцынъ подумалъ, что недурно было бы угостить перса. Онъ остановился и, указывая ему на столы, сказалъ:
— По русскому обычаю, не мѣшало бы тово… пюре, антрекотъ… шампань и прочее… Компрене?
Знатный гость понялъ и, немного погодя, оба сидѣли въ самомъ лучшемъ кабинетѣ ресторана, пили шампанское и ѣли.
— Выпьемъ за процвѣтаніе Персіи! — говорилъ Куцынъ. — Мы, русскіе, любимъ персовъ. Хотя мы и разной вѣры, но общіе интересы, взаимныя, такъ сказать, симпатіи… прогрессъ… Азіатскіе рынки… мирныя завоеванія, такъ сказать…
Знатный персъ ѣлъ и пилъ съ большимъ аппетитомъ. Онъ ткнулъ вилкой въ балыкъ и, восторженно мотнувъ головой, сказалъ:
— Каряшо! Бьенъ!
— Вамъ нравится? — обрадовался городской голова. — Бьенъ? Вотъ и прекрасно. — И обратившись къ лакею, онъ сказалъ: — Лука, распорядись, братецъ, послать его превосходительству въ номеръ два балыка, которые получше!
Потомъ городской голова и персидскій сановникъ поѣхали осматривать звѣринецъ. Обыватели видѣли, какъ ихъ Степанъ Иванычъ, красный отъ шампанскаго, веселый, очень довольный, водилъ перса по главнымъ улицамъ и по базару, показывая ему достопримѣчательности города, водилъ и на каланчу.
Между прочимъ, обыватели видѣли, какъ онъ остановился около каменныхъ воротъ со львами и указалъ персу сначала на льва, потомъ вверхъ, на солнце, потомъ себѣ на грудь, потомъ опять на льва и на солнце, а персъ замоталъ головой, какъ бы въ знакъ согласія, и, улыбаясь, показалъ свои бѣлые зубы. Вечеромъ оба сидѣли въ гостиницѣ «Лондонъ» и слушали арфистокъ, а гдѣ были ночью — неизвѣстно.
На другой день городской голова утромъ былъ въ управѣ; служащіе, очевидно, кое-что уже знали и догадывались, такъ какъ секретарь подошелъ къ нему и сказалъ, насмѣшливо улыбаясь:
— У персовъ есть такой обычай: если къ вамъ пріѣзжаетъ знатный гость, то вы должны собственноручно зарѣзать для него барана.
А немного погодя, подали пакетъ, полученный по почтѣ. Городской голова распечаталъ и увидѣлъ въ немъ карикатуру. Былъ нарисованъ Рахатъ-Хеламъ, а передъ нимъ стоялъ на колѣняхъ самъ городской голова и, простирая къ нему руки, говорилъ:
Городской голова испыталъ непріятное чувство, похожее на сосаніе подъ ложечкой, но не надолго. Въ полдень онъ опять уже былъ у знатнаго перса, опять угощалъ его и, показывая ему достопримѣчательности города, опять подводилъ его къ каменнымъ воротамъ и опять указывалъ то на льва, то на солнце, то себѣ на грудь. Обѣдали въ «Японіи», послѣ обѣда, съ сигарами въ зубахъ, оба красные, счастливые, опять восходили на каланчу, и городской голова, очевидно желая угостить гостя рѣдкимъ зрѣлищемъ, крикнулъ сверху часовому, ходившему внизу:
— Бей тревогу!
Но тревоги не вышло, такъ какъ пожарные въ это время были въ банѣ. Ужинали въ «Лондонѣ», а послѣ ужина персъ уѣхалъ. Провожая его, Степанъ Иванычъ три раза поцѣловался съ нимъ, по русскому обычаю, и даже прослезился. А когда поѣздъ тронулся, онъ крикнулъ:
— Поклонитесь отъ насъ Персіи. Скажите ей, что мы ее любимъ!
Прошелъ годъ и четыре мѣсяца. Былъ сильный морозъ, градусовъ въ тридцать пять, и дулъ пронзительный вѣтеръ. Степанъ Иванычъ ходилъ по улицѣ, распахнувши на груди шубу, и ему досадно было, что никто не попадается навстрѣчу и не видитъ на его груди «Льва и Солнца». Ходилъ онъ такъ до вечера, распахнувши шубу, очень озябъ, а ночью ворочался съ-боку-на-бокъ и никакъ не могъ уснуть.
На душѣ у него было тяжело, внутри жгло и сердце безпокойно стучало: ему хотѣлось теперь получить сербскій орденъ «Такова». Хотѣлось страстно, мучительно.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1887, № 49.
Антрепренеръ подъ диваномъ. Закулисная исторія.
Шелъ «Водевиль съ переодѣваніемъ». Клавдія Матвѣевна Дольская-Каучукова, молодая, симпатичная артистка, горячо преданная святому искусству, вбѣжала въ свою уборную и начала сбрасывать съ себя платье цыганки, чтобы въ мгновеніе ока облечься въ гусарскій костюмъ. Во избѣжаніе лишнихъ складокъ, чтобы этотъ костюмъ сидѣлъ возможно гладко и красиво, даровитая артистка рѣшила сбросить съ себя все до послѣдней нитки и надѣть его поверхъ одѣянія Евы. И вотъ, когда она раздѣлась и, пожимаясь отъ легкаго холода, стала расправлять гусарскіе рейтузы, до ея слуха донесся чей-то вздохъ. Она сдѣлала большіе глаза и прислушалась. Опять кто-то вздохнулъ и даже какъ будто прошепталъ:
— Грѣхи наши тяжкіе… Охх…
Недоумѣвающая артистка осмотрѣлась и, не увидѣвъ въ уборной ничего подозрительнаго, рѣшила заглянуть на всякій случай подъ свою единственную мебель — подъ диванъ. И что же? Подъ диваномъ она увидѣла длинную человѣческую фигуру.
— Кто здѣсь?! — вскрикнула она, въ ужасѣ отскакивая отъ дивана и прикрываясь гусарской курткой.
— Это я… я… послышался изъ-подъ дивана дрожащій шопотъ. — Не пугайтесь, это я… Тсс!
Въ гнусавомъ шопотѣ, похожемъ на сковородное шипѣніе, артисткѣ не трудно было узнать голосъ антрепренера Индюкова.
— Вы?! — возмутилась она, красная какъ піонъ. — Какъ… какъ вы смѣли? Это, значитъ, вы, старый подлецъ, все время здѣсь лежали? Этого еще не доставало!
— Матушка… голуба моя! — зашипѣлъ Индюковъ, высовывая свою лысую голову изъ-подъ дивана: — не сердитесь, драгоцѣнная! Убейте, растопчите меня, какъ змія, но не шумите! Ничего я не видѣлъ, не вижу и видѣть не желаю. Напрасно даже вы прикрываетесь, голубушка, красота моя неописанная! Выслушайте старика, одной ногой уже въ могилѣ стоящаго! Не за чѣмъ инымъ тутъ валяюсь, какъ только ради спасенія моего! Погибаю! Глядите: волосы на головѣ моей стоятъ дыбомъ! Изъ Москвы пріѣхалъ мужъ моей Глашеньки, Прындинъ. Теперь ходитъ по театру и ищетъ погибели моей. Ужасно! Вѣдь, кромѣ Глашеньки, я ему, злодѣю моему, пять тысячъ долженъ!
— Мнѣ какое дѣло? Убирайтесь сію же минуту вонъ, иначе я… я не знаю, что съ вами, съ подлецомъ, сдѣлаю!
— Тсс! Душенька, тсс! На колѣняхъ прошу, ползаю! Куда же мнѣ отъ него укрыться, ежели не у васъ? Вѣдь онъ вездѣ меня найдетъ, сюда только не посмѣетъ войти! Ну, умоляю! Ну, прошу! Часа два назадъ я его видѣлъ! Стою, это, я во время перваго дѣйствія за кулисами, гляжу, а онъ идетъ изъ партера на сцену.
— Стало-быть, вы и во время драмы здѣсь валялись? — ужаснулась артистка. — И… и все видѣли?
Антрепренеръ заплакалъ:
— Дрожу! Трясусь! Матушка, трясусь! Убьетъ, проклятый! Вѣдь ужъ разъ стрѣлялъ въ меня въ Нижнемъ… Въ газетахъ писали!
— Ахъ… это, наконецъ, невыносимо! Уходите, мнѣ пора уже одѣваться и на сцену выходить! Убирайтесь, иначе я… крикну, громко расплачусь… лампой въ васъ пущу!
— Тссс!… Надежда вы моя… якорь спасенія! Пятьдесятъ рублей прибавки, только не гоните! Пятьдесятъ!
Артистка прикрылась кучей платья и побѣжала къ двери, чтобы крикнуть. Индюковъ поползъ за ней на колѣняхъ и схватилъ ее за ногу повыше лодыжекъ.
— Семьдесятъ пять рублей, только не гоните! — прошипѣлъ онъ, задыхаясь. — Еще полъ-бенефиса прибавлю!
— Лжете!
— Накажи меня Богъ! Клянусь! Чтобъ мнѣ ни дна, ни покрышки… Полъ-бенефиса и семьдесятъ пять прибавки!
Дольская-Каучукова минуту поколебалась и отошла отъ двери.
— Вѣдь вы все врете… — сказала она плачущимъ голосомъ.
— Провались я сквозь землю! Чтобъ мнѣ царствія небеснаго не было! Да развѣ я подлецъ какой, что ли?
— Ладно, помните же… — согласилась артистка. — Ну, полѣзайте подъ диванъ.
Индюковъ тяжело вздохнулъ и съ сопѣньемъ полѣзъ подъ диванъ, а Дольская-Каучукова стала быстро одѣваться. Ей было совѣстно, даже жутко отъ мысли, что въ уборной подъ диваномъ лежитъ посторонній человѣкъ, но сознаніе, что она сдѣлала уступку только въ интересахъ святого искусства, подбодрило ее настолько, что, сбрасывая съ себя немного спустя гусарское платье, она уже не только не бранилась, но даже и посочувствовала:
— Вы тамъ выпачкаетесь, голубчикъ Кузьма Алексѣичъ! Чего я только подъ диванъ не ставлю!
Водевиль кончился. Артистку вызывали одиннадцать разъ и поднесли ей букетъ съ лентами, на которыхъ было написано: «Оставайтесь съ нами». Уходя послѣ овацій къ себѣ въ уборную, она встрѣтила за кулисами Индюкова. Запачканный, помятый и взъерошенный, антрепренеръ сіялъ и потиралъ руки отъ удовольствія.
— Ха-ха… Вообразите, голубушка! — заговорилъ онъ, подходя къ ней. — Посмѣйтесь надъ старымъ хрычомъ! Вообразите, то былъ вовсе не Прындинъ! Ха-ха… Чортъ его возьми, длинная, рыжая борода меня съ панталыку сбила… У Прындина тоже длинная, рыжая борода… Обознался, старый хрѣнъ! Ха-ха…. Напрасно только безпокоилъ васъ, красавица…
— Но вы же смотрите, помните, что мнѣ обѣщали, — сказала Дольская-Каучукова.
— Помню, помню, родная моя, но… голубушка моя, вѣдь то не Прындинъ былъ! Мы только насчетъ Прындина условились, а зачѣмъ я буду обѣщаніе исполнять, ежели это не Прындинъ? Будь то Прындинъ, ну тогда, конечно, другое дѣло, а то вѣдь, сами видите, обознался… Чудака какого-то за Прындина принялъ!
— Какъ это низко! — возмутилась актриса. — Низко! Мерзко!
— Будь это Прындинъ, конечно, вы имѣли бы полное право требовать, чтобъ я обѣщаніе исполнилъ, а то вѣдь, чортъ его знаетъ, кто онъ такой. Можетъ, онъ сапожникъ какой или, извините, портной — такъ мнѣ и платить за него? Я честный человѣкъ, матушка… Понимаю…
И отойдя, онъ все жестикулировалъ и говорилъ.
— Если бы то былъ Прындинъ, то конечно, я обязанъ, а то вѣдь кто-то неизвѣстный… какой-то, шутъ его знаетъ, рыжій человѣкъ, а вовсе не Прындинъ.
Юмористическій журналъ «Осколки», 1885, № 51.
Жалобная книга.
Лежитъ она, эта книга, въ спеціально построенной для нея конторкѣ на станціи желѣзной дороги. Ключъ отъ конторки «хранится у станціоннаго жандарма», на дѣлѣ же никакого ключа не нужно, такъ какъ конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:
«Милостивый государь! Проба пера!?»
Подъ этимъ нарисована рожица съ длиннымъ носомъ и рожками. Подъ рожицей написано:
«Ты картина, я портретъ, ты скотина, а я нѣтъ. Я — морда твоя».
«Подъѣзжая къ сіей станцыи и глядя на природу въ окно, у меня слетѣла шляпа. И. Ярмонкинъ».
«Кто писалъ не знаю, а я дуракъ читаю».
«Оставилъ память начальникъ стола претензій Коловроевъ».
«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости въ отношеніи моей женѣ. Жена моя вовсе не шумѣла, а напротивъ старалась чтобъ все было тихо. А также и насчетъ жандарма Клятвина который меня грубо за плечо взялъ. Жительство имѣю въ имѣніи Андрея Ивановича Ищеева который знаетъ мое поведеніе. Конторщикъ Самолучшевъ».
«Никандровъ соціалистъ!»
«Находясь подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ возмутительнаго поступка… (зачеркнуто). Проѣзжая черезъ эту станцію, я былъ возмущенъ до глубины души слѣдующимъ… (зачеркнуто). На моихъ глазахъ произошло слѣдующее возмутительное происшествіе, рисующее яркими красками наши желѣзнодорожные порядки… (далѣе все зачеркнуто, кромѣ подписи). Ученикъ 7-го класса Курской гимназіи Алексѣй Зудьевъ».
«Въ ожиданіи отхода поѣзда обозрѣвалъ физіогномію начальника станціи и остался ею весьма недоволенъ. Объявляю о семъ по линіи. Неунывающій дачникъ».
«Я знаю кто это писалъ. Это писалъ. М. Д.».
«Господа! Тельцовскій шуллеръ!»
«Жандармиха ѣздила вчера съ буфетчикомъ Костькой за рѣку. Желаемъ всего лучшаго. Не унывай, жандармъ!»
«Проѣзжая черезъ станцію и будучи голоденъ въ разсужденіи чего бы покушать я не могъ найти постной пищи. Дьяконъ Духовъ».
«Лопай, что даютъ»…
«Кто найдетъ кожаный портсигаръ тотъ пущай отдастъ въ кассу Андрею Егорычу».
«Такъ какъ меня прогоняютъ со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что всѣ вы мошенники и воры. Телеграфистъ Козьмодемьянскій».
«Добродѣтельно украшайтесь».
«Катинька, я васъ люблю безумно!»
«Прошу въ жалобной книгѣ не писать постороннихъ вещей. За начальника станціи Ивановъ 7-й».
«Хоть ты и седьмой, а дуракъ».
Юмористическій журналъ «Осколки», 1884, № 10.
Лишніе люди.
Седьмой часъ іюньскаго вечера. Отъ полустанка «Хилково» къ дачному поселку плетется толпа, только-что вышедшихъ изъ поѣзда дачниковъ — все больше отцы семействъ, нагруженные кульками, портфелями и женскими картонками. Видъ у всѣхъ утомленный, голодный и злой, точно не для нихъ сіяетъ солнце и зеленѣетъ трава.
Плетется, между прочимъ, и Павелъ Матвѣевичъ Зайкинъ, членъ окружнаго суда, высокій сутуловатый человѣкъ, въ дешевой коломенкѣ и съ кокардой на полинялой фуражкѣ. Онъ вспотѣлъ, красенъ и сумраченъ.
— Каждый день изволите на дачу выѣзжать? — обращается къ нему дачникъ въ рыжихъ панталонахъ.
— Нѣтъ, не каждый, — угрюмо отвѣчаетъ Зайкинъ. — Жена и сынъ живутъ тутъ постоянно, а я пріѣзжаю раза два въ недѣлю. Некогда каждый день ѣздить, да и дорого.
— Это вѣрно, что дорого, — вздыхаютъ рыжіе панталоны, — Въ городѣ до вокзала не пойдешь пѣшкомъ, извозчикъ нуженъ, потомъ-съ билетъ стоитъ сорокъ двѣ копейки… газетку дорогой купишь, рюмку водки по слабости выпьешь. Все это копеечный расходъ, пустяковый, а гляди — и наберется за лѣто рублей двѣсти. Оно конечно, лоно природы дороже стоитъ, не стану спорить-съ… идиллія и прочее, но вѣдь при нашемъ чиновницкомъ содержаніи, сами знаете, каждая копейка на счету. Потратишь неосторожно копеечку, а потомъ и не спишь всю ночь… Да-съ… Я, милостивый государь, не имѣю чести знать вашего имени и отчества, получаю безъ малаго двѣ тысячи въ годъ-съ, состою въ чинѣ статскаго совѣтника, а курю табакъ второго сорта и не имѣю лишняго рубля, дабы купить себѣ минеральной воды Виши, прописанной мнѣ противъ печеночныхъ камней.
— Вообще мерзко, — говоритъ Зайкинъ послѣ нѣкотораго молчанія. — Я, сударь, держусь того мнѣнія, что дачную жизнь выдумали черти, да женщины. Чортомъ въ данномъ случаѣ руководила злоба, а женщиной крайнее легкомысліе. Помилуйте, это не жизнь, а каторга, адъ! Тутъ душно, жарко, дышать тяжело, а ты мыкаешься съ мѣста на мѣсто, какъ неприкаянный, и никакъ не найдешь себѣ пріюта. Тамъ, въ городѣ, ни мебели, ни прислуги… все на дачу увезли… питаешься чортъ знаетъ чѣмъ, не пьешь чаю, потому что самоваръ поставить некому, не умываешься, а пріѣдешь сюда, въ это лоно природы, изволь идти пѣшкомъ по пыли, по жарѣ… тьфу! Вы женаты?
— Да-съ… Трое дѣтокъ, — вздыхаютъ рыжіе панталоны.
— Вообще мерзко… Просто удивительно, какъ это мы еще живы.
Наконецъ, дачники доходятъ до поселка. Зайкинъ прощается съ рыжими панталонами и идетъ къ себѣ на дачу. Дома застаетъ онъ мертвую тишину. Слышно только, какъ жужжатъ комары, да молитъ о помощи муха, попавшая на обѣдъ къ пауку. Окна завѣшаны кисейными занавѣсочками, сквозь которыя краснѣютъ блекнущіе цвѣты герани. На деревянныхъ, некрашеныхъ стѣнахъ, около олеографій, дремлютъ мухи. Въ сѣняхъ, въ кухнѣ, въ столовой — ни души. Въ комнатѣ, которая въ одно и въ тоже время называется гостиной и залой, Зайкинъ застаетъ своего сына, Петю, маленькаго, шестилѣтняго мальчика. Петя сидитъ за столомъ и, громко сопя, вытянувъ нижнюю губу, вырѣзываетъ ножницами изъ карты бубноваго валета.
— А, это ты, папа! — говоритъ онъ, не оборачиваясь. — Здравствуй!
— Здравствуй… А мать гдѣ?
— Мама? Она поѣхала съ Ольгой Кирилловной на репетицію играть театръ. Послѣ завтра у нихъ будетъ представленіе. И меня возьмутъ… А ты пойдешь?
— Гм!… Когда же она вернется?
— Она говорила, что вернется вечеромъ.
— А гдѣ Наталья?
— Наталью взяла съ собой мама, чтобы она помогала ей одѣваться во время представленія, а Акулина пошла въ лѣсъ за грибами. Папа, отчего это когда комары кусаются, то у нихъ дѣлаются животы красные?
— Не знаю… Оттого, что они сосутъ кровь. Стало-быть, никого нѣтъ дома?
— Никого. Только я одинъ дома.
Зайкинъ садится въ кресло и минуту тупо глядитъ въ окно.
— Кто же намъ обѣдать подастъ? — спрашиваетъ онъ.
— Обѣдать сегодня не варили, папа! Мама думала, что ты сегодня не пріѣдешь, и не велѣла варить обѣдъ. Она съ Ольгой Кирилловной будетъ обѣдать на репетиціи.
— Покорнѣйше благодарю, а ты же что ѣлъ?
— Я ѣлъ молоко. Для меня купили молока на шесть копеекъ. Папа, а зачѣмъ комары сосутъ кровь?
Зайкинъ вдругъ чувствуетъ, какъ что-то тяжелое подкатываетъ къ его печени и начинаетъ сосать ее. Ему становится такъ досадно, обидно и горько, что онъ тяжело дышитъ и дрожитъ; ему хочется вскочить, ударить о-полъ чѣмъ-нибудь тяжелымъ и разразиться бранью, но тутъ онъ вспоминаетъ, что доктора строго запретили ему волноваться, встаетъ и, насилуя себя, начинаетъ насвистывать изъ «Гугенотовъ».
— Папа, ты умѣешь представлять въ театрѣ? — слышитъ онъ голосъ Пети.
— Ахъ, не приставай ко мнѣ съ глупыми вопросами! — сердится Зайкинъ. — Присталъ, какъ банный листъ! Тебѣ уже шесть лѣтъ, а ты все такъ же глупъ, какъ и три года назадъ… Глупый, распущенный мальчишка! Къ чему, напримѣръ, ты эти карты портишь? Какъ ты смѣешь ихъ портить?
— Эти карты не твои, — говоритъ Петя, оборачиваясь. — Мнѣ Наталья ихъ дала.
— Врешь! Врешь, дрянной мальчишка! — раздражается Зайкинъ все болѣе и болѣе. — Ты всегда врешь! Высѣчь тебя нужно, свиненка этакаго! Я тебѣ уши оборву!
Петя вскакиваетъ, вытягиваетъ шею и глядитъ въ упоръ на красное, гнѣвное лицо отца. Большіе глаза его сначала мигаютъ, потомъ заволакиваются влагой, и лицо мальчика кривится.
— Да ты что бранишься? — визжитъ Петя. — Что ты ко мнѣ присталъ, дуракъ? Я никого не трогаю, не шалю, слушаюсь, а ты… сердишься! Ну, за что ты меня бранишь?
Мальчикъ говоритъ убѣдительно и такъ горько плачетъ, что Зайкину становится совѣстно.
«И правда, за что я къ нему придираюсь», — думаетъ онъ.
— Ну, будетъ… будетъ, — говоритъ онъ, трогая мальчика за плечо. — Виноватъ, Петюха… прости. Ты у меня умница, славный, я тебя люблю.
Петя утираетъ рукавомъ глаза, садится со вздохомъ на прежнее мѣсто и начинаетъ вырѣзывать даму. Зайкинъ идетъ къ себѣ въ кабинетъ. Онъ растягивается на диванѣ и, подложивъ руки подъ голову, задумывается. Недавнія слезы мальчика смягчили его гнѣвъ, и отъ печени мало-по-малу отлегло. Чувствуются только утомленіе и голодъ.
— Папа! — слышитъ Зайкинъ за дверью. — Показать тебѣ мою насѣкомую коллекцію?
— Покажи!
Петя входитъ въ кабинетъ и подаетъ отцу длинный зеленый ящичекъ. Еще не поднося къ уху, Зайкинъ слышитъ отчаянное жужжанье и царапанье лапокъ о стѣнки ящика. Поднявъ крышку, онъ видитъ множество бабочекъ, жуковъ, кузнечиковъ и мухъ, приколотыхъ ко дну ящика булавками. Всѣ, за исключеніемъ двухъ-трехъ бабочекъ, еще живы и шевелятся.
— А кузнечикъ все еще живъ! — удивляется Петя. — Вчера утромъ поймали его, а онъ до сихъ поръ не умеръ!
— Кто это тебя научилъ прикалывать ихъ? — спрашиваетъ Зайкинъ.
— Ольга Кирилловна.
— Самой бы Ольгу Кирилловну приколоть такъ! — говоритъ Зайкинъ съ отвращеніемъ. — Унеси отсюда! Стыдно мучить животныхъ!
«Боже, какъ онъ мерзко воспитывается», — думаетъ онъ по уходѣ Пети.
Павелъ Матвѣевичъ забылъ уже про утомленіе и голодъ и думаетъ только о судьбѣ своего мальчика. За окнами, между тѣмъ, дневной свѣтъ мало-по-малу тускнѣетъ… Слышно, какъ дачники компаніями возвращаются съ вечерняго купанья. Кто-то останавливается около открытаго окна столовой и кричитъ; «Грибковъ не желаете ли?» — кричитъ и, не получивъ отвѣта, шлепаетъ босыми ногами дальше… Но вотъ, когда сумерки сгущаются до того, что герань за кисейной занавѣской теряетъ свои очертанія и въ окно начинаетъ потягивать свѣжестью вечера, дверь въ сѣняхъ съ шумомъ открывается и слышатся быстрые шаги, говоръ, смѣхъ…
— Мама! — взвизгиваетъ Петя.
Зайкинъ выглядываетъ изъ кабинета и видитъ свою жену Надежду Степановну, здоровую, розовую, какъ всегда… Съ нею Ольга Кирилловна, сухая блондинка съ крупными веснушками, и двое какихъ-то незнакомыхъ мужчинъ: одинъ молодой, длинный, съ рыжей, курчавой головой и съ большимъ кадыкомъ, другой — низенькій, коренастый, съ бритой актерской физіономіей и сизымъ, кривымъ подбородкомъ.
— Наталья, ставь самоваръ! — кричитъ Надежда Степановна, громко шурша платьемъ. — Говорятъ, Павелъ Матвѣевичъ пріѣхалъ? Павелъ, гдѣ ты? Здравствуй, Павелъ! — говоритъ она, вбѣгая въ кабинетъ и тяжело дыша. — Ты пріѣхалъ? Очень рада… Со мной пріѣхали двое нашихъ любителей… пойдемъ, я тебя представлю… Вотъ тотъ, что подлиннѣй, это Коромысловъ… прекрасно поетъ, а другой, этотъ маленькій… нѣкій Смеркаловъ, настоящій актеръ… читаетъ великолѣпно. Уфъ, утомилась! Сейчасъ у насъ репетиція была… Великолѣпно идетъ! Мы ставимъ «Жильца съ тромбономъ» и «Она его ждетъ»… Послѣ завтра спектакль…
— Зачѣмъ ты ихъ привезла? — спрашиваетъ Зайкинъ.
— Необходимо, попочка! Послѣ чая намъ нужно роли повторить и пропѣть кое-что… Я съ Коромысловымъ дуэтъ буду пѣть… Да, какъ бы не забыть! Пошли, голубчикъ, Наталью взять сардинъ, водки, сыру и еще чего-нибудь. Они, вѣроятно, и ужинать будутъ… Охъ, устала!
— Гм!… у меня денегъ нѣтъ!
— Нельзя же, попочка! Неловко! Не заставляй меня краснѣть!
Черезъ полчаса Наталья посылается за водкой и закуской; Зайкинъ, напившись чаю и съѣвши цѣлый французскій хлѣбъ, уходитъ въ спальню и ложится на постель, а Надежда Степановна и ея гости, шумя и смѣясь, приступаютъ къ повторенію ролей. Павелъ Матвѣевичъ долго слышитъ гнусавое чтеніе Коромыслова и актерскіе возгласы Смеркалова… За чтеніемъ слѣдуетъ длинный разговоръ, прерываемый визгливымъ смѣхомъ Ольги Кирилловны. Смеркаловъ, на правахъ настоящаго актера, съ апломбомъ и жаромъ объясняетъ роли…
Далѣе слѣдуетъ дуэтъ, а за дуэтомъ звяканье посуды… Зайкинъ сквозь сонъ слышитъ, какъ уговариваютъ Смеркалова прочесть «Грѣшницу» и, какъ тотъ, поломавшись, начинаетъ декламировать. Онъ шипитъ, бьетъ себя по груди, плачетъ, хохочетъ хриплымъ басомъ… Зайкинъ морщится и прячетъ голову подъ одѣяло.
— Вамъ идти далеко и темно, — слышитъ онъ часъ спустя голосъ Надежды Степановны. — Почему вамъ не остаться у насъ ночевать? Коромысловъ ляжетъ здѣсь, въ гостиной, на диванѣ, а вы, Смеркаловъ, на Петиной постели… Петю можно въ кабинетѣ мужа положить… Право, оставайтесь!
Наконецъ, когда часы бьютъ два, все смолкаетъ… Отворяется въ спальной дверь и показывается Надежда Степановна.
— Павелъ, ты спишь? — шепчетъ она.
— Нѣтъ, а что?
— Поди, голубчикъ, къ себѣ въ кабинетъ, лягъ на диванѣ, а тутъ, на твоей кровати, я Ольгу Кирилловну положу. Поди, милый! Я бы ее въ кабинетѣ положила, да она боится спать одной… Вставай же!
Зайкинъ поднимается, накидываетъ на себя халатъ и, взявши подушку, плетется въ кабинетъ… Дойдя ощупью до своего дивана, онъ зажигаетъ спичку и видитъ: на диванѣ лежитъ Петя. Мальчикъ не спитъ и большими глазами глядитъ на спичку.
— Папа, отчего это комары не спятъ ночью? — спрашиваетъ онъ.
— Оттого… оттого, — бормочетъ Зайкинъ: — оттого, что мы здѣсь съ тобой лишніе… Даже спать негдѣ!
— Папа, а отчего это на лицѣ у Ольги Кирилловны веснушки?
— Ахъ, отстань! Надоѣлъ!
Подумавъ немного, Зайкинъ одѣвается и выходитъ на улицу освѣжиться… Онъ глядитъ на сѣрое утреннее небо, на неподвижныя облака, слушаетъ лѣнивый крикъ соннаго коростеля и начинаетъ мечтать о завтрашнемъ днѣ, когда онъ, поѣхавъ въ городъ и вернувшись изъ суда, завалится спать… Вдругъ изъ-за угла показывается человѣческая фигура.
«Сторожъ, должно-быть», — думаетъ Зайкинъ.
Но, вглядѣвшись и подойдя поближе, онъ узнаетъ въ фигурѣ вчерашняго дачника въ рыжихъ панталонахъ.
— Вы не спите? — спрашиваетъ онъ.
— Да, не спится что-то… — вздыхаютъ рыжіе панталоны. — Природой наслаждаюсь… Ко мнѣ, знаете ли, пріѣхала съ ночнымъ поѣздомъ дорогая гостья… мамаша моей жены. Съ нею прибыли мои племянницы… прекрасныя дѣвушки. Весьма радъ, хотя и… очень сыро! А вы тоже изволите природой наслаждаться?
— Да, — мычитъ Зайкинъ: — и я тоже природой… Не знаете ли, нѣтъ ли тутъ гдѣ-нибудь поблизости какого-нибудь кабака или трактирчика?
Рыжіе панталоны поднимаютъ глаза къ небу и глубокомысленно задумываются…
Петербургская газета, 1886, № 169.
Скорая помощь.
— Ребята, пустите съ дороги, старшина съ писаремъ идетъ!
— Герасиму Алпатычу, съ праздникомъ! — гудитъ толпа навстрѣчу старшинѣ. — Дай Богъ, чтобъ, значитъ, Герасимъ Алпатычъ, не вамъ, не намъ, а какъ Богу угодно.
Подгулявшій старшина хочетъ что-то сказать, но не можетъ. Онъ неопредѣленно шевелитъ пальцами, пучитъ глаза и надуваетъ свои красныя, опухшія щеки съ такой силой, какъ будто беретъ самую высокую ноту на большой трубѣ. Писарь, маленькій, куцый человѣкъ съ краснымъ носикомъ и въ жокейскомъ картузѣ, придаетъ своему липу энергическое выраженіе и входитъ въ толпу.
— Который тутъ утопъ? — спрашиваетъ онъ. — Гдѣ утоплый человѣкъ?
— Вотъ этотъ самый!
Длинный, тощій старикъ, въ синей рубахѣ и лаптяхъ, только-что вытащенный мужиками изъ воды и мокрый съ головы до пятъ, разставивъ руки и разбросавъ въ стороны ноги, сидитъ у берега на лужѣ и лепечетъ:
— Святители-угодники… братцы православные… Рязанской губерніи, Зарайскаго уѣзда… Двухъ сыновъ подѣлилъ, а самъ у Прохора Сергѣева… въ штукатурахъ. Таперича, это самое, стало-быть, даетъ мнѣ семь рублевъ и говоритъ: «Ты, говоритъ, Ѳедя, долженъ теперича, говоритъ, почитать меня замѣсто родителя». Ахъ, волкъ-те заѣшь!
— Ты откеда? — спрашиваетъ писарь.
— Замѣсто, говоритъ, родителя… Ахъ, волкъ-те заѣшь! Это за семь-то рублевъ?
— Вотъ этакъ лопочетъ и самъ не знаетъ по-каковски, — кричитъ сотскій Анисимъ не своимъ голосомъ, мокрый по поясъ и видимо встревоженный происшествіемъ. — Дай я тебѣ объясню, Егоръ Макарычъ! Ребята, постой, не галди! Я желаю все какъ есть Егору Макарычу… Идетъ онъ, значитъ, изъ Курнева… Да погоди, ребята, не болтай зря! Идетъ онъ, значитъ, изъ Курнева, и понесла его нелегкая бродомъ. Человѣкъ, значитъ, выпивши, не въ своемъ умѣ, полѣзъ сдуру въ воду, а его съ ногъ сшибло и зачало вертѣть, какъ щепку. Кричитъ благимъ матомъ, а тутъ я съ Ляксандрой… Чего такое? По какому случаю человѣкъ кричитъ? Видимъ, тонетъ… Что тутъ дѣлать? Бросай, кричу, Ляксандра, къ шуту гармонію, мужика спасать! Лѣземъ прямо, какъ есть, а тамъ вертитъ и крутитъ, вертитъ и крутитъ — спаси, Царица Небесная! Попали въ самую вертячую… Онъ его за рубаху, я за волосья. Тутъ прочій народъ, который увидѣлъ, бѣжитъ на берегъ, крикъ подняли… каждому спасать душу желается… Замучились, Егоръ Макарычъ! Не подоспѣй мы во-время, совсѣмъ бы утопъ ради праздника…
— Какъ тебя звать? — спрашиваетъ писарь утопленника. — Какого происхожденія?
Тотъ безсмысленно поводитъ глазами и молчитъ.
— Очумѣлъ! — говоритъ Анисимъ. — И какъ не очумѣть? Почитай, полное брюхо воды. Милый человѣкъ, какъ тебя звать? Молчитъ! Какая въ немъ жизнь? Видимость одна, а душа небось наполовину вышла… Экое горе ради праздника! Что тутъ прикажешь дѣлать? Помретъ, чего добраго… Погляди, какъ рожа-то посинѣла!
— Послушай, ты! — кричитъ писарь, трепля утопленника за плечо. — Ты! Отвѣчай, тебѣ говорю! Какого ты происхожденія? Молчишь, словно тебѣ весь мозухъ въ головѣ водой залило. Ты!
— Это за семь-то рублей? — бормочетъ утопленникъ. — Поди ты, говорю, къ псу… Мы не желаемъ…
— Чего ты не желаешь? Отвѣчай явственно! Утопленникъ молчитъ и, дрожа всѣмъ тѣломъ отъ холода, стучитъ зубами.
— Одно только званіе, что живой, — говоритъ Анисимъ: — а поглядѣть, такъ и на человѣка не похожъ. Капель бы ему какихъ…
— Капель… — передразниваетъ писарь. — Какія тутъ капли? Человѣкъ утопъ, а онъ — капли! Откачивать надо! Что рты поразѣвали? Народъ безчувственный! Бѣгите скорѣй въ волостное за рогожей, да качайте!
Нѣсколько человѣкъ срываются съ мѣста и бѣгутъ къ деревнѣ за рогожей. На писаря находитъ вдохновеніе. Онъ засучиваетъ рукава, потираетъ ладонями бока и дѣлаетъ массу мелкихъ тѣлодвиженій, свидѣтельствующихъ объ избыткѣ энергіи и рѣшимости.
— Не толпитесь, не толпитесь, — бормочетъ онъ. — Которые лишніе, уходите! Поѣхали за урядникомъ? А вы бы уходили, Герасимъ Алпатычъ; — обращается онъ къ старшинѣ. — Вы назюзюкались, и въ вашемъ интересномъ положеніи самое лучшее теперь сидѣть дома.
Старшина неопредѣленно шевелитъ пальцами и, желая что-то сказать, такъ надуваетъ лицо, что оно, того и гляди, лопнетъ и разлетится во всѣ стороны.
— Ну, клади его, — кричитъ писарь, когда приносятъ рогожу. — Берите за руки и за ноги. Вотъ такъ. Теперь кладите.
— Поди ты, говорю, къ псу, — бормочетъ утопленникъ, не сопротивляясь и какъ бы не замѣчая, что его поднимаютъ и кладутъ на рогожу. — Мы не желаемъ.
— Ничего, ничего, другъ, — говоритъ ему писарь: — не пужайся. Мы тебя малость покачаемъ и, Богъ дастъ, придешь въ чувство. Сейчасъ пріѣдетъ урядникъ и составитъ протоколъ на основаніи существующихъ законовъ. Качай! Господи благослови!
Восемь дюжихъ мужиковъ, въ томъ числѣ и сотскій Анисимъ, берутся за углы рогожи; сначала они качаютъ нерѣшительно, какъ бы не вѣря въ свои силы, потомъ же, войдя мало-по-малу во вкусъ, придаютъ своимъ лицамъ звѣрское, сосредоточенное выраженіе и качаютъ съ жадностью и съ азартомъ. Они вытягиваются, становятся на цыпочки, подпрыгиваютъ, точно хотятъ вмѣстѣ съ утопленникомъ взлетѣть на небо.
— Рразъ! разъ! разъ! разъ!
Вокругъ нихъ бѣгаетъ куцый писарь и, вытягиваясь изо всѣхъ силъ, чтобы достать руками рогожку, кричитъ не своимъ голосомъ:
— Шибче! Шибче! Всѣ сразу, въ тактъ! Разъ! разъ! Анисимъ, не отставай, прошу тебя убѣдительно! Разъ!
Во время короткой передышки изъ рогожи показываются всклокоченная голова и блѣдное лицо съ выраженіемъ недоумѣнія, ужаса и физической боли, но тотчасъ исчезаютъ, потому что рогожа вновь летитъ вверхъ направо, стремительно опускается внизъ и съ трескомъ взлетаетъ вверхъ налѣво. Толпа зрителей издаетъ одобрительные звуки:
— Такъ его! Потрудитесь для души! Спасибо!
— Молодчина, Егоръ Макарычъ! Потрудись для души, — это правильно!
— А ужъ мы его, братцы, такъ не отпустимъ! Какъ, значитъ, станетъ на ноги, въ умъ прійдетъ, — ставь ведро за труды!
— Ахъ, въ ротъ-те дышло съ макомъ! Глядика-сь, братцы, шмелевская барыня съ приказчикомъ ѣдетъ. Такъ и есть. Приказчикъ въ шляпѣ.
Около толпы останавливается коляска, въ которой сидитъ полная, пожилая дама, въ pince-nez и съ пестрымъ зонтикомъ; спиной къ ней, на козлахъ, рядомъ съ кучеромъ, сидитъ приказчикъ — молодой человѣкъ, въ соломенной шляпѣ. У барыни лицо испугано.
— Что такое? — спрашиваетъ она. — Что это дѣлаютъ?
— Утоплаго человѣка откачиваемъ! Съ праздникомъ! Маленько выпивши, потому собственно такое дѣло — нынче поперекъ всей деревни съ образами ходили! Праздникъ!
— Боже мой! — ужасается барыня. — Они утопленника откачиваютъ! Что же это такое? Этьенъ, — обращается она къ приказчику: — подите, ради Бога, скажите имъ, чтобы они не смѣли этого дѣлать. Они уморятъ его! Откачивать — это предразсудокъ! Нужно растирать и искусственное дыханіе. Идите, я васъ прошу!
Этьенъ прыгаетъ съ козелъ и направляется къ качающимъ. Видъ у него строгій.
— Что вы дѣлаете? — кричитъ онъ сердито. — Нешто можно человѣка откачивать?
— А то какъ же его? — спрашиваетъ писарь. — Вѣдь онъ утоплый!
— Такъ что жъ, что утоплый? Обмершихъ отъ утонутія надо не откачивать, а растирать. Такъ въ каждомъ календарѣ написано. Будетъ вамъ, бросьте!
Писарь конфузливо пожимаетъ плечами и отходитъ въ сторону. Качающіе кладутъ рогожу на землю и удивленно глядятъ то на барыню, то на Этьена. Утопленникъ уже съ закрытыми глазами лежитъ на спинѣ и тяжело дышитъ.
— Пьяницы! — сердится Этьенъ.
— Милый человѣкъ! — говоритъ Анисимъ, запыхавшись и прижимая руку къ сердцу. — Степанъ Иванычъ! Зачѣмъ такія слова? Нешто мы свиньи, не понимаемъ?
— Не смѣй качать! Растирать нужно! Берите его, растирайте! Раздѣвайте скорѣй!
— Ребята, растирать!
Утопленника раздѣваютъ и подъ руководствомъ Этьена начинаютъ растирать. Барыня, не желающая видѣть голаго мужика, отъѣзжаетъ поодаль.
— Этьенъ! — стонетъ она. — Этьенъ! Подите сюда! Вы знаете, какъ дѣлается искусственное дыханіе? Нужно переворачивать съ-боку-на-бокъ и давить грудь и животъ.
— Поворачивайте его съ-боку-на-бокъ! — говоритъ Этьенъ, возвращаясь отъ барыни къ толпѣ. — Да животъ ему давите, только полегче.
Писарь, которому послѣ кипучей, энергической дѣятельности становится какъ-то не по себѣ, подходитъ къ утопленнику и тоже принимается растирать.
— Старайтесь, братцы, убѣдительно васъ прошу! — говоритъ онъ. — Убѣдительно васъ прошу!
— Этьенъ! — стонетъ барыня. — Подите сюда! Давайте ему нюхать жженыя перья и щекочите… Велите щекотать! Скорѣй, ради Бога!
Проходитъ пять, десять минутъ… Барыня глядитъ на толпу и видитъ внутри ея сильное движеніе. Слышно, какъ пыхтятъ работающіе мужики и какъ распоряжаются Этьенъ и писарь. Пахнетъ жжеными перьями и спиртомъ. Проходитъ еще десять минутъ, а работа все продолжается. Но вотъ, наконецъ, толпа разступается и изъ нея выходитъ красный и вспотѣвшій Этьенъ. За нимъ идетъ Анисимъ.
— Надо было бы съ самаго начала растирать, — говоритъ Этьенъ. — Теперь ужъ ничего не подѣлаешь.
— Гдѣ ужъ тутъ подѣлать, Степанъ Иванычъ! — вздыхаетъ Анисимъ. — Поздно захватили!
— Ну, что? — спрашиваетъ барыня. — Живъ?
— Нѣтъ, померъ, царство ему небесное, — вздыхаетъ Анисимъ, крестясь. — О ту пору, какъ изъ воды вытащили, движимость въ немъ была и глаза раскрывши, а теперича закоченѣлъ весь.
— Какъ жаль!
— Значитъ, планида ему такая, чтобъ не на сушѣ, а въ водѣ смерть принять. На чаекъ бы съ вашей милости!
Этьенъ вскакиваетъ на козла, и кучеръ, оглянувшись на толпу, которая сторонится отъ мертваго тѣла, бьетъ по лошадямъ. Коляска катитъ дальше.
Петербургская газета, 1887, № 168.
Загадочная натура.
Купе перваго класса.
На диванѣ, обитомъ малиновымъ бархатомъ, полулежитъ хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый вѣеръ трещитъ въ ея судорожно сжатой рукѣ, pince-nez то и дѣло спадаетъ съ ея хорошенькаго носика, брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волнъ. Она взволнована… Противъ нея на диванчикѣ сидитъ губернаторскій чиновникъ особыхъ порученій, молодой начинающій писатель, помѣщающій въ губернскихъ вѣдомостяхъ небольшіе разсказы или, какъ самъ онъ называетъ, «новэллы» — изъ великосвѣтской жизни… Онъ глядитъ ей въ лицо, глядитъ въ упоръ, съ видомъ знатока. Онъ наблюдаетъ, изучаетъ, улавливаетъ эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимаетъ ее, постигаетъ… Душа ея, вся ея психологія у него какъ на ладони.
— О, я постигаю васъ! — говоритъ чиновникъ особыхъ порученій, цѣлуя ея руку около браслета. — Ваша чуткая, отзывчивая душа ищетъ выхода изъ лабиринта… Да! Борьба страшная, чудовищная, но… не унывайте! Вы будете побѣдительницей! Да!
— Опишите меня, Вольдемаръ! — говоритъ дамочка, грустно улыбаясь. — Жизнь моя такъ полна, такъ разнообразна, такъ пестра… Но главное — я несчастна! Я страдалица во вкусѣ Достоевскаго… Покажите міру мою душу, Вольдемаръ, покажите эту бѣдную душу! Вы — психологъ. Не прошло и часа, какъ мы сидимъ въ купе и говоримъ, а вы уже постигли меня всю, всю!
— Говорите! Умоляю васъ, говорите!
— Слушайте. Родилась я въ бѣдной чиновничьей семьѣ. Отецъ добрый малый, умный, но… духъ времени и среды… vous comprenez, я не виню моего бѣднаго отца. Онъ пилъ, игралъ въ карты… бралъ взятки… Мать же… Да что говорить! Нужда, борьба за кусокъ хлѣба, сознаніе ничтожества… Ахъ, не заставляйте меня вспоминать! Мнѣ нужно было самой пробивать себѣ путь… Уродливое институтское воспитаніе, чтеніе глупыхъ романовъ, ошибки молодости, первая робкая любовь… А борьба со средой? Ужасно! А сомнѣнія? А муки зарождающагося невѣрія въ жизнь, въ себя?… Ахъ! Вы писатель и знаете насъ, женщинъ. Вы поймете… Къ несчастью, я надѣлена широкой натурой… Я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть человѣкомъ! Да! Быть человѣкомъ — въ этомъ я видѣла свое счастье!
— Чудная! — лепечетъ писатель, цѣлуя руку около браслета. — Не васъ цѣлую, дивная, а страданіе человѣческое! Помните Раскольникова? Онъ такъ цѣловалъ.
— О, Вольдемаръ! Мнѣ нужна была слава… шумъ, блескъ, какъ для всякой — къ чему скромничать? — недюжинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновеннаго… не женскаго! И вотъ… И вотъ… подвернулся на моемъ пути богатый старикъ-генералъ… Поймите меня, Вольдемаръ! Вѣдь это было самопожертвованіе, самоотреченіе, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, дѣлать добро… А какъ я страдала, какъ невыносимы, низменно-пошлы были для меня объятія этого генерала, хотя, надо отдать ему справедливость, въ свое время онъ храбро сражался. Бывали минуты… ужасныя минуты! Но меня подкрѣпляла мысль, что старикъ не сегодня-завтра умретъ, что я стану жить, какъ хотѣла, отдамся любимому человѣку, буду счастлива… А у меня есть такой человѣкъ. Вольдемаръ! Видитъ Богъ, есть!
Дамочка усиленно машетъ вѣеромъ. Лицо ея принимаетъ плачущее выраженіе.
— Но вотъ старикъ умеръ… Мнѣ онъ оставилъ кое-что, я свободна, какъ птица. Теперь-то и жить мнѣ счастливо… Не правда ли, Вольдемаръ? Счастье стучится ко мнѣ въ окно. Стоитъ только впустить его, но… нѣтъ! Вольдемаръ, слушайте, заклинаю васъ! Теперь-то и отдаться любимому человѣку, сдѣлаться его подругой, помощницей, носительницей его идеаловъ, быть счастливой… отдохнуть… Но какъ все пошло, гадко и глупо на этомъ свѣтѣ! Какъ все подло, Вольдемаръ! Я несчастна, несчастна, несчастна! На моемъ пути опять стоитъ препятствіе! Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ахъ, сколько мукъ, если бъ вы знали! Сколько мукъ!
— Но что же? Что стало на вашемъ пути? Умоляю васъ, говорите! Что же?
— Другой богатый старикъ…
Изломанный вѣеръ закрываетъ хорошенькое личико. Писатель подпираетъ кулакомъ свою многодумную голову, вздыхаетъ и съ видомъ знатока-психолога задумывается. Локомотивъ свищетъ и шикаетъ, краснѣютъ отъ заходящаго солнца оконныя занавѣсочки…
Юмористическій журналъ «Осколки», 1883, № 12.
-
красное французское вино. ↩
-
Сколько потребуется!… ↩
-
чистаго… ↩
-
фр. учтиваго кавалера. ↩
-
дорогая (фр. ma chère). ↩
-
фр. jeune premier — первый любовникъ. ↩
-
фр. jeune premier — первый любовникъ. ↩
-
фр. parole d’honneur — честное слово. ↩
-
фр. soirées fixes — званыхъ вечерахъ. ↩
-
фр. Mon Dieu — Боже мой. ↩
-
фр. enchanteur — очаровательный. ↩
-
лат. ab ovo — съ самаго начала… ↩
-
лат. nomina sunt odiosa — имена ненавистны (об именахъ умалчиваютъ). ↩
-
лат. exitus letalis — смертельный исходъ. ↩
-
лат. ultima ratio — последній доводъ! ↩
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.