Ѳома Гордѣевъ
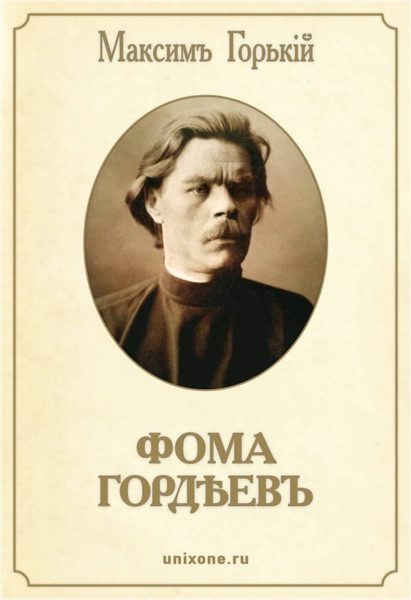
І.
Лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, когда на Волгѣ со сказочною быстротой создавались милліонныя состоянія, — на одной изъ баржъ богача купца Заева служилъ водоливомъ молодой парень Игнатъ Гордѣевъ.
Богатырски-сложенный, красивый и не глупый, онъ былъ однимъ изъ тѣхъ людей, которымъ всегда и во всемъ сопутствуетъ удача — не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорѣе потому, что, обладая огромнымъ запасомъ энергіи, они по пути къ своимъ цѣлямъ не умѣютъ, даже не могутъ задумываться надъ выборомъ средствъ и помимо своего желанія не знаютъ иного закона. Иногда они со страхомъ говорятъ о своей совѣсти, порою искренно мучатся въ борьбѣ съ ней, — но совѣсть — это сила непобѣдимая лишь для слабыхъ духомъ; сильные же быстро овладѣваютъ ею и порабощаютъ ее своимъ желаніямъ, ибо они безсознательно чувствуютъ, что если дать ей просторъ и свободу — она изломаетъ жизнь. Они приносятъ ей въ жертву дни; если же случится, что она одолѣетъ ихъ души, то они, побѣжденные ею, никогда не бываютъ разбиты и такъ же здорово и сильно живутъ подъ ея началомъ, какъ жили и безъ нея…
Въ сорокъ лѣтъ отъ роду Игнатъ Гордѣевъ самъ былъ собственникомъ трехъ пароходовъ и десятка баржъ. На Волгѣ его уважали какъ богача и умнаго человѣка, но дали ему прозвище — „Шалый“, ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, какъ у другихъ людей, ему подобныхъ, а то и дѣло, мятежно вскипая, бросалась вонъ изъ колеи, въ стороны отъ наживы, главной цѣли существованія этого человѣка. Было какъ бы трое Гордѣевыхъ, или — въ тѣлѣ Игната были какъ бы три души.
Одна изъ нихъ, самая мощная, была только жадна, и когда Игнатъ жилъ, подчиняясь ея велѣніямъ, — тогда онъ былъ просто человѣкъ, охваченный неукротимой страстью къ работѣ. Эта страсть горѣла въ немъ дни и ночи, онъ всецѣло поглощался ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не могъ насытиться шелестомъ и звономъ денегъ. Онъ метался по Волгѣ вверхъ и внизъ, укрѣпляя и настраивая на ней сѣти, которыми ловилъ золото: онъ скупалъ по деревнямъ хлѣбъ, возилъ его въ Рыбинскъ на своихъ баржахъ; грабилъ, обманывалъ, иногда не замѣчалъ этого, иногда — замѣчалъ и, торжествуя, открыто смѣялся надъ обманутыми имъ и въ безуміи своей жажды денегъ возвышался до поэзіи. Но, отдавая такъ много силы этой погонѣ за рублемъ, онъ не былъ жаденъ въ узкомъ смыслѣ и даже порой обнаруживалъ непонятное, но искреннее равнодушіе къ своему имуществу.
Однажды, во время ледохода на Волгѣ, онъ стоялъ на берегу и, видя, какъ ледъ ломаетъ его новую сорока-пяти-саженную баржу, притиснувъ ее къ обрывистому берегу, приговаривалъ сквозь зубы:
— Такъ ее… ну-ка еще… жми-дави!…ну, еще разокъ!… рры!
— Что, Игнатъ, — спросилъ его кумъ Маякинъ, подходя къ нему, — выжимаетъ ледъ-то у тебя изъ мошны тысячъ десять, этакъ?
— Ничего! Еще сто наживемъ… а ты гляди, какъ работаетъ Волга-то! а? Здорово? Она, матушка, всю землю можетъ разворотить, какъ творогъ ножомъ… гляди, гляди! Вотъ-те и „Боярыня“ моя! Всего одну воду поплавала… Ну, справимъ что ли поминки ей?
Баржу раздавило на щепки. Игнатъ съ кумомъ, сидя въ трактирѣ на берегу, пили водку и смотрѣли въ окно, какъ вмѣстѣ со льдомъ по рѣкѣ неслись обломки „Боярыни“.
— Жалко посуду-то, Игнатъ? — спросилъ Маякинъ.
— Ну, чего жъ жалѣть? Волга дала, Волга и взяла… Чай, не руку мнѣ оторвало…
— Все-таки…
— Что — все-таки? Ладно хоть самъ видѣлъ, какъ все дѣлалось… впередъ наука. А вотъ, когда у меня „Волгарь“ горѣлъ — жалко, не видалъ я. Чай, какая красота, когда на водѣ, да темной ночью этакій кострище пылаетъ, а? Большущій пароходина былъ…
— Будто тоже не пожалѣлъ?
— Пароходъ? Пароходъ… жалко было, точно… Ну, да вѣдь это глупость одна — жалость! Какой толкъ? Плачь, пожалуй: слёзы пожара не потушатъ. Пускай ихъ — пароходы горятъ… и хоть все сгори — плевать! Горѣла бы душа къ работѣ… и все снова воздвигнется… такъ ли?
— Н-да, — сказалъ Маякинъ, усмѣхаясь, — Это ты крѣпкія слова говоришь… И кто такъ говоритъ — его хоть догола раздѣнь, онъ все богатъ будетъ…
Относясь такъ философски къ потерямъ тысячъ, Игнатъ зналъ цѣну каждой копейки; онъ даже нищимъ подавалъ рѣдко и только тѣмъ, которые были совершенно неспособны къ работѣ. Если же милостыню просилъ человѣкъ мало-мальски здоровый, Игнатъ строго говорилъ:
— Проваливай! Еще работать можешь… поди, вонъ, дворнику моему помоги навозъ убрать, — семишникъ дамъ…
Въ періоды увлеченія работой онъ къ людямъ относился сурово и безжалостно, — онъ и себѣ покоя не давалъ, ловя рубли. И вдругъ — обыкновенно это случалось весной, когда все на землѣ становится такъ обаятельно красиво и чѣмъ-то укоризненно ласковымъ вѣетъ на душу съ яснаго неба — Игнатъ Гордѣевъ какъ бы чувствовалъ, что онъ не хозяинъ своего дѣла, а низкій рабъ его. Онъ задумывался и, пытливо поглядывая вокругъ себя изъ-подъ густыхъ, нахмуренныхъ бровей, цѣлыми днями ходилъ угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чемъ-то и боясь спросить вслухъ. Тогда въ немъ просыпалась другая душа — буйная и похотливая душа раздраженнаго голодомъ звѣря. Дерзкій со всѣми и циничный, онъ пилъ, развратничалъ и спаивалъ другихъ, онъ приходилъ въ изступленіе и въ немъ точно вулканъ грязи вскипалъ. Казалось, онъ бѣшено рветъ тѣ цѣпи, которыя самъ на себя сковалъ и носитъ, онъ рветъ ихъ и безсиленъ разорвать. Всклокоченный, грязный, съ лицомъ, опухшимъ отъ пьянства и безсонныхъ ночей, съ безумными глазами, огромный и ревущій хриплымъ голосомъ, онъ носился по городу изъ одного вертепа въ другой, не считая бросалъ деньги, плакалъ подъ пѣніе заунывныхъ народныхъ пѣсенъ и плясалъ и билъ кого-нибудь, но нигдѣ и ни въ чемъ не находилъ успокоенія.
Случилось какъ-то разъ — къ компаніи, кутившей вмѣстѣ съ Игнатомъ, присталъ, какъ пристаетъ комъ грязи къ сапогу, разстрига-дьяконъ, низенькій и толстый человѣкъ въ дырявомъ подрясникѣ и съ лысой головой. Существо безличное, уродливое и гадкое — онъ игралъ роль шута: ему мазали лысину горчицей, заставляли ходить на четверенькахъ, пить смѣсь разныхъ водокъ, плясать циничные танцы; онъ дѣлалъ все это молча, съ идіотской улыбкой на обрюзгломъ лицѣ и, сдѣлавъ, что было приказано, неизмѣнно говорилъ, простирая руку ладонью кверху:
— Пожалуйте рубликъ…
Надъ нимъ хохотали и иногда давали ему двугривенный, иногда ничего не давали, но случалось, бросали по десять рублей и больше.
— Ты, мр-разь! — крикнулъ ему однажды Игнатъ. — Говори — кто ты есть таковъ?
Дьяконъ испугался окрика, и, низко кланяясь Игнату, молчалъ.
— Кто? Говори! — ревѣлъ Игнатъ.
— Азъ есмь человѣкъ… для поруганія… — отвѣтилъ дьяконъ, и компанія расхохоталась надъ его словами.
— Мерзавецъ ты? — грозно спрашивалъ Игнатъ.
— Мерзавецъ… по нуждѣ и слабости духа моего.
— Иди сюда! — позвалъ его Игнатъ. — Иди и садись рядомъ со мной.
Робкими шагами, вздрагивая отъ страха, дьяконъ подошелъ къ пьяному купцу и сталъ противъ него.
— Садись рядомъ! — говорилъ Игнатъ, взявъ его за руку и усаживая испуганнаго рядомъ съ собой. — Ты мнѣ близкій человѣкъ… Я — тоже мерзавецъ! Ты — по нуждѣ, я — по озорству… я — отъ тоски мерзавецъ! Понялъ?
— Понялъ… — тихо сказалъ дьяконъ.
А компанія хохотала…
— Знаешь теперь, кто я?
— Знаю…
— Ну, скажи: ты, Игнатъ, мерзавецъ!
Дьяконъ не могъ этого. Онъ съ ужасомъ посмотрѣлъ на огромную фигуру Игната и отрицательно потрясъ головой. Компанія же хохотала — точно громъ гремѣлъ. Не могъ Игнатъ приказать дьякону обругать его. Тогда онъ спросилъ его:
— Дать тебѣ денегъ?
— Дайте! — встрепенулся дьяконъ.
— А на что онѣ тебѣ?…
Дьяконъ не хотѣлъ отвѣчать. Тогда Игнатъ взялъ его за шиворотъ и вытрясъ изъ грязныхъ устъ его такую рѣчь, сказанную со страхомъ и тихо, почти шопотомъ:
— Имѣю дщерь… дочку… шестнадцать лѣтъ… въ духовномъ училищѣ. Для нея… коплю… ибо, когда изыдетъ… даже наготу прикрыть будетъ нечѣмъ…
— А… — сказалъ Игнатъ и отпустилъ воротъ дьякона. Потомъ онъ долго сидѣлъ задумчивый и мрачный и все присматривался къ дьякону. Потомъ его глаза засмѣялись, и онъ сказалъ:
— Врешь, вѣдь, пьяница?
Дьяконъ молча перекрестился и опустилъ голову на грудь.
— Правда, есть! — подтвердилъ слова дьякона кто-то изъ компаніи.
— Есть? Ладно! — крикнулъ Игнатъ и, ударивъ кулакомъ по столу, обратился къ дьякону:
— Эй, ты! Продай дочь! Сколько возьмешь?
Дьяконъ тряхнулъ головой и весь съёжился.
— Тыщу!
Компанія хохотала, видя, какъ дьяконъ ежится, точно на него льютъ холодную воду.
— Двѣ! — оралъ Игнатъ, сверкая глазами.
— Что вы?… Какъ это?… — лепеталъ дьяконъ, простирая обѣ руки къ Игнату.
— Три!
— Игнатъ Матвѣичъ! — тонкимъ звенящимъ голосомъ крикнулъ дьяконъ. — Господа Бога ради… ради Христа! Будетъ… продамъ вѣдь! Для нея — продамъ!
Въ его крикахъ, болѣзненно рѣзкихъ, звучала угроза кому-то, и глаза у него, раньше никѣмъ незамѣченные, сверкали какъ угли. Но компанія пьяныхъ людей безумно хохотала надъ нимъ.
— Цыцъ! — грозно крикнулъ Игнатъ, выпрямляясь во весь ростъ и поводя бровями. — Не понимаете, дьяволы, въ чемъ дѣло? Отъ этого заплакать можно, а вы хохочете…
Онъ подошелъ къ дьякону, сталъ предъ нимъ на колѣни и твердо сказалъ ему:
— Дьяконъ! Теперь ты видѣлъ, каковъ я есть мерзавецъ. Ну, плюнь мнѣ въ рожу!
Произошло что-то безобразное и смѣшное. Дьяконъ тоже бросился въ ноги Игнату и, какъ огромная черепаха, ползалъ около нихъ и цѣловалъ колѣни и что-то бормоталъ, всхлипывая. Игнатъ же, склонившись надъ нимъ, поднималъ его съ пола и кричалъ ему, приказывая и прося:
— Плюй! Норови прямо въ безстыжіе глаза мои!
Ошеломленная на минуту грознымъ крикомъ Игната компанія снова хохотала такъ, что стёкла дрожали въ окнахъ трактира.
— Сто цѣлковыхъ даю — плюнь.
А дьяконъ ползалъ по полу и рыдалъ отъ страха или отъ счастья слышать, какъ этотъ человѣкъ проситъ его объ униженіи своемъ.
Наконецъ Игнатъ всталъ съ пола, толкнулъ ногой дьякона и, бросивъ въ него пачкой денегъ, сказалъ угрюмо и усмѣхаясь:
— Сволочь… Развѣ можно человѣку каяться предъ такими? Одни покаянія боятся слышать, другіе смѣются надъ грѣшникомъ… Я было расходился во всю… сердце дрогнуло… Дай, думаю… И ничего я не думалъ… такъ это! Пошелъ вонъ! И чтобы я тебя никогда не видалъ — слышь?
— Ахъ, чуд-дакъ! — умилялась компанія.
О его кутежахъ въ городѣ создавались легенды, его всѣ строго осуждали, но никто никогда не отказывался отъ его приглашенія на оргіи. Такъ онъ жилъ недѣлями. И неожиданно являлся домой еще весь пропитанный запахомъ кабаковъ, но уже подавленный и тихій. Со смиренно опущенными глазами, въ которыхъ теперь горѣлъ стыдъ, онъ молча слушалъ упреки жены, смирный и тупой, какъ овца, уходилъ къ себѣ въ комнату и тамъ запирался. По нѣскольку часовъ кряду онъ выстаивалъ на колѣняхъ предъ образами, опустивъ голову на грудь; безпомощно висѣли его руки, спина сгибалась, и онъ молчалъ, какъ бы не смѣя молиться. Къ дверямъ на цыпочкахъ подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью — вздохи лошади, усталой и больной.
— Господи! Ты видишь… — глухо шепталъ Игнатъ, съ силой прижимая къ широкой груди ладони рукъ.
Во дни покаянія онъ пилъ только воду и ѣлъ ржаной хлѣбъ. Жена утромъ ставила къ двери его комнаты большой графинъ воды, фунта полтора хлѣба и соль. Онъ отворялъ дверь, бралъ себѣ эту трапезу и снова запирался. Его ужъ такъ и не безпокоили ничѣмъ въ это время, даже избѣгали попадаться на глаза ему… Черезъ нѣсколько дней онъ снова являлся на биржѣ, шутилъ, смѣялся, принималъ подряды на поставку хлѣба, зоркій, какъ опытный хищникъ, тонкій знатокъ всего, что касалось дѣла.
Но во всѣхъ трехъ полосахъ жизни Игната не покидало одно страстное желаніе — желаніе имѣть сына, и чѣмъ старѣе онъ становился, тѣмъ сильнѣе желалъ. Часто между нимъ и женой происходили такія бесѣды. Поутру, за чаемъ, или въ полдень, за обѣдомъ, онъ, хмуро взглянувъ на жену, толстую, раскормленную женщину, съ румянымъ лицомъ и сонными глазами, спрашивалъ ее:
— Что, ничего не чувствуешь?
Она знала, о чемъ онъ спрашивалъ, но неизмѣнно отвѣчала:
— Какъ мнѣ не чувствовать? Кулаки-то у тебя — вона какіе, какъ гири…
— Я про чрево спрашиваю, дура…
— Отъ такого бою развѣ можно понести?
— Не отъ бою ты не родишь, а отъ того, что жрешь много. Набьешь себѣ брюхо всякой пищей — ребенку и негдѣ зародиться.
— Будто я не родила тебѣ?…
— Дѣвокъ-то! — укоризненно говорилъ Игнатъ. — Мнѣ сына надо! Понимаешь ты? Сына, наслѣдника! Кому я послѣ смерти капиталъ сдамъ? кто грѣхъ мой замолитъ? Въ монастырь, что ль, все отдать? Дадено имъ… будетъ ужъ! Тебѣ оставить? Молельщица, ты… ты и въ храмѣ-то стоя только о кулебякахъ думаешь. А помру я — опять замужъ выйдешь… и попадутъ тогда мои деньги какому-нибудь дураку… али я для этого работаю? Эхъ ты…
И его охватывала злобная тоска, ибо онъ, чувствовалъ, что жизнь его — безцѣльна, если не будетъ у него сына, который продолжалъ бы ее.
За девять лѣтъ супружества жена родила ему четырехъ дочерей, но всѣ онѣ умерли. Съ трепетомъ ожидая ихъ рожденія, Игнатъ мало горевалъ объ ихъ смерти — все равно онѣ были не нужны ему. Жену онъ билъ уже на второй годъ свадьбы, билъ сначала подъ пьяную руку и безъ злобы, а просто по пословицѣ: „люби жену, какъ душу, тряси ее, какъ грушу“; но послѣ каждыхъ родовъ у него, обманутаго въ ожиданіяхъ, разгоралась ненависть къ женѣ, и онъ уже билъ ее съ наслажденіемъ, мстя ей за то, что она не родитъ ему сына.
Однажды, находясь по дѣламъ въ Самарской губерніи, онъ получилъ изъ дома отъ родныхъ депешу, извѣщавшую его о смерти жены. Онъ перекрестился, подумалъ и написалъ куму своему Маякину:
„Хороните безъ меня, наблюдай за имуществомъ…“
Потомъ онъ пошелъ въ церковь служить панихиду и, помолившись о упокоеніи души новопреставленной Акилины, сталъ думать о томъ, что ему необходимо поскорѣе жениться.
Въ то время ему было сорокъ три года; высокій, широкоплечій, онъ говорилъ густымъ басомъ, какъ протодьяконъ; большіе глаза его смотрѣли изъ-подъ темныхъ бровей смѣло и умно; въ его загорѣломъ лицѣ, обросшемъ густой черной бородой, и во всей его мощной фигурѣ было много чисто-русской, здоровой и грубой красоты; отъ его плавныхъ движеній и гордой, неторопливой походки вѣяло сознаніемъ силы, твердой увѣренностью въ себѣ. Женщинамъ онъ нравился и не избѣгалъ ихъ.
Не прошло полугода со дня смерти жены, какъ онъ уже посватался къ дочери знакомаго ему по дѣламъ уральскаго казака-молоканина. Отецъ невѣсты, несмотря на то, что Игнатъ былъ и на Уралѣ извѣстенъ какъ „шалый“ человѣкъ, выдалъ за него дочь, и къ осени Игнатъ Гордѣевъ пріѣхалъ домой съ молодой женой-казачкой. Ее звали Наталья. Высокая, стройная, съ огромными голубыми глазами и длинной темно-русой косой, она была достойной парой красавцу Игнату. Онъ ликовалъ, гордился своей женой и любилъ ее страстной любовью здороваго самца, но вскорѣ началъ задумчиво и зорко присматриваться къ ней.
Улыбка рѣдко являлась на овальномъ, строго правильномъ лицѣ его жены, — всегда она думала о чемъ-то точно чуждомъ жизни, и въ голубыхъ ея глазахъ, всегда холодно-спокойныхъ, порой сверкало что-то темное, нелюдимое. Въ свободное отъ занятій по хозяйству время она садилась у окна самой большой комнаты въ домѣ и неподвижно, молча сидѣла тутъ по два и по три часа. Лицо ея было обращено на улицу, но взглядъ ея глазъ былъ такъ безучастенъ ко всему, что жило и двигалось тамъ, за окномъ, и въ то же время былъ такъ сосредоточенно-глубокъ, какъ будто она сметрѣла внутрь себя. И походка у нея была странная — Наталья двигалась по просторнымъ комнатамъ дома медленно и осторожно, какъ будто что-то невидимое стѣсняло свободу ея движеній. Домъ былъ обставленъ съ тяжелой и грубо-хвастливой роскошью, все въ немъ блестѣло и кричало о богатствѣ хозяина, но казачка ходила мимо дорогихъ мебелей и горокъ, наполненныхъ серебромъ, какъ-то бокомъ и пугливо, точно боялась, что эти вещи схватятъ ее и задавятъ. Шумная жизнь большого, торговаго города должно быть не интересовала эту молчаливую женщину, и когда она выѣзжала съ мужемъ кататься — глаза ея были устремлены въ спину кучера. Если мужъ звалъ ее въ гости — она шла и тамъ вела себя такъ же странно, какъ дома; если къ ней приходили гости, она усердно поила и кормила ихъ, не обнаруживая никакого интереса къ тому, о чемъ говорили они, и никого изъ нихъ не предпочитая другимъ. Лишь кумъ Маякинъ, умница и балагуръ, порой вызывалъ на лицѣ ея улыбку, неясную какъ тѣнь. Онъ говорилъ про нее:
„Дерево — не баба! Но жизнь, какъ костеръ неугасимый, и всѣ мы въ ней запылаемъ, вспыхнетъ и эта молоканка, погоди, дай срокъ. Тогда увидимъ, какими она цвѣтами расцвѣтетъ…“
— Эй, кулугурка! — шутливо говорилъ Игнатъ женѣ. — Что задумалась? Или по своей станицѣ скучаешь? Живи веселѣй!
Она молчала, спокойно поглядывая на него.
— Больно ужъ ты часто по церквамъ ходишь… Погодила бы! успѣешь еще грѣхи-то замолить… сперва натвори ихъ. Знаешь: не согрѣшишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься… Ты, вотъ, и погрѣши, пока молода. Поѣдемъ кататься?
— Не хочется…
Онъ подсаживался къ ней, обнималъ ее, холодную, скупо отвѣчавшую на его ласки, и, заглядывая въ ея глаза, говорилъ:
— Наталья! Скажи — чего ты такая нерадостная? Скучно, что ли, со мной, а?
— Нѣтъ, — кратко отвѣчала она.
— Такъ что же — къ своимъ что ли хочется?
— Да нѣтъ… такъ это…
— О чемъ ты думаетъ?…
— Я не думаю…
— А что же?
— Такъ…
Однажды онъ добился отъ нея болѣе многосложнаго отвѣта:
— Въ сердцѣ у меня… смутное что-то. И въ глазахъ… И все кажется мнѣ, что это — не настоящее…
Она повела вокругъ себя рукой, на стѣны, мебель, на все. Игнатъ не подумалъ надъ ея словами и, смѣясь, сказалъ ей:
— Это ты напрасно! Тутъ все самое настоящее… вещь все дорогая, прочная… Но захочешь — всю сожгу, распродамъ, раздарю и — новое заведу! Ну, желаешь?
— На что? — спокойно сказала она.
Его, наконецъ, удивляло, какъ это она, такая молодая, здоровая, живетъ — точно спитъ, ничего не хочетъ, никуда, кромѣ церквей, не ходитъ, всѣхъ людей дичится. И онъ утѣшалъ ее:
— Вотъ погоди — родишь ты мнѣ сына и — совсѣмъ другая жизнь у тебя пойдетъ. Это ты отъ того печалишься, что заботы у тебя мало, а онъ тебѣ дастъ заботу… Родишь, вѣдь, сына, а?
— Какъ Богъ дастъ… — отвѣчала она, опуская голову. Потомъ ея настроеніе стало раздражать его.
— Ну, молоканка, что носъ повѣсила? Ходитъ — ровно по стеклу… смотритъ — будто душу чью-то загубила! Э-эхма! Баба ты такая ядреная, а вкуса у тебя нѣтъ ни къ чему… дуреха!
Разъ, придя домой выпивши, онъ началъ приставать къ ней съ ласками, а она уклонялась отъ нихъ. Тогда онъ разсердился и крикнулъ:
— Наталья! Не дури, смотри!
Она обернулась лицомъ къ нему и спокойно спросила:
— А то что будетъ?
Игнатъ освирѣпѣлъ отъ этихъ словъ и ея безбоязненнаго взгляда.
— Что? — рявкнулъ онъ, наступая на нее.
— Прибить что ли хочешь? — не двигаясь съ мѣста и не моргнувъ глазомъ, спрашивала она.
Игнатъ привыкъ, чтобъ предъ гнѣвомъ его трепетали, и ему было дико и обидно видѣть ея спокойствіе.
— А вотъ… — крикнулъ онъ, замахиваясь на нее. Не быстро, но во-время, она уклонилась отъ его удара, потомъ схватила руку его, оттолкнула ее прочь отъ себя и, не повышая голоса, сказала:
— Ежели тронешь — больше ко мнѣ не подходи! не допущу до себя!
Большіе глаза ея сузились, и ихъ острый, рѣжущій блескъ отрезвилъ Игната. Онъ понялъ по лицу ея, что она тоже звѣрь сильный и, если захочетъ, — не допуститъ его до себя, хоть до смерти забей ее.
— У-у, кулугурка! — рыкнулъ онъ и ушелъ.
Но, отступивъ предъ нею однажды, въ другой разъ онъ не сдѣлалъ бы этого: не могъ онъ потерпѣть, чтобъ женщина и жена его не преклонилась предъ нимъ: это унизило бы его. Онъ тогда же почувствовалъ, что жена ни въ чемъ и никогда не уступитъ ему съ этой поры и что между нимъ и ею должна завязаться упорная борьба за преобладаніе.
„Ладно! Поглядимъ, кто кого“, — думалъ онъ на слѣдующій день, съ угрюмымъ любопытствомъ наблюдая за женой, и въ душѣ его уже разгоралось бурное желаніе начать борьбу, чтобъ скорѣе насладиться побѣдой.
Но дня черезъ четыре Наталья Ѳоминична объявила мужу, что она беременна. Игнатъ вздрогнулъ отъ радости, крѣпко обнялъ ее и глухо заговорилъ:
— Молодецъ Наталья! Наташа… ежели — сынъ! Ежели сына родишь — озолочу! Что тамъ! Прямо говорю — слугою тебѣ буду! Вотъ какъ передъ Богомъ! Подъ ноги тебѣ лягу, топчи меня, какъ захочешь!
— Въ этомъ не наша воля, а Божья… — тихо и вразумительно сказала она.
— Да… Божья! — съ горечью воскликнулъ Игнатъ и грустно поникъ головой. Съ этой минуты онъ началъ ходить за женой, какъ за малымъ ребенкомъ.
— Пошто сѣла къ окну? Смотри — надуетъ въ бокъ, захвораешь еще… — говорилъ онъ ей сурово и ласково. — Что ты скачешь по лѣстницѣ-то? Встряхнешься какъ-нибудь… А ты ѣшь больше, на двоихъ ѣшь, чтобы ему хватало…
Наталью же беременность сдѣлала еще болѣе сосредоточенной и молчаливой; она какъ бы еще глубже ушла въ себя, поглощенная біеніемъ новой жизни подъ сердцемъ своимъ. Но улыбка ея губъ стала яснѣе, и въ глазахъ порой вспыхивало что-то новое, слабое и робкое, какъ первый проблескъ утренней зари.
Когда, наконецъ, наступило время родовъ, — это было рано поутру осенняго дня, — при первомъ крикѣ боли, вырвавшемся у жены, Игнатъ поблѣднѣлъ, хотѣлъ что-то сказать ей, но только махнулъ рукой и ушелъ изъ спальни, — гдѣ жена корчилась въ судорогахъ, — внизъ въ маленькую комнатку, служившую моленной для его покойной матери. Онъ велѣлъ принести себѣ водки, сѣлъ за столъ и сталъ угрюмо пить, прислушиваясь къ тревогѣ въ домѣ и стонамъ родильницы, доносившимся сверху. Въ углу комнаты, тускло освѣщенные мерцающимъ огнемъ лампады, смутно рисовались лики иконъ, безучастные и темные. Тамъ, наверху, надъ его головой топали и шаркали ногами, что-то тяжелое передвигали по полу, гремѣла посуда, по лѣстницѣ вверхъ и внизъ суетливо бѣгали… Все дѣлалось быстро и торопливо, но время шло медленно… До слуха Игната доносились подавленные голоса:
— Видно, не разродится она такъ-то… въ церковь бы послать, чтобъ царскія врата отворили…
Въ комнату, сосѣднюю съ той, гдѣ сидѣлъ Игнатъ, вошла приживалка Вассушка и громкимъ шопотомъ стала молиться:
— Господи Боже нашъ… благоволивый снити съ небесъ и родитися отъ святыя Богородицы… вѣдый немощное человѣческаго естества… прости рабѣ Твоей…
И вдругъ, заглушая всѣ звуки, раздавался нечеловѣческій вой, сотрясавшій душу, или продолжительный стонъ тихо плылъ по комнатамъ дома и умиралъ въ углахъ, уже полныхъ вечерняго сумрака… Игнатъ бросалъ угрюмые взгляды на иконы, тяжело вздыхалъ и думалъ:
— Неужто опять дочь будетъ?
Порой онъ вставалъ, безтолково стоялъ среди комнаты и молча крестился, низко кланяясь иконамъ, потомъ опять садился за столъ, пилъ водку, неопьянявшую его въ эти часы, дремалъ, и — такъ провелъ весь вечеръ и всю ночь и утро до полудня…
И вотъ, наконецъ, сверху торопливо сбѣжала повитуха, тонкимъ и радостнымъ голосомъ крича ему:
— Съ сыномъ тебя, Игнатъ Матвѣичъ!
— Вре-ешь? — глухо сказалъ онъ.
— Ну, что это ты, батюшка!…
Вздохнувъ во всю силу своей широкой груди, Игнатъ рухнулъ на колѣни и дрожащимъ голосомъ забормоталъ, крѣпко прижимая руки къ груди:
— Слава Тебѣ, Господи! Не восхотѣлъ Ты, стало быть, чтобы прекратился родъ мой! Не останутся безъ оправданія грѣхи мои предъ Тобою… Спасибо Тебѣ, Господи… охъ! — И тотчасъ же, поднявшись на ноги, онъ началъ зычно командовать:
— Эй! Поѣзжай кто-нибудь къ Николѣ за попомъ! Игнатій, молъ, Матвѣичъ, проситъ! пожалуйте, молъ, молитву роженицѣ дать…
Явилась горничная и тревожно сказала ему:
— Игнатій Матвѣичъ! Наталья Ѳоминишна васъ зоветъ… плохо имъ…
— Чего плохо? Пройдетъ! — рычалъ онъ, радостно сверкая глазами. — Скажи — сейчасъ иду! Скажи — молодецъ она! Сейчасъ, молъ, подарокъ на зубокъ достанетъ и придетъ! Стой! Закуску попу приготовьте… за кумомъ Маякинымъ пошлите!
Его огромная фигура точно еще выросла и, опьяненная радостью, нелѣпо металась по комнатѣ; онъ улыбался, потиралъ руки и, бросая на образа умиленные взгляды, крестился, широко размахивая рукой… Наконецъ, пошелъ къ женѣ.
Тамъ прежде всего бросилось въ глаза ему маленькое красное тѣльце, которое повитуха мыла въ корытѣ. Увидавъ его, Игнатъ всталъ на носки сапогъ и, заложивъ руки за спину, пошелъ къ нему, ступая осторожно и смѣшно оттопыривъ губы. Оно же верещало и барахталось въ водѣ, обнаженное, безсильное, трогательно-жалкое…
— Ты тово… осторожнѣе тискай… вѣдь у его еще и костей-то нѣтъ… — сказалъ Игнатъ повитухѣ просительно и вполголоса.
Она засмѣялась, открывая беззубый ротъ и ловко перебрасывая ребенка съ руки на руку.
— Иди, а ты къ женѣ-то…
Онъ послушно двинулся къ постели и на ходу спросилъ:
— Ну что, Наталья?
Потомъ, подойдя, отдернулъ прочь пологъ, бросавшій тѣнь на постель.
— Не выживу я… — раздался тихій, хрипящій голосъ.
Игнатъ молчалъ, пристально глядя на лицо жены, утонувшее въ бѣлой подушкѣ, по которой, какъ мертвыя змѣи, раскинулись темныя пряди волосъ. Желтое, безжизненное, съ черными пятнами вокругъ огромныхъ, широко раскрытыхъ глазъ — оно было чужое ему. И взглядъ этихъ страшныхъ глазъ, неподвижно устремленный куда-то вдаль, сквозь стѣну, — тоже былъ незнакомъ Игнату. Сердце его, стиснутое тяжелымъ предчувствіемъ, замедлило свое радостное біеніе.
— Ничего… ничего… это ужъ всегда… — тихо говорилъ онъ, наклоняясь, чтобы поцѣловать жену. Но прямо въ лицо его она стонала:
— Не выживу…
Губы у нея были сѣрыя, холодныя, и когда онъ прикоснулся къ нимъ своими губами, то понялъ, что смерть — уже въ ней.
— О, Господи! — испуганнымъ шопотомъ произнесъ онъ, чувствуя, какъ страхъ давитъ ему горло и не даетъ дышать.
— Наташа! Какъ же онъ-то? Вѣдь ему — грудь надо? Что ты это!
Онъ чуть не закричалъ на жену. Около него суетилась повитуха; болтая въ воздухѣ плачущимъ ребенкомъ, она что-то убѣдительно говорила ему, но онъ ничего не слыхалъ и не могъ оторвать своихъ глазъ отъ страшнаго лица жены. Губы ея шевелились, и онъ слышалъ тихія слова, но не понималъ ихъ. Сидя на краю постели, онъ говорилъ глухимъ и робкимъ голосомъ:
— Ты подумай — вѣдь онъ безъ тебя не можетъ… вѣдь младенецъ! Ты скрѣпись душой-то: мысль-то эту гони! Гони ее…
Говорилъ и — понималъ, что ненужное говоритъ онъ. Слезы вскипали въ немъ, и въ груди у него родилось что-то тяжелое, какъ камень, холодное, какъ льдина.
— Прости… меня… прощай! Береги, смотри… не пей… — беззвучно шептала Наталья.
Священникъ пришелъ и, закрывъ чѣмъ-то лицо ея, сталъ, вздыхая, читать надъ нею тихія, умоляющія слова:
„Владыко Господи Вседержителю, исцѣляяй всякій недугъ… и сію, днесь родившую, рабу твою Наталью исцѣли… и возстави ю отъ одра, на немъ же лежитъ… зане, по пророка Давида словеси: въ беззаконіяхъ зачахомся и сквернави вси есмы предъ Тобою…“
Голосъ старика прерывался, худое лицо его было строго, и отъ одеждъ его пахло ладаномъ.
— …„изъ нея рожденнаго младенца соблюди отъ всякаго ада… отъ всякой лютости… отъ всякія бури… отъ духовъ лукавыхъ дневныхъ же и нощныхъ…“
Игнатъ слушалъ молитву и безмолвно плакалъ. Слезы его, большія и теплыя, падали на обнаженную руку жены. Но рука ея, должно быть, не чувствовала, какъ ударяются о нея слезы: она оставалась неподвижной, и кожа на ней не вздрагивала отъ ударовъ слезъ. Принявъ молитву, Наталья впала въ безпамятство и на вторыя сутки — умерла, ни слова не сказавъ никому больше, — умерла такъ же молча, какъ жила. Устроивъ женѣ пышныя похороны, Игнатъ окрестилъ сына, назвалъ его Ѳомой и, скрѣпя сердце, отдалъ его въ семью крестнаго отца, стараго пріятеля своего Маякина, у котораго жена незадолго предъ этимъ тоже родила. Въ густой, темной бородѣ Игната смерть жены посѣяла много сѣдинъ, но въ угрюмомъ блескѣ его глазъ явилось новое выраженіе — мягкое и ясно-ласковое.
II.
Маякинъ жилъ въ огромномъ двухъ-этажномъ домѣ съ большимъ палисадникомъ, въ которомъ пышно разрослись могучія, старыя липы. Густыя вѣтви частымъ, темнымъ кружевомъ закрывали окна дома, и солнце сквозь эту завѣсу съ трудомъ, раздробленными лучами проникало въ маленькія комнаты, тѣсно заставленныя разнообразной мебелью и большими сундуками, отчего въ комнатахъ всегда царилъ грустный и строгій полумракъ. Семья была благочестива — запахъ воска, ладана и лампаднаго масла наполнялъ домъ, покаянные вздохи, молитвенныя слова носились въ воздухѣ. Обрядности исполнялись неуклонно, съ наслажденіемъ, въ нихъ влагалась вся свободная сила душъ обитателей дома. Въ сумрачной, душной и тяжелой атмосферѣ по комнатамъ почти безшумно двигались женскія фигуры, одѣтыя въ темныя платья, всегда съ видомъ душевнаго сокрушенія на лицахъ и всегда въ мягкихъ туфляхъ на ногахъ.
Семья Якова Тарасовича Маякина состояла изъ него самого, его жены, дочери и пяти родственницъ, при чемъ самой младшей изъ нихъ было тридцать четыре года. Всѣ онѣ были одинаково благочестивы, безличны и подчинены Антонинѣ Ивановнѣ, хозяйкѣ дома, женщинѣ высокой, худой, съ темнымъ лицомъ и строгими сѣрыми глазами, которые блестѣли властно и умно. Былъ еще у Маякина сынъ Тарасъ, но имя его не упоминалось въ семьѣ; знакомымъ же ея было извѣстно, что съ той поры, какъ девятнадцатилѣтній Тарасъ уѣхалъ въ Москву учиться, — онъ черезъ три года женился тамъ, противъ воли отца, — и Яковъ отрекся отъ него. Тарасъ — пропалъ безъ вѣсти. Говорили, что онъ за что-то сосланъ въ Сибирь…
Яковъ Маякинъ былъ очень странной фигурой. Низенькій, худой, юркій, съ огненно-рыжей клинообразной бородкой, онъ такъ смотрѣлъ своими зеленоватыми, хитрыми глазами, точно говорилъ всѣмъ и каждому:
— Ничего, сударь мой, не безпокойтесь! Я васъ хотя и понимаю, но ежели вы меня не тронете — не выдамъ…
Голова у него была похожа на яйцо и уродливо велика. Высокій лобъ, изрѣзанный морщинами, сливался съ лысиной, и казалось, что у этого человѣка два лица — одно проницательное и умное лицо, съ длиннымъ хрящевымъ носомъ, всѣмъ видимое, а надъ нимъ — другое, безъ глазъ и рта, съ однѣми только морщинами, но за ними Маякинъ какъ бы пряталъ и глаза и губы — пряталъ до времени… и, когда оно наступитъ, — онъ посмотритъ на міръ иными глазами и улыбнется иной улыбкой.
Онъ былъ владѣльцемъ канатнаго завода и имѣлъ въ городѣ у пристаней лавочку. Въ этой лавочкѣ, до потолка заваленной канатомъ, веревкой, пенькой и паклей, у него была маленькая каморка со стеклянной скрипучей дверью. Въ каморкѣ стоялъ большой, старый, уродливый столъ, передъ нимъ — глубокое клеенчатое кресло, и въ немъ Маякинъ сидѣлъ цѣлыми днями, попивая чай да читая всегда однѣ и тѣ же „Московскія Вѣдомости“, которыя онъ выписывалъ изъ-года-въ-годъ всю жизнь. Среди купечества онъ пользовался уваженіемъ и славой „мозгового“ человѣка и очень любилъ ставить на видъ древность своей породы, говоря сиплымъ голосомъ:
— Мы, Маякины, еще при матушкѣ Екатеринѣ уже купцами были… стало быть я — человѣкъ чистой крови…
Въ этой семьѣ сынъ Игната Гордѣева прожилъ шесть лѣтъ. На седьмомъ году Ѳома былъ большеголовый, широкогрудый мальчикъ, казавшійся старше своихъ лѣтъ и по росту и по серьезному взгляду миндалевидныхъ темныхъ глазъ. Тихій, молчаливый и настойчивый въ своихъ дѣтскихъ желаніяхъ, онъ по цѣлымъ днямъ возился съ игрушками вмѣстѣ съ дочерью Маякина — Лю́бой подъ безмолвнымъ надзоромъ одной изъ родственницъ, рябой и толстой старой дѣвы, которую почему-то звали „Бузя“. Она была существо совершенно безсловесное и какъ бы чѣмъ-то испуганное; даже и съ дѣтьми она говорила вполголоса, односложными словами. Зная множество молитвъ, она не разсказывала Ѳомѣ ни одной сказки.
Съ дѣвочкой Ѳома жилъ дружно, но когда она чѣмъ-нибудь сердила или дразнила его, онъ блѣднѣлъ, ноздри его раздувались, онъ смѣшно таращилъ глаза и азартно билъ ее. Она плакала, бѣжала къ матери и жаловалась ей, но Антонина любила Ѳому и на жалобы дочери мало обращала вниманія, что еще болѣе скрѣпляло дружбу дѣтей. День Ѳомы былъ длиненъ и однообразенъ. Вставъ съ постели и умывшись, онъ становился передъ образомъ и подъ нашептываніемъ рябой Бузи читалъ длинныя молитвы. Потомъ — пили чай и за чаемъ много ѣли сдобныхъ булокъ, лѣпешекъ, пирожковъ. Послѣ чая — лѣтомъ — дѣти отправлялись въ густой и огромный садъ, спускавшійся въ оврагъ, на днѣ котораго всегда было темно. Оттуда вѣяло сыростью и чѣмъ-то жуткимъ. Дѣтей не пускали даже на край оврага, и это вселило въ нихъ страхъ къ нему. Зимой, отъ чая до обѣда, играли въ комнатахъ, если на дворѣ было очень морозно, или шли на дворъ и тамъ катались съ большой ледяной горы.
Въ полдень обѣдали — „по-русски“, какъ говорилъ Маякинъ. Сначала на столъ ставили большую чашку жирныхъ щей съ ржаными сухарями въ нихъ, но безъ мяса, потомъ тѣ же щи ѣли съ мясомъ, нарѣзаннымъ мелкими кусками, потомъ жареное — поросенка, гуся, телятину или сычугъ съ кашей, — потомъ снова подавали чашку похлебки съ потрохами или лапши, и заключалось все это чѣмъ-нибудь сладкимъ и сдобнымъ. Пили квасы: брусничный, можжевеловый, хлѣбный, — ихъ всегда у Антонины Ивановны было нѣсколько сортовъ. Ѣли молча, лишь порой вздыхая отъ усталости; дѣтямъ ставили отдѣльную чашку для обоихъ, всѣ взрослые ѣли изъ одной. Разомлѣвъ отъ такого обѣда — ложились спать, и часа два-три кряду въ домѣ Маякина слышался только храпъ и сонные вздохи.
Проснувшись — пили чай, и за чаемъ разговаривали о городскихъ новостяхъ, о пѣвчихъ, дьяконахъ, свадьбахъ, о зазорномъ поведеніи того или другого знакомаго купца… Послѣ чая Маякинъ говорилъ женѣ:
— Ну-ка, мать, дай-ка сюда Библію-то…
Чаще всего Яковъ Тарасовичъ читалъ книгу Іова. Надѣвши на свой большой и хищный носъ очки въ тяжелой серебряной оправѣ, онъ обводилъ глазами слушателей — всѣ ли, молъ, на мѣстахъ?
Они всѣ сидѣли тамъ, гдѣ онъ привыкъ ихъ видѣть, и на лицахъ у нихъ было знакомое ему выраженіе благочестія, тупое и боязливое.
— „Былъ человѣкъ въ землѣ Уцъ“… — начиналъ Маякинъ сиплымъ голосомъ, и Ѳома, сидѣвшій рядомъ съ Любой въ углу комнаты на диванѣ, уже зналъ, что сейчасъ его крестный замолчитъ и погладитъ себя рукой по лысинѣ. Онъ сидѣлъ и, слушая, рисовалъ себѣ этого человѣка изъ земли Уцъ. Человѣкъ тотъ былъ высокъ и нагъ, глаза у него были огромные, какъ у Нерукотворнаго Спаса, и голосъ — какъ большая мѣдная труба, на которой играютъ солдаты въ лагеряхъ. Человѣкъ тотъ съ каждой минутой все росъ; дорастая до неба, онъ погружалъ свои темныя руки въ облака и, разрывая ихъ, кричалъ страшнымъ голосомъ:
— „На что данъ свѣтъ человѣку, котораго путь закрытъ, и котораго Богъ окружилъ мракомъ?“
Ѳомѣ становилось боязно, и онъ вздрагивалъ; дрема отлетала отъ него, онъ слышалъ голосъ крестнаго, который, пощипывая бородку, съ тонкой усмѣшкой говорилъ:
— Ишь вѣдь какъ дерзитъ…
Мальчикъ зналъ, что крестный говоритъ это о человѣкѣ изъ земли Уцъ, и улыбка крестнаго успокаивала мальчика. — Не изломаетъ неба, не разорветъ его тотъ человѣкъ своими страшными руками… И Ѳома снова видитъ человѣка — онъ сидитъ на землѣ, „тѣло его покрыто червями и пыльными струпьями, кожа его гноится“. Но онъ уже маленькій и жалкій, онъ просто — какъ нищій на церковной паперти…
Вотъ онъ говоритъ:
— „Что такое человѣкъ, чтобъ быть ему чистымъ и чтобъ рожденному женщиной быть праведнымъ?“
— Это онъ Богу говоритъ… — внушительно пояснялъ Маякинъ. — Какъ, говоритъ, могу быть праведнымъ, ежели я — плоть? Это къ Богу вопросъ… Каково?
И чтецъ побѣдоносно и вопросительно оглядываетъ слушательницъ.
— Удостоился… праведникъ… — вздыхая, отвѣчаютъ они.
Яковъ Маякинъ, посмѣиваясь, оглядываетъ ихъ и говоритъ:
— Дуры.. Ведите-ка ребятъ-то спать…
Игнатъ бывалъ у Маякиныхъ каждый день, привозилъ сыну игрушекъ, хваталъ его на руки и тискалъ, но порой недовольно и съ худо скрытымъ безпокойствомъ говорилъ ему:
— Чего ты бука какой? У-у! Чего ты мало смѣешься?
И жаловался куму:
— Боюсь я — Ѳомка-то не въ мать бы пошелъ… Глаза у него тоже невеселые…
— Рано больно безпокоишься, — усмѣхался Маякинъ.
Онъ тоже любилъ крестника, и когда однажды Игнатъ объявилъ ему, что возьметъ Ѳому къ себѣ, — Маякинъ искренно огорчился.
— Оставь… — просилъ онъ. — Смотри — привыкъ къ намъ мальчишка-то, плачетъ вонъ…
— Перестанетъ… не для тебя я сына родилъ. У васъ тутъ духъ тяжелый… скучно, ровно въ старовѣрскомъ скиту. Это вредно ребенку. А мнѣ безъ него… тоже не радостно. Придешь домой — пусто. Не глядѣлъ бы ни на что. Не къ вамъ мнѣ переселиться ради него… не я для него, онъ для меня. Такъ-то. Теперь же у меня сестра Анѳиса пріѣхала — присмотръ за нимъ будетъ…
И мальчика привезли въ домъ отца.
Тамъ встрѣтила его смѣшная старуха съ длиннымъ крючковатымъ носомъ и большимъ ртомъ безъ зубовъ. Высокая, сутулая, одѣтая въ сѣрое платье, съ сѣдыми волосами, прикрытыми черной шелковой головкой, она сначала не понравилась мальчику, даже испугала его. Но когда онъ разсмотрѣлъ на ея сморщенномъ лицѣ черные глаза, ласково улыбавшіеся ему, — онъ сразу довѣрчиво ткнулся головой въ ея колѣни.
— Сиротинка моя болѣзная! — говорила она бархатнымъ, дрожащимъ отъ полноты звука голосомъ и тихо гладила его рукой по лицу. — Ишь прильнулъ какъ… дитятко мое милое!
Было что-то особенно сладкое и мягкое въ ея ласкѣ, что-то совершенно новое для Ѳомы, и онъ смотрѣлъ въ глаза старухѣ съ любопытствомъ и ожиданіемъ на лицѣ. Эта старуха ввела его въ новый, дотолѣ неизвѣстный ему міръ. Въ первый же день, уложивъ его въ кровать, она сѣла рядомъ съ нею и, наклоняясь надъ ребенкомъ, спросила его:
— Разсказать ли тебѣ, Ѳомушка, сказочку?
И съ той поры Ѳома всегда засыпалъ подъ бархатные звуки голоса старухи, рисовавшаго предъ нимъ волшебную жизнь. Богатыри, побѣждающіе чудовищъ, мудрыя царевны, дураки, которые оказывались умнѣе — цѣлыя толпы новыхъ и дивныхъ людей проходили предъ очарованнымъ воображеніемъ мальчика, и жадно питалась душа его здоровой красотой народнаго творчества. Неизсякаемы были сокровища памяти и фантазіи у этой старухи, которая часто, сквозь дрему, казалась мальчику то похожей на бабу-ягу сказки, — только добрую и милую бабу-ягу, — то на красавицу Василису Премудрую. Широко раскрывъ глаза, удерживая дыханіе, мальчикъ смотрѣлъ въ ночной сумракъ, наполнявшій комнату, видѣлъ, какъ тихо онъ трепещетъ отъ огонька лампады, горѣвшей предъ образомъ… И Ѳома наполнялъ его чудесными картинами сказочной жизни. Безмолвныя, но живыя тѣни ползали по стѣнамъ и по полу; мальчику было страшно и пріятно слѣдить за ихъ жизнью, надѣлять ихъ формами, красками и, создавъ изъ нихъ жизнь, — вмигъ разрушить ее однимъ движеніемъ рѣсницъ. Что-то новое явилось въ его темныхъ глазахъ, болѣе дѣтское и наивное, менѣе серьезное; одиночество и темнота, порождая въ немъ жуткое чувство ожиданія чего-то, волновали и возбуждали его любопытство, заставляли его идти въ темный уголъ и смотрѣть, что скрыто тамъ, въ густыхъ покровахъ тьмы? Онъ шелъ, и не находилъ ничего, но не терялъ надежды найти…
Отца онъ боялся и уважалъ его. Громадный ростъ Игната, его трубный, клокочущій голосъ, бородатое лицо, голова въ густой шапкѣ сѣдыхъ волосъ, сильныя, длинныя руки и сверкающіе глаза — все это придавало Игнату сходство со сказочными разбойниками.
Ѳома вздрагивалъ, когда слышалъ его голосъ или тяжелые, твердые шаги; но когда отецъ, добродушно улыбаясь и гулко говоря что-нибудь ласковое, бралъ его къ себѣ на колѣни или широкими ладонями подбрасывалъ высоко въ воздухъ — страхъ мальчика исчезалъ.
Однажды, когда ему шелъ уже восьмой годъ, онъ спросилъ отца, только-что возвратившагося изъ продолжительной поѣздки куда-то:
— Тятя! Ты гдѣ былъ?
— По Волгѣ ѣздилъ…
— Разбойничалъ? — тихо спросилъ Ѳома.
— Что-о? — протянулъ Игнатъ, и брови у него дрогнули.
— Вѣдь ты разбойникъ, тятя? Я знаю ужъ… — хитро прищуривая глаза, говорилъ Ѳома, довольный тѣмъ, что такъ легко вошелъ въ секретную для него жизнь отца.
— Я — купецъ! — строго сказалъ Игнатъ, но, подумавъ, добродушно улыбнулся и добавилъ: — а ты — дурашка!… Я хлѣбомъ торгую, пароходами работаю… видалъ „Ермака“? Ну вотъ, это мой пароходъ… и твой…
— Больно большой онъ… — со вздохомъ сказалъ Ѳома.
— Ну, я куплю тебѣ маленькій, пока ты самъ маленькій… ладно?
— Ладно! — согласился Ѳома, но, задумчиво помолчавъ, вновь съ сожалѣніемъ протянулъ: — А я думалъ, что ты то-о-же разбойникъ… или богатырь…
— Я тебѣ говорю — торговецъ я! — внушительно повторилъ Игнатъ, и въ его взглядѣ на разочарованное лицо сына было что-то недовольное, почти боязливое…
— Какъ дѣдушка Ѳедоръ, калачникъ? — подумавъ, спросилъ Ѳома.
— Ну вотъ, какъ онъ… только богаче я, денегъ у меня больше, чѣмъ у Ѳедора…
— Много денегъ?
— Ну… и еще больше бываетъ…
— Сколько у тебя бочекъ?
— Чего?
— Денегъ-то?
— Дурашка! Развѣ деньги бочками мѣряютъ?
— А какъ же? — оживленно воскликнулъ Ѳома и, обративъ къ отцу свое лицо, сталъ торопливо говорить ему: — Вонъ въ одинъ городъ пріѣхалъ разбойникъ Максимка и у одного, тамъ, богатаго, двѣнадцать бочекъ деньгами насыпалъ… да разнаго серебра, да церковь ограбилъ… а одного человѣка саблей зарубилъ и съ колокольни сбросилъ… онъ, человѣкъ-то, въ набатъ бить началъ…
— Это тебѣ тетка что ли разсказала? — спросилъ Игнатъ, любуясь оживленіемъ сына.
— Она, а что?
— Ничего! — смѣясь сказалъ Игнатъ… — То-то ты и отца въ разбойники произвелъ…
— А можетъ ты былъ давно когда? — опять возвратился Ѳома къ своей темѣ, а по лицу его было видно, что онъ очень хотѣлъ бы услышать утвердительный отвѣтъ.
— Не былъ я… брось это…
— Не былъ?
— Ну говорю вѣдь — не былъ! Экой ты какой… Развѣ хорошо — разбойникомъ быть… Они… грѣшники всѣ, разбойники-то. Въ Бога не вѣруютъ… церкви грабятъ… ихъ всѣхъ проклинаютъ, вонъ, въ церквахъ-то… Н-да… а вотъ что, сынокъ, — учиться тебѣ надо! Пора, братъ, ужъ скоро девять лѣтъ минетъ…. Начинай-ка съ Богомъ. Зиму-то проучишься, а по веснѣ я тебя въ путину на Волгу съ собой возьму…
— Въ училище буду ходить? — робко спросилъ Ѳома.
— Сперва дома, съ тёткой поучишься…
И скоро мальчикъ съ утра садился за столъ и, водя пальцемъ по славянской азбукѣ, повторялъ за тёткой:
— Азъ… буки… вѣди…
Когда дошли до — бра, вра, гра, дра, мальчикъ долго не могъ безъ смѣха читать эти слоги. Вся эта мудрость давалась Ѳомѣ легко, почти безъ напряженія, и вотъ онъ уже читаетъ первый псаломъ первой каѳизмы псалтиря:
— Бла-женъ му-жъ… иже не иде на… со-вѣтъ нече-сти-выхъ…
— Такъ, миленькій, такъ! Такъ, Ѳомушка, вѣрно! — умиленно вторитъ ему тётка, восхищенная его успѣхами…
— Молодецъ Ѳома! — одобрительно и серьезно говорилъ Игнатъ, освѣдомляясь объ успѣхѣ сына… — Ѣдемъ весной въ Астрахань за рыбой, а съ осени — въ училище тебя!
Жизнь мальчика катилась впередъ, какъ шаръ подъ уклонъ. Будучи его учителемъ, тётка была и товарищемъ его игръ. Приходила Люба Маякина, и при нихъ старуха весело превращалась въ такое же дитя, какъ и они. Играли въ прятки, въ жмурки; дѣтямъ было смѣшно и пріятно видѣть, какъ Анѳиса съ завязанными платкомъ глазами, разведя широко руки, осторожно выступала по комнатѣ и все-таки натыкалась на стулья и столы, или какъ она, ища ихъ, лазила по разнымъ укромнымъ уголкамъ, приговаривая:
— Ахъ, мошенники… охъ, разбойники… гдѣ это они тутъ забились? а?
И солнце ласково и радостно свѣтило ветхому, изношенному тѣлу, сохранившему въ себѣ юную душу, старой жизни, украшавшей по мѣрѣ силъ и умѣнья жизненный путь двумъ дѣтямъ…
Игнатъ рано утромъ уѣзжалъ на биржу, иногда не являлся вплоть до вечера, вечеромъ онъ ѣздилъ въ думу, въ гости или еще куда-нибудь. Иногда онъ являлся домой пьяный, — сначала Ѳома въ такихъ случаяхъ бѣгалъ отъ него и прятался, потомъ привыкъ и нашелъ, что пьяный отецъ даже лучше, чѣмъ трезвый: и ласковѣе, и проще, и немножко смѣшной. Если это случалось ночью — мальчикъ всегда просыпался отъ его трубнаго голоса:
— Анѳиса-а! Сестра родная! Допусти ты меня къ сыну… къ наслѣднику — допу-усти!
А тётка уговаривала его укоризненнымъ и плачущимъ голосомъ:
— Иди, иди, дрыхни знай, лѣшій ты, окаянный. Ишь назюзился, а? Сѣдой вѣдь ужъ ты…
— Анѳиса! Сына я могу видѣть? Однимъ глазомъ?…
— Чтобъ у тебя лопнули оба отъ пьянства твоего…
Ѳома зналъ, что тётка не пуститъ отца, и снова засыпалъ подъ шумъ ихъ голосовъ. Когда жъ Игнатъ являлся пьяный днемъ — его огромныя лапы тотчасъ хватали сына, и съ пьянымъ, счастливымъ смѣхомъ отецъ носилъ Ѳому по комнатамъ и спрашивалъ его:
— Ѳомка! Чего хочешь? Говори! Гостинцевъ? Игрушекъ? Проси, ну! Потому, ты знай — нѣтъ тебѣ ничего на свѣтѣ, чего я не куплю. У меня — миллёнъ! Ха-ха-ха! И еще больше будетъ! Понялъ? Все твое! Ха-ха!
И вдругъ восторгъ его гасъ, какъ гаснетъ свѣча отъ сильнаго порыва вѣтра. Пьяное лицо вздрагивало, глаза, краснѣя, наливались слезами, и губы растягивались въ пугливую, убитую улыбку.
— Анѳиса! Ежели онъ помретъ — что я тогда сдѣлаю?
И вслѣдъ за этими словами бѣшенство овладѣвало имъ.
— Сожгу все! — ревѣлъ онъ, дико уставившись глазами куда-нибудь въ темный уголъ комнаты. — Истреблю! Порохомъ взорву!
— Бу-у-детъ, безобразная ты образина! Али ты младенца напугать хочешь? Али, чтобы захворалъ онъ, желаешь? — причитала Анѳиса, и этого было достаточно, чтобъ Игнатъ поспѣшно исчезалъ, бормоча:
— Ну-ну-ну! Иду, иду… ты только не кричи! не шуми… не пугай его…
А если Ѳомѣ нездоровилось, отецъ его, бросая всѣ свои дѣла, никуда не шелъ изъ дома и, надоѣдая сестрѣ и сыну нелѣпыми вопросами и совѣтами, хмурый, съ боязнью въ глазахъ, ходилъ по комнатамъ самъ не свой и охалъ.
— Ты что Бога-то гнѣвишь? — говорила Анѳиса. — Смотри, дойдетъ роптанье твое до Господа, и накажетъ Онъ тебя за жалобы твои на милость Его къ тебѣ…
— Эхъ, сестра! — вздыхалъ Игнатъ. — Ты пойми — вѣдь ежели что… вся жизнь моя рушится! Для чего жилъ?… Неизвѣстно…
Подобныя сцены и рѣзкіе переходы отца отъ одного настроенія къ другому сначала пугали мальчика, но онъ скоро привыкъ къ нимъ, и видя въ окно отца, тяжело вылѣзавшаго изъ саней, равнодушно говорилъ:
— Тётя! Опять пьяный пріѣхалъ тятька-то.
•••
Пришла весна — и, исполняя свое обѣщаніе, Игнатъ взялъ сына съ собой на пароходъ, и вотъ предъ Ѳомой развернулась новая, богатая впечатлѣніями жизнь.
Быстро несется внизъ по теченію красивый и сильный „Ермакъ“, буксирный пароходъ купца Гордѣева, и по оба бока его медленно движутся навстрѣчу ему берега могучей красавицы Волги, — лѣвый, весь облитый солнцемъ, стелется вплоть до края небесъ, какъ пышный, зеленый коверъ, а правый взмахнулъ къ небу кручи свои, поросшія лѣсомъ, и замеръ въ суровомъ покоѣ.
Между ними величаво простерлась широкогрудая рѣка; безшумно, торжественно и неторопливо текутъ ея воды въ сознаніи своей неодолимой силы; горный берегъ отражается въ нихъ черной тѣнью, а съ лѣвой стороны ее украшаютъ золотомъ и зеленымъ бархатомъ песчаныя каймы отмелей и широкіе луга. То тутъ, то тамъ, по горѣ и въ лугахъ являются селенья, солнце сверкаетъ на стеклахъ въ окнахъ избъ и на желтыхъ соломенныхъ крышахъ, сіяютъ въ зелени деревьевъ кресты церквей, лѣниво кружатся въ воздухѣ сѣрыя крылья мельницъ, дымъ изъ трубы завода вьется въ небо густыми, черными клубами. Толпы ребятишекъ въ синихъ, красныхъ и бѣлыхъ рубашкахъ, стоя на берегу, провожаютъ громкими криками пароходъ, разбудившій тишину на рѣкѣ, и изъ-подъ колесъ его къ ногамъ дѣтей бѣгутъ веселыя волны и плещутъ на берегъ. Вотъ цѣлая куча ребятъ усѣлась въ лодку, и они спѣшно гребутъ на средину рѣки, чтобъ покачаться на волнахъ, какъ въ зыбкѣ. Изъ воды смотрятъ вершины деревьевъ, иногда цѣлыя купы ихъ затоплены разливомъ и стоятъ среди воды, какъ острова. Откуда-то съ берега тяжелымъ вздохомъ доносится заунывная пѣсня:
— О-э… о-о-о ещо-о разокъ!
Пароходъ обгоняетъ плоты, заплескивая ихъ волной. Брёвна ходуномъ ходятъ подъ ударами набѣжавшихъ волнъ; плотовщики въ синихъ рубахахъ, пошатываясь на ногахъ, смотрятъ на пароходъ и смѣются, и что-то кричатъ. Дородная красавица-бѣляна бокомъ идетъ по рѣкѣ; желтый тесъ, нагруженный на ней, блеститъ, какъ золото, и тускло отражается въ мутной вешней водѣ. Пассажирскій пароходъ идетъ навстрѣчу и свиститъ — гулкое эхо свиста прячется въ лѣсу, въ ущельяхъ горнаго берега и умираетъ тамъ. Посрединѣ рѣки сшибаются волны отъ двухъ судовъ и бьются о борта ихъ, и суда покачиваются въ водѣ. На пологомъ склонѣ горнаго берега раскинуты зеленые ковры озими, бурыя полосы земли подъ паромъ и черныя — вспаханной подъ яровое. Птицы, маленькими точками, вьются надъ ними и ясно видны на голубомъ пологѣ неба; стадо пасется невдалекѣ, — издали оно кажется игрушечнымъ; маленькая фигурка пастуха стоитъ, опираясь на падогъ, и смотритъ на рѣку.
Всюду блескъ воды, всюду просторъ и свобода, весело-зелены луга и ласково-ясно голубое небо; въ спокойномъ движеніи воды чуется сдержанная сила, въ небѣ надъ нею сіяетъ щедрое солнце мая, воздухъ напоенъ сладкимъ запахомъ хвойныхъ деревьевъ и свѣжей листвы. А берега все идутъ навстрѣчу, лаская глаза и душу своей красотой, и все новыя картины открываются на нихъ.
На всемъ вокругъ лежитъ отпечатокъ какой-то медлительности: все — и природа и люди — живетъ неуклюже, лѣниво, — но въ этой лѣни есть какая-то своеобразная грація, и кажется, что за лѣнью притаилась огромная сила, — сила необоримая, но еще лишенная сознанія, еще не создавшая себѣ ясныхъ желаній и цѣлей… И отсутствіе сознанія въ этой полусонной жизни кладетъ на весь красивый просторъ ея тѣни грусти. Покорное терпѣніе, молчаливое ожиданіе чего-то новаго и болѣе живого слышатся даже въ крикѣ кукушки, прилетающемъ по вѣтру съ берега на рѣку… Заунывныя пѣсни точно просятъ кого-то о помощи… А порой въ нихъ звучитъ удаль отчаянія… Рѣка отвѣчаетъ пѣснямъ вздохами. И задумчиво качаются вершины деревьевъ… Тишина…
Цѣлые дни Ѳома проводилъ на капитанскомъ мостикѣ рядомъ съ отцомъ. Молча, широко раскрытыми глазами смотрѣлъ онъ на безконечную панораму береговъ, и ему казалось, что онъ движется по широкой серебряной тропѣ въ тѣ чудесныя царства, гдѣ живутъ чародѣи и богатыри знакомыхъ ему сказокъ. Порой онъ начиналъ разспрашивать отца о томъ, что видѣлъ. Игнатъ охотно и подробно отвѣчалъ ему, но мальчику не нравились отвѣты: ничего интереснаго и понятнаго ему не было въ нихъ, и не слышалъ онъ того, что желалъ бы услышать. Однажды онъ со вздохомъ заявилъ отцу:
— Тетя Анѳиса знаетъ лучше тебя…
— Что она знаетъ? — спросилъ Игнатъ, усмѣхаясь.
— Все, — убѣжденно отвѣтилъ мальчикъ.
Чудесныя царства не являлись предъ нимъ. Но часто на берегахъ рѣки являлись города, совершенно такіе же, какъ и тотъ, въ которомъ жилъ Ѳома. Одни изъ нихъ были побольше, другіе — поменьше, но и люди, и дома, и церкви — все въ нихъ было такое же, какъ въ своемъ городѣ. Ѳома осматривалъ ихъ съ отцомъ, оставался недоволенъ ими и возвращался на пароходъ хмурый, усталый.
— Вотъ завтра пріѣдемъ въ Астрахань… — сказалъ однажды Игнатъ.
— А она… такая же, какъ всѣ?
— Ну, извѣстно… а то какая же?
— А за ней что?
— Море… Каспійское море называется.
— А что въ немъ есть?
— Рыба, чудакъ! Что можетъ въ водѣ быть?
— Городъ-отъ Китежъ въ водѣ стоитъ…
— То… другое дѣло! То Китежъ… въ немъ — одни праведники жили.
— А въ морѣ праведные города не бываютъ?
— Не бываютъ… — сказалъ Игнатъ и, помолчавъ, прибавилъ: — вода морская — горькая и пить ее нельзя…
— А за моремъ опять земля будетъ?
— Извѣстно, чай, море-то должно края имѣть. Оно какъ чашка…
— И опять города тамъ?
— И опять города… а какъ же? Только тамъ ужъ не наша земля будетъ, а Персидская… Видалъ персіяшекъ, которые вотъ на ярмаркѣ-то… шептала, урюкъ, фисташка?
— Видалъ… — отвѣтилъ Ѳома и задумался.
Однажды онъ спросилъ отца:
— Много еще земли-то?
— Земли, братъ… о-очень много! Ежели по ней ходить пѣшкомъ все… такъ лѣтъ въ десять и то всю ее не обойдешь.
Долго говорилъ Игнатъ сыну о величинѣ земли и, наконецъ, сказалъ:
— И все-таки неизвѣстно, сколько ея всего и гдѣ конецъ ея…
— А на ней все одинаковое?
— То-есть что?
— Города и все…
— Ну, конечно, города, какъ города… Дома, улицы… и все какъ слѣдуетъ…
Послѣ многихъ такихъ разговоровъ мальчикъ сталъ рѣже и не такъ упорно смотрѣть вдаль вопрошающимъ взглядомъ своихъ черныхъ глазъ…
Команда парохода любила его, и онъ любилъ всѣхъ этихъ славныхъ ребятъ, коричневыхъ отъ солнца и вѣтра, весело шутившихъ съ нимъ. Они мастерили ему разныя рыболовныя снасти, дѣлали лодки изъ древесной коры, возились съ нимъ, катали его по рѣкѣ во время стоянокъ, когда Игнатъ уходилъ въ городъ по дѣламъ. Мальчикъ часто слышалъ, какъ поругивали его отца, но не обращалъ на это вниманія, и никогда не передавалъ отцу того, что слышалъ о немъ. Но однажды, въ Астрахани, когда пароходъ грузился топливомъ, Ѳома услыхалъ голосъ Петровича, машиниста:
— Приказалъ валить столько дровъ… тьфу, несообразный человѣкъ! Загрузитъ пароходъ по самую палубу, а потомъ оретъ… машину, говоритъ, портишь часто… масло, говоритъ, зря льешь…
Голосъ сѣдого и суроваго лоцмана отвѣчалъ:
— А все жадность его непомѣрная… дешевле здѣсь топливо, вотъ онъ и старается… Жаденъ, дьяволъ!
— У-ухъ, какой жадюга!
Повторенное нѣсколько разъ кряду слово запало въ память Ѳомы, и вечеромъ, ужиная съ отцомъ, онъ вдругъ спросилъ его:
— Тятя!
— Ась!
— Ты жадный?
На вопросы отца онъ передалъ ему разговоръ лоцмана съ машинистомъ. Лицо Игната омрачилось, и глаза гнѣвно сверкнули.
— Вотъ оно что… — проговорилъ онъ, тряхнувъ головой. — Ну, ты не тово… не слушай ихъ. Они тебѣ не компанія, — ты около нихъ поменьше вертись. Ты имъ хозяинъ, они — твои слуги, такъ и знай. Захочемъ мы съ тобой и всѣхъ ихъ до одного на берегъ швырнемъ… они дешево стоятъ, и ихъ вездѣ, какъ собакъ нерѣзаныхъ. Понялъ? Они про меня много могутъ худого сказать… Но это потому они скажутъ, что я имъ — полный господинъ. Тутъ все дѣло въ томъ завязло, что я удачливый и богатый, а богатому всѣ завидуютъ. Счастливый человѣкъ — всѣмъ людямъ врагъ…
Дня черезъ два на пароходъ явились новые и лоцманъ и машинистъ.
— А гдѣ Яковъ? — спросилъ мальчикъ.
— Разсчиталъ я его… прогналъ.
— За то? — догадался Ѳома.
— За то самое…
— И Петровича?
— И его туда же…
Ѳомѣ понравилось то, что отецъ его можетъ такъ скоро перемѣнять людей на пароходѣ. Онъ улыбнулся отцу и, сойдя внизъ на палубу, подошелъ тамъ къ одному матросу, который, сидя на полу, раскручивалъ кусокъ каната, дѣлая швабру.
— А лоцманъ-то новый ужъ, — объявилъ Ѳома.
— Знаемъ… Добраго здоровьица, Ѳома Игнатьичъ! Какъ спалъ, почивалъ?
— И машинистъ новый…
— И машинистъ.. Жалко Петровича-то?
— Нѣтъ.
— Ну? А онъ до тебя такой ласковый былъ…
— А зачѣмъ онъ тятю ругалъ?
— О? Али онъ ругалъ?
— Ругалъ, я вѣдь слышалъ…
— Мм… а отецъ-то тоже, значитъ, слышалъ?
— Нѣтъ, это я ему сказалъ…
— Ты… Та-акъ… — протянулъ матросъ и замолчалъ, принявшись за работу.
— А тятя мнѣ говоритъ: ты, говоритъ, здѣсь хозяинъ… всѣхъ, говоритъ, можешь прогнать, коли хочешь…
— Такое дѣло… — сказалъ матросъ, сумрачно поглядывая на мальчика, оживленно хваставшаго предъ нимъ своей хозяйской властью. Съ этого дня Ѳома замѣтилъ, что команда относится къ нему какъ-то иначе, чѣмъ относилась раньше: одни стали еще болѣе угодливы и ласковы, другіе не хотѣли говорить съ нимъ, а если и говорили, то сердито и совсѣмъ незабавно, какъ раньше бывало. Ѳома любилъ смотрѣть, когда моютъ палубу: засучивъ штаны по колѣни, а то и вовсе сбросивъ ихъ, матросы, со швабрами и щетками въ рукахъ, ловко бѣгаютъ по палубѣ, поливаютъ ее водой изъ ведеръ, брызгаютъ другъ на друга, смѣются, кричатъ, падаютъ… всюду текутъ струи воды, и живой шумъ людей сливается съ ея веселымъ плескомъ. Раньше мальчикъ не только не мѣшалъ матросамъ въ этой шуточной и легкой работѣ, но принималъ дѣятельное участіе, обливая ихъ водой и со смѣхомъ убѣгая отъ угрозъ облить его. Но послѣ расчета Петровича и Якова, онъ чувствовалъ, что теперь онъ всѣмъ мѣшаетъ, никто не хочетъ играть съ нимъ, и всѣ смотрятъ на него неласково. Удивленный и грустный, онъ ушелъ съ палубы наверхъ, къ штурвалу, сѣлъ тамъ, и сталъ съ обидой и задумчиво смотрѣть на далекій синій берегъ и зубчатую полосу лѣса на немъ. А внизу, на палубѣ, игриво плескалась вода, и матросы весело смѣялись… Ему очень хотѣлось къ нимъ, но что-то не пускало его туда.
— „Держись отъ нихъ подальше, — вспомнилъ онъ слова отца: — ты имъ хозяинъ…“
Тогда ему захотѣлось что-нибудь крикнуть матросамъ — что-нибудь грозное и хозяйское, такъ, какъ отецъ кричитъ на нихъ. Онъ долго придумывалъ — что бы? И не придумалъ ничего… Прошло еще дня два, три, и онъ ясно понялъ, что команда не любитъ его. Скучно ему стало на пароходѣ послѣ этого, и все чаще и чаще изъ разноцвѣтнаго тумана новыхъ впечатлѣній выплывалъ предъ Ѳомой затемненный ими образъ доброй и ласковой тётки Анѳисы съ ея сказками, улыбками и мягкимъ, звучнымъ смѣхомъ, отъ котораго на душу мальчика вѣяло радостнымъ тепломъ. Онъ все еще жилъ въ мірѣ сказокъ, но невидимая и безжалостная рука дѣйствительности уже ревностно рвала красивую и тонкую паутину чудеснаго, сквозь которую мальчикъ смотрѣлъ на все вокругъ него. Случай съ лоцманомъ и машинистомъ направилъ вниманіе мальчика на окружающее его; глаза Ѳомы стали зорче: въ нихъ явилась сознательная пытливость, и въ его вопросахъ отцу зазвучало стремленіе понять — какія нити и пружины управляютъ дѣйствіями людей?
Однажды предъ нимъ разыгралась такая сцена: матросы носили дрова, и одинъ изъ нихъ, молодой, кудрявый и веселый Ефимъ, проходя съ носилками по палубѣ парохода, громко и сердито говорилъ:
— Нѣтъ, ужъ это безъ всякой совѣсти! Не было у меня такого уговору, чтобы дрова таскать. Матросъ — ну, стало быть, дѣло твое ясное… а чтобы еще и дрова… спасибо! Это значитъ — драть съ меня ту шкуру, которой я не продалъ… Это ужъ безъ совѣсти! Ишь ты какой мастеръ соки-то изъ людей выжимать.
Мальчикъ слушалъ эту воркотню и зналъ, что дѣло касается его отца. Онъ видѣлъ и то, что хотя Ефимъ ворчитъ, но на носилкахъ у него дровъ больше, чѣмъ у другихъ, и ходитъ онъ быстрѣе. Никто изъ матросовъ не откликался на воркотню Ефима, и даже тотъ, который работалъ въ парѣ съ нимъ, молчалъ, иногда только протестуя противъ усердія, съ какимъ Ефимъ накладывалъ дрова на носилки.
— Будетъ! — хмуро говорилъ онъ: — чай, не на лошадь грузишь.
— А ты, знай молчи. Впрягли тебя, ну и вези, не брыкайся… И ежели кровь изъ тебя будутъ сосать — тоже молчи… что ты можешь сказать?
Вдругъ откуда-то явился Игнатъ, подошелъ къ матросу и, ставъ противъ него, сурово спросилъ:
— Про что говоришь?
— Говорю… стало быть, какъ умѣю… — запинаясь отвѣтилъ Ефимъ. — Уговора, молъ, не было… чтобы молчать мнѣ…
— А кто это кровь сосать будетъ? — поглаживая бороду, спросилъ Игнатъ.
Матросъ, понявъ, что онъ попался, и видя, что увернуться некуда, бросилъ изъ рукъ полѣно, вытеръ ладони о штаны и, глядя прямо въ лицо Игната, смѣло сказалъ:
— А развѣ не правда моя? Не сосешь ты…
— Я?
— Ты.
Ѳома видѣлъ, какъ отецъ взмахнулъ рукой… раздался какой–то лязгъ, и матросъ тяжело упалъ на дрова. Онъ тотчасъ же поднялся и вновь сталъ молча работать… На бѣлую кору березовыхъ дровъ капала кровь изъ его разбитаго лица, онъ вытиралъ ее рукавомъ рубахи, смотрѣлъ на рукавъ и, вздыхая, молчалъ. А когда онъ шелъ съ носилками мимо Ѳомы, на лицѣ его, у переносья, дрожали двѣ большія мутныя слезы, и мальчикъ видѣлъ ихъ…
Обѣдая съ отцомъ, онъ былъ задумчивъ и посматривалъ на Игната съ боязнью въ глазахъ.
— Ты что хмуришься? — ласково спросилъ его отецъ.
— Такъ…
— Нездоровится, можетъ?
— Нѣту…
— То-то… Ты, коли что, скажи…
— Сильный ты… — вдругъ задумчиво проговорилъ мальчикъ.
— Я-то? Ничего… Богъ не обидѣлъ и силой.
— Ка-акъ ты его давеча треснулъ! — тихо воскликнулъ мальчикъ, опуская голову.
Игнатъ несъ ко рту кусокъ хлѣба съ икрой, но рука его остановилась, удержанная восклицаніемъ сына; онъ вопросительно взглянулъ на его склоненную голову и спросилъ:
— Это… Ефимку что ли?
— Да… до крови… и какъ шелъ онъ потомъ, такъ плакалъ… — вполголоса разсказывалъ мальчикъ.
— Мм… — промычалъ Игнатъ, пережевывая кусокъ. — Что же… жалѣешь ты его?
— Жалко! — со слезами въ голосѣ сказалъ Ѳома.
— Н-да… вишь ты что… — сказалъ Игнатъ.
Потомъ, помолчавъ, онъ налилъ рюмку водки, выпилъ ее и заговорилъ внушительно и строго:
— Жалѣть его — не за что. Зря оралъ, ну и получилъ, сколько слѣдовало… Я его знаю: онъ — парень хорошій, усердный, здоровый и — не глупъ. А разсуждать, — не его дѣло: разсуждать я могу, потому что я — хозяинъ. Это не просто, хозяиномъ-то быть… Отъ зуботычины онъ не помретъ, а умнѣе будетъ… Такъ-то… Эхъ, Ѳома! Младенецъ ты… и ничего не понимаешь… а надо мнѣ учить тебя жить-то… Можетъ ужъ немного осталось вѣку моего на землѣ…
Игнатъ помолчалъ, еще выпилъ водки и снова вразумительно началъ:
— Жалѣть людей надо… это ты хорошо дѣлаешь. Только нужно съ разумомъ жалѣть… Сначала посмотри на человѣка, узнай, какой въ немъ толкъ, какая отъ него можетъ быть польза? И ежели видишь — сильный, способный къ дѣлу человѣкъ — пожалѣй, помоги ему. А ежели который слабый, къ дѣлу не склоненъ — плюнь на него и пройди мимо. Такъ и знай — который человѣкъ много жалуется на все, да охаетъ, да стонетъ — грошъ ему цѣна, не стоитъ онъ жалости, и никакой пользы ты ему не принесешь, ежели и поможешь… только пуще киснутъ, да балуются такіе отъ жалости къ нимъ… Живучи у крестнаго, насмотрѣлся ты тамъ на разную шушеру: страннички эти, приживальщики, несчастненькіе… и разные гады… Объ нихъ забудь… это не люди, а такъ, скорлупа одна, и ни на что они не годны… Это вродѣ какъ клопы, блохи и другая нечисть… И не для Бога они живутъ — нѣту у нихъ никакого Бога, имя же Его всуе призываютъ, чтобы дураковъ разжалобить, да отъ ихъ жалости чѣмъ-нибудь пузо себѣ набить. Для пуза своего и живутъ они, и кромѣ какъ пить, жрать, да спать, да стонать — ничего не умѣютъ дѣлать… и отъ нихъ одинъ развалъ души. Только запинаешься за нихъ. И хорошій человѣкъ среди нихъ — какъ свѣжее яблоко среди гнилыхъ — испортиться скоро можетъ, а пользы отъ этого не будетъ никому… Малъ ты, вотъ что… не можешь ты понимать моихъ словъ… Ты тому помогай, который въ бѣдѣ стоекъ… онъ, можетъ, и не попроситъ у тебя помощи твоей, такъ ты самъ догадайся, да помоги ему безъ его спроса… да коли который гордый и можетъ обидѣться на помощь твою — ты виду ему не подавай, что помогаешь… Вотъ какъ надо, по разуму-то! Тутъ… такое дѣло: упали, скажемъ, двѣ доски въ грязь — одна гнилая, а другая — хорошая, здоровая доска. Что ты тутъ долженъ сдѣлать? Въ гнилой доскѣ — какой прокъ? Ты оставь ее, пускай въ грязи лежитъ, по ней пройти можно, чтобы ногъ не замарать… А здоровую — подними и поставь на солнце, она не тебѣ, такъ другому на что-нибудь годится. Такъ-то, сынокъ! Слушай меня да помни… Н-да… а Ефимку жалѣть не за что… онъ парень дѣльный, цѣну себѣ понимаетъ… изъ него плюхой душу не вышибешь… Вотъ я посмотрю недѣльку время, да къ штурвалу его поставлю… а тамъ, онъ, гляди, лоцманомъ будетъ… и ежели капитаномъ его сдѣлать, онъ не оробѣетъ — ловкій будетъ капитанъ! Вотъ какъ люди-то растутъ… Я, братъ, самъ эту науку проходилъ… тоже немало плюхъ съѣлъ въ его-то годы… Намъ, сынокъ, всѣмъ жизнь-то — не мать родная… наша строгая хозяйка она…
Часа два говорилъ Игнатъ съ сыномъ, говорилъ онъ ему о своей молодости, о трудахъ своихъ, о людяхъ и о страшной силѣ ихъ, слабости, о томъ, какъ они любятъ и умѣютъ притворяться несчастными для того, чтобы жить на счетъ другихъ, и снова о себѣ, о томъ, какъ изъ простого работника онъ сдѣлался хозяиномъ большого дѣла.
Мальчикъ слушалъ его рѣчь, смотрѣлъ на него и чувствовалъ, что отецъ какъ будто все ближе подвигается къ нему. И хоть не было въ разсказѣ отца того, чѣмъ были богаты сказки тётки Анѳисы, но зато было въ нихъ что-то новое — болѣе ясное и понятное, чѣмъ въ сказкахъ, и не менѣе интересное, чѣмъ онѣ… Въ маленькомъ сердцѣ забилось что-то сильное и горячее, и его потянуло къ отцу. Игнатъ, должно быть, по глазамъ сына отгадалъ его чувства: онъ порывисто всталъ съ мѣста, схватилъ его на руки и крѣпко прижалъ къ груди. А Ѳома обнялъ его за шею и, прижавшись щекой къ его щекѣ, молчалъ и дышалъ ускоренно.
— Сынишка… — глухо шепталъ Игнатъ. — Милый ты мой… радость ты моя… учись, пока я живъ… э-эхъ, трудно жить!
Дрогнуло сердце ребенка отъ этого шопота, онъ стиснулъ зубы, и горячія слезы брызнули изъ его глазъ…
До этого дня Игнатъ не возбуждалъ въ сынѣ никакихъ особенныхъ чувствъ: мальчикъ привыкъ къ нему, присмотрѣлся къ его огромной фигурѣ, немножко боялся его и, въ то же время, зналъ, что отецъ сдѣлаетъ для него все, чего онъ ни попроситъ. Бывало, Игната нѣтъ дома день, два, недѣлю, все лѣто — Ѳома какъ бы не замѣчалъ его отсутствія, покоренный любовью своей къ тёткѣ… Являлся Игнатъ, и мальчикъ радовался, но едва ли сказалъ бы онъ — чему? пріѣзду отца или игрушкамъ, которыя тотъ привезъ? Но теперь, при видѣ Игната, Ѳома бѣжалъ къ нему навстрѣчу, хватался за его руку, смѣясь смотрѣлъ въ его глаза, и — скучалъ, если часа два-три не видѣлъ его. Отецъ сталъ интересенъ для него и, возбуждая въ немъ любопытство, попутно развивалъ любовь и уваженіе къ себѣ. Каждый разъ, когда они бывали вмѣстѣ, Ѳома просилъ отца:
— Тятя! Разскажи про себя…
Пароходъ уже шелъ вверхъ по Волгѣ. Однажды, душной іюльской ночью, когда небо было покрыто густыми, черными тучами, и все на Волгѣ было какъ-то зловѣще спокойно, приплыли въ Казань и стали на якорь около Услона въ хвостѣ огромнаго каравана судовъ. Лязгъ якорныхъ цѣпей и крики команды разбудили Ѳому; онъ посмотрѣлъ въ окно и увидалъ: далеко, во тьмѣ, играя, сверкали маленькіе огоньки; вода была черна и густа, какъ масло — и больше ничего не видать было. Сердце мальчика жутко вздрогнуло и онъ сталъ внимательно слушать. Откуда-то долетала еле слышная жалобная пѣсня, заунывная и однотонная, какъ причитаніе; на караванѣ перекликались сторожа; сердито шипѣлъ пароходъ, разводя пары… и черная вода рѣки грустно и тихо плескалась о борта судовъ. Всматриваясь во тьму пристально, до боли въ глазахъ, мальчикъ различалъ въ ней черныя груды и огоньки, еле горѣвшіе высоко надъ ними… Онъ зналъ, что это были баржи, но знаніе не успокоивало его и сердце билось въ немъ неровно, а въ воображеніи вставали какіе-то пугающіе темные образы.
— О-о… о… — донесся издали протяжный крикъ и закончился похоже на рыданіе… Вотъ кто-то прошелъ по палубѣ къ борту парохода…
— О-о-о… — раздалось опять, но уже гдѣ-то ближе…
— Яфимъ! — вполголоса заговорили на палубѣ. — Яфимка!
— Ну-у!
— Чортъ! Вставай! Бери багоръ…
— О-о-о-о… — застонали гдѣ-то близко, и Ѳома, вздрогнувъ, откачнулся отъ окна.
Странный звукъ подплывалъ все ближе и росъ въ своей силѣ, рыдалъ и таялъ въ черной тьмѣ. А на палубѣ тревожно шептали:
— Яфимка! Да встань… гость плыветъ!
— Дѣ? — раздался торопливый вопросъ… потомъ по палубѣ зашлепали босыя ноги, послышалась возня, и мимо лица мальчика сверху скользнули два багра и почти безшумно вонзились въ густую воду…
— Го-о-о-сть! — зарыдали гдѣ-то близко, и раздался тихій, но очень странный плескъ воды.
Мальчикъ дрожалъ отъ ужаса предъ этимъ грустнымъ крикомъ, но не могъ оторвать своихъ рукъ отъ окна и глаза отъ воды.
— Зажги фонарь… не видать ничего…
— Сичасъ…
И вотъ на воду упало пятно мутнаго свѣта… Ѳома видѣлъ, что вода тихо колышется, рябь идетъ по ней, точно ей больно, и она вздрагиваетъ отъ боли.
— Гляди… гляди… — испуганно зашептали на палубѣ.
Въ то же время въ пятнѣ свѣта на водѣ явилось большое, страшное человѣческое лицо съ бѣлыми оскаленными зубами. Оно плыло и покачивалось на водѣ, зубы его смотрѣли прямо на Ѳому и точно оно, улыбаясь, говорило:
— Эхъ, мальчикъ, мальчикъ… хо-олодно… прощай!
Багры дрогнули, поднялись въ воздухѣ, потомъ снова опустились въ воду и стали осторожно толкать въ ней что-то.
— Веди его… веди… смотри — подобьетъ въ колесо…
— Пихай ты самъ-то…
Багры скользили по борту и царапались объ него со звукомъ, похожимъ на скрипъ зубовъ. Ѳома не могъ закрыть глазъ, глядя на нихъ. Стукъ ногъ, топавшихъ о палубу надъ его головой, постепенно удалялся на корму… И вотъ тамъ вновь раздался этотъ стонущій, заупокойный звукъ:
— Го-о-о-сть…
— Тятя! — закричалъ Ѳома звенящимъ голосомъ… — Тя-ятя…
Отецъ вскочилъ на ноги и бросился къ нему.
— Что тамъ? Что… они дѣлаютъ? — кричалъ Ѳома. Огромными прыжками Игнатъ выскочилъ вонъ изъ каюты съ дикимъ ревомъ. Онъ возвратился скоро, раньше, чѣмъ Ѳома, качаясь на ногахъ и оглядываясь вокругъ себя, добрался отъ окна до отцовской постели.
— Испугали тебя… ну, ничего! — говорилъ Игнатъ, взявъ его на руки. — Ложись-ка со мной…
— Что это? — тихо спрашивалъ Ѳома.
— Это, сынокъ, ничего… Это утопшій… утонулъ человѣкъ и плыветъ… ничего! Ты не бойся, онъ уже уплылъ…
— Зачѣмъ они толкали его? — допрашивалъ мальчикъ, крѣпко прижавшись къ отцу и закрывъ глаза отъ страха…
— А… такъ ужъ надо… Подобьетъ его вода въ колесо… намъ къ примѣру… завтра увидитъ полиція… возня пойдетъ, допросы… задержатъ насъ тутъ. Вотъ его и провожаютъ дальше… Ему что? Онъ ужъ мертвый… ему это не больно, не обидно… а живымъ изъ-за него безпокойство было бы… Спи, сынокъ!…
— Такъ онъ и поплыветъ?
— Такъ и поплыветъ… гдѣ-нибудь вынутъ — схоронятъ…
— А рыба его съѣстъ?
— А рыба не ѣстъ человѣчье тѣло… раки это ѣдятъ… Они — любятъ…
Отъ теплоты отцова тѣла страхъ Ѳомы таялъ, но предъ глазами его все еще покачивалось на черной водѣ страшное лицо съ оскаленными зубами.
— А онъ кто?
— Богъ его знаетъ! Ты скажи о немъ Богу: Господи, молъ, упокой душу его!
— Господи, упокой душу его! — шопотомъ повторилъ Ѳома.
— Ну, вотъ… И спи, не бойся… Онъ ужъ теперь далеко-о! Плыветъ себѣ… Вотъ — не подходи неосторожно къ борту-то… упадешь этакъ — спаси Богъ! — въ воду и…
— А онъ тоже упалъ?
— Извѣстно упалъ… можетъ, пьянъ былъ… вотъ и конецъ ему! А, можетъ, самъ бросился… Есть и такіе, которые сами… Возьметъ да и бросится въ воду… и утонетъ… Жизнь-то, братъ, такъ устроена, что иная смерть для самого человѣка — праздникъ, а иная — для всѣхъ благодать!
— Тятя…
— Спи, спи, родной…
III.
Въ первый же день школьной жизни, Ѳома, ошеломленный живымъ и бодрымъ шумомъ задорныхъ шалостей и буйныхъ, дѣтскихъ игръ, выдѣлилъ изъ среды мальчиковъ двухъ, которые сразу показались ему интереснѣе другихъ. Одинъ сидѣлъ впереди его. Ѳома, поглядывая исподлобья, видѣлъ широкую спину, полную шею, усѣянную веснушками, большія уши и гладко остриженный затылокъ, покрытый ярко-рыжими волосами, которые стояли, какъ щетина.
Когда учитель, человѣкъ съ лысой головой и отвислой нижней губой, позвалъ: „Смолинъ, Африканъ!“ — рыжій мальчикъ, не торопясь, поднялся на ноги, подошелъ къ учителю, спокойно уставился въ лицо ему и, выслушавъ задачу, сталъ тщательно выписывать мѣломъ на доскѣ большія круглыя цифры.
— Хорошо… довольно! — сказалъ учитель. — Ежовъ, Николай… продолжай!
Одинъ изъ сосѣдей Ѳомы по партѣ, — непосѣдливый, маленькій мальчикъ съ черными, мышиными глазками, — вскочилъ съ мѣста и пошелъ между партъ, за все задѣвая и вертя головой во всѣ стороны. У доски онъ схватилъ мѣлъ и, привставъ на носки сапогъ, съ шумомъ, скрипя и соря мѣломъ, сталъ тыкать имъ въ доску, набрасывая на нее мелкіе, неясные знаки.
— Ти-ше — сказалъ учитель, болѣзненно сморщивъ желтое лицо съ усталыми глазами. А Ежовъ звонко и быстро говорилъ…
— Теперь мы узнали, что первый разносчикъ получилъ барыша 17 к…
— Довольно!… Гордѣевъ! Скажи-ка мнѣ, что нужно сдѣлать, чтобы узнать, сколько барыша получилъ второй разносчикъ?
Наблюдая за поведеніемъ мальчиковъ, — такъ не похожихъ другъ на друга, — Ѳома былъ захваченъ вопросомъ врасплохъ и — молчалъ.
— Не знаешь?… Гмъ… Объясни ему, Смолинъ…
Смолинъ, аккуратно вытиравшій тряпкой свои пальцы, испачканные мѣломъ, положилъ тряпку, не взглянувъ на Ѳому, окончилъ задачу и снова сталъ вытирать руки, а Ежовъ, улыбаясь и подпрыгивая на ходу, отправился на свое мѣсто.
— Эхъ ты! — зашепталъ онъ, усаживаясь рядомъ съ Ѳомой и ужъ кстати толкая его кулакомъ въ бокъ. — Чего не можешь! Всего-то барыша сколько? 30 копеекъ… а разносчиковъ — двое… одинъ получилъ 17 — ну сколько другой?
— Знаю я, — шопотомъ отвѣтилъ Ѳома, чувствуя себя сконфуженнымъ и разсматривая лицо Смолина, степенно возвращавшагося на свое мѣсто. Ему не понравилось это лицо — круглое, пестрое отъ веснушекъ, съ голубыми глазами, заплывшими жиромъ. А Ежовъ больно щипалъ ему ногу и спрашивалъ:
— Ты чей сынъ — Шалаго?
— Да…
— Ишь… Хочешь, я тебѣ всегда подсказывать буду?
— Хочу…
— А что дашь за это?
Ѳома подумалъ и спросилъ:
— А ты знаешь самъ-то?
— Я? Я — первый ученикъ… вотъ увидишь…
— Вы тамъ! Ежовъ — опять ты разговариваешь? — обиженно-слабо крикнулъ учитель.
Ежовъ вскочилъ на ноги и бойко сказалъ:
— Это не я, Иванъ Андреичъ, — это Гордѣевъ…
— Оба они шепчутся, — невозмутимо объявилъ Смолинъ.
Жалобно сморщивъ лицо и смѣшно шлепая своей большой губой, учитель пожурилъ всѣхъ ихъ, но его выговоръ не помѣшалъ Ежову тотчасъ же снова зашептать:
— Ладно, Смолинъ! Я тебѣ припомню за ябеду…
— А ты зачѣмъ сваливаешь на новенькаго? — не поворачивая къ нимъ головы, тихо спрашивалъ Смолинъ.
— Ладно, ладно, — шипѣлъ Ежовъ.
Ѳома молчалъ, искоса поглядывая на юркаго сосѣда, который одновременно и нравился ему, и возбуждалъ въ немъ желаніе отодвинуться отъ него подальше. Во время перемѣны онъ узналъ отъ Ежова, что Смолинъ — тоже богатый, сынъ кожевеннаго заводчика, а самъ Ежовъ — сынъ сторожа изъ казенной палаты и очень бѣдный. Послѣднее было ясно видно и по костюму бойкаго мальчика, сшитому изъ сѣрой бумазеи, украшенному заплатами на колѣняхъ и локтяхъ, по его блѣдному, голодному лицу, по всей маленькой, угловатой и костлявой фигурѣ. Говорилъ этотъ мальчикъ металлическимъ альтомъ, поясняя свою рѣчь гримасами и жестами, и часто употреблялъ въ рѣчи свои слова, значеніе которыхъ было извѣстно только ему одному.
— Мы съ тобой будемъ товарищи, — объявилъ онъ Ѳомѣ.
— А ты зачѣмъ давеча учителю на меня пожаловался? — напомнилъ ему Гордѣевъ, подозрительно косясь на него.
— Вотъ! Что тебѣ? Ты новенькій и богатый… съ богатыхъ учитель-то не взыскиваетъ… А я — бѣдный объѣдонъ, меня онъ не любитъ, потому что я озорничаю и никакого подарка не приносилъ ему… Кабы я плохо учился — онъ бы давно ужъ выключилъ меня. Ты знаешь — я отсюда въ гимназію уйду… Кончу вотъ второй классъ и уйду… Меня ужъ тутъ одинъ студентъ приготовляетъ, тоже во второй классъ… Тамъ я такъ буду учиться — только держись! А у васъ лошадей сколько?
— Три… Зачѣмъ тебѣ много учиться? — спросилъ Ѳома.
— Потому что я бѣдный… Бѣднымъ нужно много учиться, отъ этого они тоже богатыми станутъ… въ доктора пойдутъ, въ чиновники, въ офицеры… Я тоже буду звякаремъ… сабля на боку, шпоры на ногахъ — дрынь, дрынь! А ты чѣмъ будешь?
— Н-не знаю… — задумчиво сказалъ Ѳома, разглядывая товарища.
— Тебѣ ничѣмъ не надо быть… А голубей ты любишь?
— Люблю…
— Какой ты фуфлыга! У-у! Э-э! — передразнивалъ Ежовъ медленную рѣчь Ѳомы. — Сколько у тебя голубей?
— У меня нѣтъ…
— Эхъ ты! Богатый, а не завелъ голубей… У меня и то три есть… скобарь одинъ, да голубка пѣгая, да турманъ… Кабы у меня отецъ былъ богатый — я бы сто голубей завелъ и все бы гонялъ цѣлый день. И у Смолина есть голуби — хорошіе! Четырнадцать… турмана-то онъ мнѣ подарилъ. Только — все-таки онъ жадный… всѣ богатые… жадные… а ты тоже жадный?
— Н… не знаю, — нерѣшительно сказалъ Ѳома.
— Ты приходи къ Смолину, вмѣстѣ всѣ трое и будемъ гонять…
— Ладно… ежели меня пустятъ…
— Развѣ отецъ-то не любитъ тебя?
— Нѣтъ, любитъ.
— Ну, такъ пуститъ… Только ты не говори, что и я тоже пойду… со мной, пожалуй, и взаправду не пуститъ… Ты скажи — къ Смолину, молъ, пустите… Смолинъ!
Подошелъ толстый мальчикъ, и Ежовъ привѣтствовалъ его, укоризненно покачивая головой:
— Эхъ ты, рыжій ябедникъ! Не стоитъ съ тобой и дружиться… булыжникъ!
— Что ты ругаешься? — спокойно спросилъ Смолинъ, разглядывая Ѳому неподвижными глазами.
— Я не ругаюсь, а правду говорю, — пояснилъ Ежовъ, весь подергиваясь отъ оживленія. — Слушай! Хотя ты и кисель, да — ладно ужъ! Въ воскресенье послѣ обѣдни я съ нимъ приду къ тебѣ…
— Приходите, — кивнулъ головой Смолинъ.
— Придемъ… Скоро уже звонокъ, побѣгу чижа продавать, — объявилъ Ежовъ, вытаскивая изъ кармана штанишекъ бумажный пакетикъ, въ которомъ билось что-то живое. И онъ исчезъ со двора училища, какъ ртуть съ ладони.
— Ка-акой онъ! — сказалъ Ѳома, пораженный живостью Ежова и вопросительно глядя на Смолина.
— Онъ всегда такой… Ловкій очень, — пояснилъ рыжій мальчикъ.
— И веселый, — добавилъ Ѳома.
— И веселый, — согласился Смолинъ. Потомъ они помолчали, оглядывая другъ друга.
— Придешь ко мнѣ съ нимъ? — спросилъ рыжій.
— Приду…
— Приходи… У меня хорошо…
Ѳома ничего не сказалъ на это. Тогда Смолинъ спросилъ его:
— У тебя много товарищей?
— Никого нѣтъ…
— У меня тоже до училища никого не было… только братья двоюродные… Вотъ теперь у тебя будутъ сразу двое товарищей…
— Да, — сказалъ Ѳома.
— Ты радъ?
— Радъ…
— Когда есть много товарищей — это весело… И учиться легче — подсказываютъ…
— А ты хорошо учишься?
— Хорошо. Я — все хорошо дѣлаю, — спокойно сказалъ Смолинъ.
Задребезжалъ звонокъ, точно испуганный и торопливо побѣжавшій куда-то…
Сидя въ школѣ, Ѳома почувствовалъ себя свободнѣе и сталъ сравнивать своихъ товарищей съ другими мальчиками. Вскорѣ онъ нашелъ, что оба они — самые лучшіе въ школѣ и первыми бросаются въ глаза, такъ же рѣзко, какъ эти двѣ цифры 5 и 7, не стертыя съ черной, классной доски. И Ѳомѣ стало пріятно оттого, что его товарищи лучше всѣхъ остальныхъ мальчиковъ.
Изъ школы они всѣ трое пошли вмѣстѣ, но Ежовъ скоро свернулъ въ какой-то узкій переулокъ, Смолинъ же шелъ съ Ѳомой вплоть до его дома и, прощаясь, сказалъ:
— Вотъ видишь — и ходить намъ вмѣстѣ.
Дома Ѳому встрѣтили торжественно: отецъ подарилъ мальчику тяжелую серебряную ложку съ затѣйливымъ вензелемъ, а тётка — шарфъ своего вязанья. Его ждали обѣдать, приготовили любимыя имъ блюда и тотчасъ же, какъ только онъ раздѣлся, усадили за столъ и стали разспрашивать:
— Ну что, понравилось въ училищѣ? — говорилъ Игнатъ, съ любовью глядя на румяное и оживленное лицо сына.
— Ничего… Славно! — отвѣчалъ Ѳома.
— Милый ты мой! — умиленно вздыхала тётка. — Ты, смотри, товарищамъ-то не поддавайся… Чуть они чѣмъ обидятъ тебя, ты сейчасъ учителю и скажи про нихъ…
— Ну, слушай ее! — усмѣхнулся Игнатъ. — Этого не дѣлай никогда! Самъ со всякимъ обидчикомъ старайся управиться, своей рукой накажи, а не чужой… Ребятишки-то есть хорошіе?
— Двое ужъ… — улыбнулся Ѳома, вспоминая объ Ежовѣ. Одинъ такой бойкій — бѣда!
— Чей таковъ?
— Сторожа сынъ…
— М-м… боекъ, говоришь?
— Страсть!
— Ну… Богъ съ нимъ! А другой?
— А другой — ры-ижій весь… Смолинъ…
— А! Митрія Иваныча сынъ видно… Этого держись, компанія хорошая… Митрій — умный мужикъ… коли сынъ въ него — это ладно бы. Вотъ другой-то… Ты, Ѳома, вотъ что: ты пригласи-ка ихъ въ воскресенье въ гости къ себѣ. Я куплю гостинцевъ, угощать ты ихъ будешь… Поглядимъ, какіе они…
— Въ воскресенье-то Смолинъ меня къ себѣ зоветъ, — объявилъ Ѳома, вопросительно взглянувъ на отца.
— Ишь ты… Ну, поди! Это ничего, поди… Присматривайся, какіе есть люди на землѣ… Одинъ, безъ дружбы не проживешь… Вотъ я съ твоимъ крестнымъ двадцать лѣтъ слишкомъ дружу… и многимъ отъ ума его попользовался. Такъ и ты старайся дружить съ тѣми, которые лучше, умнѣе тебя… Около хорошаго человѣка потрешься… какъ мѣдная копейка о серебро, и самъ потомъ за двугривенный сойдешь…
И, засмѣявшись своему сравненію, Игнатъ серьезно добавилъ:
— Это шучу я. Старайся не поддѣльнымъ, а настоящимъ быть… и умъ имѣй хоть маленькій, да свой… Что, уроковъ-то много задали тебѣ?
— Много! — вздохнулъ мальчикъ, и вздоху его, какъ эхо, откликнулась тяжелымъ вздохомъ тётка…
— Ну… учи. Хуже другихъ въ наукѣ не будь. Хоша скажу тебѣ вотъ что: въ училищѣ, — хоть двадцать пять классовъ въ немъ будь, — ничему, кромѣ какъ писать, читать да считать — не научатъ. Глупостямъ разнымъ можно еще научиться, — но не дай тебѣ Богъ! Запорю, ежели что… Табакъ курить будешь, губы отрѣжу…
— Бога помни, Ѳомушка, — сказала тётка, — Господа нашего, смотри, не забудь…
— Это вѣрно! Бога и родителя — чти. Но я про то хочу сказать, что книги-то учебныя — дѣло еще малое… Нужны онѣ тебѣ какъ плотнику топоръ да рубанокъ… онѣ — инструментъ, а тому, какъ въ дѣло ихъ употребить — инструментъ не научитъ. Понялъ?… Скажемъ такъ: данъ плотнику въ руки топоръ и долженъ онъ имъ обтесать бревно… Рукъ да топора тутъ мало, надо еще умѣть ударить по дереву, а не по ногѣ себѣ… Тебѣ же дана въ руки грамота, и долженъ ты ею устроить себѣ жизнь… И тутъ выходитъ, что однѣхъ книгъ для такого дѣла мало: надо еще умѣнье пользоваться ими… Вотъ это умѣнье и есть то самое, что будетъ похитрѣе всякихъ книгъ, а въ книгахъ о немъ ничего не написано… Этому, Ѳома, надо учиться отъ самой отъ жизни. Книга — она вещь мертвая, ее какъ хочешь бери, рви, ломай — она не закричитъ… А жизнь, чуть ты по ней невѣрно шагнулъ, неправильно мѣсто въ ней себѣ занялъ — тысячью голосовъ заоретъ на тебя, да еще и ударитъ, съ ногъ собьетъ.
Ѳома, облокотясь на столъ, внимательно слушалъ отца и, подъ сильные звуки его голоса, представлялъ себѣ то плотника, обтесывающаго бревно, то себя самого: осторожно, съ протянутыми впередъ руками, по зыбкой почвѣ онъ подкрадывается къ чему-то огромному и живому и желаетъ схватить это страшное что-то…
— Человѣкъ долженъ себя беречь для своего дѣла и путь къ своему дѣлу долженъ твердо знать… Человѣкъ, братъ, тотъ же лоцманъ на суднѣ… Въ молодости, какъ въ половодьѣ, — иди прямо! Вездѣ тебѣ дорога… Но знай время, когда и за правежъ взяться надо… Вода сбыла, — тамъ, гляди, мель, тамъ карча, тамъ камень; все это надо усчитать и во-время обойти, чтобы къ пристани доплыть цѣлому…
— Я доплыву! — сказалъ мальчикъ, увѣренно и гордо глядя на отца.
— Ну? Храбро говоришь! — засмѣялся Игнатъ. И тётка тоже ласково засмѣялась.
Со времени поѣздки съ отцомъ по Волгѣ, Ѳома сталъ болѣе бойкимъ и разговорчивымъ дома, съ отцомъ, тёткой, Маякинымъ. Но на улицѣ, или гдѣ-нибудь въ новомъ для него мѣстѣ при чужихъ людяхъ, онъ всегда хмурился и посматривалъ вокругъ себя подозрительно и недовѣрчиво, точно всюду чувствовалъ что-то враждебное ему, скрытое отъ него и подстерегающее.
Ночами иногда онъ вдругъ просыпался и подолгу прислушивался къ тишинѣ вокругъ него, пристально разсматривалъ тьму широко раскрытыми глазами. И вотъ предъ нимъ претворялись въ образы и картины разсказы отца. Онъ незамѣтно для себя путалъ ихъ со сказками тётки и создавалъ себѣ хаосъ событій, въ которомъ яркія краски фантазіи причудливо переплетались съ суровыми тонами дѣйствительности. Получалось что-то огромное, непонятное; мальчикъ закрывалъ глаза и гналъ отъ себя все это и хотѣлъ бы остановить игру воображенія, пугавшую его. Но онъ безуспѣшно пытался уснуть, а комната все тѣснѣе наполнялась темными образами. Тогда онъ тихо будилъ тётку:
— Тётя… А тётя…
— Что? Христосъ съ тобой…
— Я приду къ тебѣ, — шепталъ Ѳома.
— Пошто? Спи-ка, милуша моя… спи…
— Я боюсь… — сознавался мальчикъ.
— А ты прочитай про-себя „да воскреснетъ Богъ“, и перестанешь бояться-то.
Ѳома лежитъ съ закрытыми глазами и читаетъ молитву. Тишина ночи рисуется предъ нимъ въ видѣ безкрайнаго пространства темной воды, которая совершенно неподвижна, — разлилась она всюду и застыла, нѣтъ ни ряби на ней, ни тѣни движенія и въ ней тоже нѣтъ ничего, хотя она бездонно глубока. Очень страшно смотрѣть одному откуда-то сверху, изъ тьмы, на эту мертвую воду… Но вотъ раздается звукъ колотушки ночного сторожа, и мальчикъ видитъ, что поверхность воды вздрагиваетъ, по ней, покрывая ее рябью, скачутъ круглые, свѣтлые шарики… Ударъ въ колоколъ на колокольнѣ заставляетъ всю воду всколыхнуться однимъ могучимъ движеніемъ, и она долго плавно колышется отъ этого удара, колышется и большое свѣтлое пятно, освѣщаетъ ее, расширяется отъ ея центра куда-то въ темную даль и блѣднѣетъ, и гаснетъ… Снова тоскливый и мертвый покой въ этой темной пустынѣ…
— Тётя… — умоляюще шепчетъ Ѳома.
— Асиньки?
— Я къ тебѣ приду…
— Да иди, иди, роднуша моя…
Перебравшись на постель къ тёткѣ, онъ жмется къ ней и проситъ:
— Разскажи что-нибудь…
— Ночью-то? — сонно протестуетъ тётка.
— Пожа-алуйста…
Ее не приходится долго просить. Позѣвывая, осипшимъ отъ сна голосомъ, старуха, закрывъ глаза, размѣренно говоритъ:
— И вотъ, сударь ты мой, въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жили-были мужъ да жена и были они бѣдные-пребѣдные!… Ужъ такіе-то разнесчастные, что и ѣсть-то имъ было нечего. Походятъ, это, они по міру, дадутъ имъ гдѣ черствую, завалящую корочку, — тѣмъ они день и сыты. И вотъ родилось у нихъ дите… родилось дите — крестить надо, а какъ они бѣдные, угостить имъ кумовъ да гостей нечѣмъ, не идетъ къ нимъ никто крестить! Они и такъ, они и сякъ, — нѣтъ никого!… И взмолились они тогда ко Господу. — Господи! Господи!…
Ѳома знаетъ эту страшную сказку о крестникѣ Бога, не разъ онъ слышалъ ее и уже заранѣе рисуетъ предъ собой этого крестника: вотъ онъ ѣдетъ на бѣломъ конѣ къ своимъ крестнымъ отцу и матери, ѣдетъ во тьмѣ, по пустынѣ и видитъ въ ней всѣ нестерпимыя муки, коимъ осуждены грѣшники… И слышитъ онъ тихіе стоны и просьбы ихъ:
— О-о-о! Человѣче! спроси у Господа, долго ли еще мучиться намъ?
Тогда мальчику кажется, что это онъ самъ ѣдетъ въ ночи на бѣломъ конѣ, и къ нему обращены стоны и моленія. Сердце его сжимается отъ какого-то желанія, непонятнаго ему; холодная тоска стискиваетъ его грудь, и слезы выступаютъ на глазахъ, которые онъ крѣпко закрылъ и боится открыть.
Онъ безпокойно возится въ постели…
— Спи, дитятко мое, Христосъ съ тобой! — говоритъ старуха, прерывая свою повѣсть о мукахъ людей за грѣхи ихъ…
Но утромъ послѣ такой ночи Ѳома вставалъ веселый и бодрый, торопливо мылся, наскоро пилъ чай и бѣжалъ въ училище, снабженный сдобными и сладкими пирожками, которыхъ тамъ ждалъ всегда голодный, маленькій Ежовъ, жадно питавшійся отъ щедротъ своего богатаго товарища.
— Приперъ пожрать? — встрѣчалъ онъ Ѳому, поводя своимъ острымъ носомъ. — Давай, а то я ушелъ изъ дому безъ ничего… Проспалъ, чортъ е дери… до двухъ часовъ ночи все учился… Ты задачи сдѣлалъ?
— Не сдѣлалъ.
— Эхъ ты, карамара! Ну, я ихъ тебѣ сейчасъ раскатаю!
Впиваясь въ пирогъ мелкими и острыми зубами, онъ что-то мурлыкалъ, какъ котенокъ, притопывалъ въ тактъ лѣвой ногой и въ то же время рѣшалъ задачу, бросая Ѳомѣ короткія фразы:
— Видалъ? въ часъ вытекло восемь ведеръ… а сколько часовъ текло — шесть? Эхъ, сладко вы ѣдите!… Шесть, стало быть, надо помножить на восемь… А ты любишь пироги съ зеленымъ лукомъ? Я — страсть какъ! Ну вотъ, изъ перваго крана въ шесть часовъ вытекло сорокъ восемь… а всего налили въ чанъ девяносто… дальше-то понимаешь?
Ежовъ нравился Ѳомѣ больше, чѣмъ Смолинъ, но со Смолинымъ Ѳома жилъ дружнѣе. Онъ удивлялся способностямъ и живости маленькаго человѣка, видѣлъ, что Ежовъ умнѣе и лучше его, завидовалъ ему и обижался на него за это, и въ то же время онъ жалѣлъ его, снисходительной жалостью сытаго къ голодному. Можетъ быть, именно эта жалость больше всего другого мѣшала ему отдать предпочтеніе живому мальчику передъ скучнымъ, рыжимъ Смолинымъ. Ежовъ, любя посмѣяться надъ сытыми товарищами, часто говорилъ имъ:
— Эхъ вы, чемоданчики съ пирожками!…
Ѳома сердился на него за насмѣшки и однажды, задѣтый за сердце, презрительно и зло сказалъ:
— А ты — попрошайка… нищій!
Желтое лицо Ежова покрылось пятнами, и онъ медленно отвѣтилъ:
— Ладно, пускай!… А вотъ я не буду подсказывать тебѣ — и станешь ты бревномъ!
И дня три они не разговаривали другъ съ другомъ, къ огорченію учителя, который долженъ былъ въ эти дни ставить единицы и двойки сыну всѣми уважаемаго Игната Матвѣевича.
Ежовъ зналъ все: онъ разсказывалъ въ училищѣ, что у прокурора родила горничная, а Прокуророва жена облила за это мужа горячимъ кофе; онъ могъ сказать, когда и гдѣ лучше ловить ершей; онъ умѣлъ дѣлать западни и клѣтки для птицъ; подробно сообщалъ, отчего и какъ повѣсился солдатъ въ казармѣ, на чердакѣ, отъ кого изъ родителей учениковъ учитель получилъ сегодня подарокъ и какой именно подарокъ.
Кругъ знаній и интересовъ Смолина ограничивался бытомъ купеческимъ и, главнымъ образомъ, рыжій мальчикъ любилъ опредѣлять, кто кого богаче, взвѣшивая и оцѣнивая ихъ дома, суда, лошадей. Все это онъ зналъ безподобно, говорилъ объ этомъ съ увлеченіемъ.
Къ Ежову онъ относился съ такой же снисходительной жалостью, какъ и Ѳома, но болѣе дружески и ровно. Каждый разъ, когда Гордѣевъ ссорился съ Ежовымъ, онъ стремился примирить ихъ, а какъ-то разъ, идя домой изъ школы, сказалъ Ѳомѣ:
— Зачѣмъ ты все ругаешься съ Ежовымъ?
— А что онъ больно зазнается? — сердито отвѣтилъ Ѳома.
— То и зазнается, что ты учишься плохо, а онъ всегда помогаетъ тебѣ… Онъ — умный… А что бѣдный — такъ развѣ въ этомъ онъ виноватъ? Онъ можетъ выучиться всему, чему захочетъ, и тоже будетъ богатъ…
— Комаръ онъ какой-то, — пренебрежительно сказалъ Ѳома, — пищитъ, пищитъ, да вдругъ и укуситъ.
Но въ жизни этихъ мальчиковъ было нѣчто объединявшее всѣхъ ихъ, были часы, въ теченіе которыхъ они утрачивали сознаніе разницы характеровъ и положенія. По воскресеньямъ они всѣ трое собирались у Смолина и, взлѣзая на крышу флигеля, гдѣ была устроена обширная голубятня, — выпускали голубей.
Красивыя сытыя птицы, встряхивая бѣлоснѣжными крыльями, одна за другой вылетали изъ голубятни и въ рядъ усаживались на конькѣ крыши и, освѣщенныя солнцемъ, воркуя, красовались передъ мальчиками.
— Шугай! — просилъ Ежовъ, вздрагивая отъ нетерпѣнія.
Смолинъ взмахивалъ въ воздухѣ длиннымъ шестомъ съ мочаломъ на концѣ и свисталъ.
Испуганные голуби бросались въ воздухъ, наполняя его торопливымъ шумомъ крыльевъ… И вотъ они плавно, описывая широкіе круги, вздымаются вверхъ, въ голубую глубину неба, плывутъ, сверкая серебромъ и снѣгомъ оперенія, все выше. Одни изъ нихъ стремятся достичь до купола небесъ плавнымъ полетомъ сокола, широко распростирая крылья и какъ бы не двигая ими, другіе — играютъ, кувыркаются въ воздухѣ, снѣжнымъ комомъ падаютъ внизъ и снова, стрѣлою, летятъ въ высоту. Вотъ вся стая ихъ кажется неподвижно стоящей въ пустынѣ неба и, все уменьшаясь, тонетъ въ ней. Закинувъ головы, мальчики молча любуются птицами, не отрывая глазъ отъ нихъ, — усталыхъ глазъ, сіяющихъ тихой радостью, не чуждой завистливаго чувства къ этимъ крылатымъ существамъ, такъ свободно улетѣвшимъ отъ земли въ чистую, тихую область, полную солнечнаго блеска. Маленькая группа едва замѣтныхъ глазу точекъ, вкрапленная въ синеву неба, влечетъ за собой воображеніе дѣтей, и Ежовъ опредѣляетъ общее всѣмъ имъ чувство, когда тихо и задумчиво говоритъ:
— Намъ бы, братцы, такъ полетать…
Ѳома же, зная, что часто видъ голубя принимаетъ душа человѣка, отлетая къ небу, чувствовалъ въ груди своей приливъ какого-то желанія, сильнаго, жгучаго…
Объединенные своимъ восторгомъ, молчаливо и внимательно ожидающіе возвращенія изъ глубины неба своихъ птицъ — мальчики, плотно прижавшись другъ къ другу, далеко, — какъ ихъ голуби отъ земли, — ушли отъ вѣянія жизни; въ этотъ часъ они просто — дѣти, не могутъ ни завидовать, ни сердиться; чуждые всему, они близки другъ къ другу, безъ словъ, по блеску глазъ, понимаютъ свое чувство и — хорошо имъ, какъ птицамъ въ небѣ.
Но вотъ голуби опустились на крышу, утомленные своимъ полетомъ, загнаны въ голубятню.
— Братцы! Айда за яблоками?! — предлагаетъ Ежовъ, вдохновитель всѣхъ игръ и похожденій.
Его зовъ изгоняетъ изъ дѣтскихъ душъ навѣянное голубями мирное настроеніе, и вотъ они осторожно, походкой хищниковъ и съ хищной чуткостью ко всякому звуку, крадутся по задворкамъ въ сосѣдній садъ. Страхъ быть пойманнымъ умѣряется до равновѣсія надеждой безнаказанно украсть. Воровство есть тоже трудъ и трудъ опасный, все же заработанное своимъ трудомъ — такъ сладко!… И тѣмъ слаще оно, чѣмъ бЬльшимъ количествомъ усилій взято… Мальчики осторожно перелѣзаютъ черезъ заборъ сада и, согнувшись, ползутъ къ яблонямъ, зорко и пугливо оглядываясь. Отъ каждаго шороха сердца ихъ дрожатъ и замедляютъ біеніе. Они съ одинаковой силой боятся и того, что ихъ поймаютъ, и того, что, замѣтивъ, — ихъ узнаютъ, кто они; но если ихъ только замѣтятъ и закричатъ на нихъ — они будутъ довольны. Отъ крика они разлетятся въ стороны и исчезнутъ, а потомъ, собравшись вмѣстѣ, съ горящими восторгомъ и удалью глазами, они со смѣхомъ будутъ разсказывать другъ другу о томъ, что чувствовали, услышавъ крикъ и погоню за ними, и что случилось съ ними, когда они бѣжали по саду такъ быстро, точно земля горѣла подъ ногами у нихъ.
Въ подобные разбойничьи набѣги Ѳома вкладывалъ сердца больше, чѣмъ во всѣ другія похожденія и игры, — и велъ онъ себя въ набѣгахъ съ храбростью, которая и поражала и сердила его товарищей. Въ чужихъ садахъ онъ держалъ себя намѣренно-неосторожно: говорилъ во весь голосъ, съ трескомъ ломалъ сучья яблонь, сорвавъ червивое яблоко, швырялъ его куда-нибудь по направленію къ дому садовладѣльца. Опасность быть застигнутымъ на мѣстѣ преступленія не пугала, а лишь возбуждала его — глаза у него темнѣли, онъ стискивалъ зубы, и лицо его становилось гордымъ и злымъ. Смолинъ говорилъ ему, презрительно скашивая свой большой ротъ:
— Очень ужъ ты форсишь…
— Просто я не трусъ! — отвѣчалъ Ѳома.
— Знаю я, что не трусъ, а только форсятъ этимъ одни дураки… Можно и безъ форсу не хуже дѣло дѣлать…
Ежовъ осуждалъ его съ иной точки зрѣнія:
— Если ты будешь самъ въ руки соваться — поди къ чорту! Я тебѣ не товарищъ… Тебя поймаютъ да къ отцу отведутъ — онъ тебѣ ничего не сдѣлаетъ, а меня, братъ, такъ ремнемъ отхлещутъ — всѣ мои косточки облупятся…
— Трусъ! — упрямо твердилъ Ѳома.
И вотъ однажды Ѳома былъ пойманъ руками штабсъ-капитана Чумакова, маленькаго и худенькаго старика. Неслышно подкравшись къ мальчику, укладывавшему сорванныя яблоки за пазуху рубахи, старикъ вцѣпился ему въ плечи и грозно закричалъ:
— Попался, разбойникъ! Ага-а!
Ѳомѣ въ то время было около пятнадцати лѣтъ, и онъ ловко вывернулся изъ рукъ старика. Но не побѣжалъ отъ него, а, нахмуривъ брови и сжавъ кулаки, съ угрозой произнесъ:
— Попробуй… тронь…
— Я тебя не трону… я тебя въ полицію сведу! Ты чей?
Этого Ѳома не ожидалъ, и у него сразу пропала вся храбрость и злоба. Путешествіе въ полицію показалось чѣмъ-то такимъ, чего отецъ никогда не проститъ ему… Онъ вздрогнулъ и смущенно объявилъ:
— Гордѣевъ…
— И… Игната Матвѣича?…
— Да…
Теперь смутился штабсъ-капитанъ. Онъ выпрямился, выпятилъ грудь впередъ и зачѣмъ-то внушительно крякнулъ. Потомъ плечи его опустились, и отечески-вразумительно онъ сказалъ мальчику:
— Стыдно-съ! Наслѣдникъ такого именитаго и уважаемаго лица… и вдругъ! Недостойно-съ вашего положенія… Можете идти… Но если еще разъ повторится происшедшее… гмъ! принужденъ буду сообщить вашему батюшкѣ… которому, между прочимъ, имѣю честь свидѣтельствовать мое почтеніе…
Ѳома наблюдалъ за игрой физіономіи старика и понялъ, что онъ боится отца. Исподлобья, какъ волченокъ, онъ смотрѣлъ на Чумакова; а тотъ, со смѣшной важностью, крутилъ свои сѣдые усы и переминался съ ноги на ногу передъ мальчикомъ, который не уходилъ, несмотря на данное ему разрѣшеніе.
— Можете идти, — повторилъ старикъ и указалъ рукой дорогу къ своему дому.
— А въ полицію? — угрюмо спросилъ Ѳома и тотчасъ же испугался возможнаго отвѣта.
— Это я… пошутилъ, — улыбнулся старикъ. — Напугать васъ хотѣлъ…
— Вы сами боитесь моего отца… — сказалъ Ѳома и, повернувшись спиной къ старику, пошелъ въ глубь сада.
— Боюсь? А-а! Хорошо-съ! — крикнулъ Чумаковъ вслѣдъ ему, и по звуку голоса Ѳома понялъ, что обидѣлъ старика. Ему стало стыдно и грустно; до вечера онъ прогулялъ одинъ, а придя домой, былъ встрѣченъ суровымъ вопросомъ отца:
— Ѳомка! Ты къ Чумакову въ садъ лазилъ?
— Лазилъ, — спокойно сказалъ мальчикъ, глядя въ глаза отцу.
Игнатъ, должно быть, не ждалъ такого отвѣта и нѣсколько секундъ молчалъ, поглаживая бороду.
— Дуракъ! Зачѣмъ ты это? Мало что ли тебѣ своихъ яблоковъ?
Ѳома опустилъ глаза и молчалъ, стоя противъ отца.
— Вишь — стыдно стало! Поди-ка, Ежишка этотъ подбилъ? Я вотъ его проберу, когда придетъ… а то и совсѣмъ прекращу дружбу-то вашу…
— Это я самъ, — твердо сказалъ Ѳома.
— Часъ-отъ-часу не легче! — воскликнулъ Игнатъ. — Да зачѣмъ тебѣ?
— Такъ…
— Квакъ! — передразнилъ отецъ. — А ты ужъ, коли это дѣлаешь, такъ умѣй и объяснить это и себѣ и людямъ.. Подь сюда!
Ѳома подошелъ къ отцу, сидѣвшему на стулѣ, и сталъ между колѣнъ у него, а Игнатъ положилъ ему руки на плечи и, усмѣхаясь, заглянулъ въ его глаза.
— Стыдно?…
— Стыдно… — вздохнулъ Ѳома.
— Вотъ то-то, дурень! Позоришь и себя, и меня…
Прижавъ къ груди своей голову сына, онъ погладилъ его волосы и снова спросилъ:
— На что это нужно — яблоки чужія воровать?
— Да… я не знаю, — сказалъ Ѳома смущенно. — Можетъ потому, что скучно… Играешь, играешь… все одно и то же… надоѣстъ! А это… опасно…
— За сердце беретъ? — спросилъ отецъ, усмѣхаясь.
— Беретъ…
— Мм… пожалуй, и такъ… Но, однако, ты, Ѳома, смотри, — брось это! Не то я съ тобой круто обойдусь…
— Никогда я больше никуда не полѣзу, — увѣренно сказалъ мальчикъ.
— А что ты самъ за себя отвѣчаешь — это хорошо. Тамъ Господь знаетъ, что выйдетъ изъ тебя, а пока… ничего! Дѣло не малое, ежели человѣкъ за свои поступки самъ платить хочетъ, своей шкурой… Другой бы на твоемъ мѣстѣ сослался на товарищей, а ты говоришь — я самъ… Такъ и надо, Ѳома… Ты въ грѣхѣ, ты и въ отвѣтѣ… Что… Чумаковъ-то… не того… не ударилъ тебя? — съ разстановкой спросилъ Игнатъ сына.
— Я бы ему ударилъ! — спокойно объявилъ Ѳома.
— Мм… — значительно промычалъ его отецъ.
— Я сказалъ ему, что онъ тебя боится… вотъ онъ почему пожаловался… А то онъ не хотѣлъ идти-то къ тебѣ…
— Ну?
— Ей Богу! Почтеніе, говоритъ, отцу передайте…
— Это онъ?
— Да…
— Ахъ… пёсъ! Вотъ, гляди, каковы есть люди: его грабятъ, а онъ кланяется — мое вамъ почтеніе! Ха-ха! Положимъ, взяли-то у него, можетъ, на копейку, да вѣдь эта копейка ему — какъ мнѣ рубль… И не въ копейкѣ дѣло, а въ томъ, что моя она, и никто не смѣй ее тронуть, ежели я самъ не брошу… Эхъ! Ну ихъ! Ну-ка, говори — гдѣ былъ, что видѣлъ?
Мальчикъ сѣлъ рядомъ съ отцомъ и подробно разсказалъ ему впечатлѣнія своего дня. Игнатъ слушалъ, внимательно разглядывая оживленное лицо сына, и брови большого человѣка задумчиво сдвигались.
— Все еще по верху ты у меня плаваешь, братъ… Дите ты еще… эхе-хе!
— А въ оврагѣ спугнули мы сову, — разсказывалъ мальчикъ.
— Вотъ потѣха-то была! Полетѣла это она, да съ разлету о дерево — трахъ! даже запищала, жалобно таково… А мы ее опять спугнули, она опять поднялась и все такъ же — полетитъ, полетитъ, да на что-нибудь и наткнется… такъ отъ нея перья и сыплются!… Ужъ она трепалась, трепалась по оврагу-то… насилу гдѣ-то спряталась… мы и искать не стали, жаль стало, избилась вся… Она, тятя, совсѣмъ слѣпая днемъ-то?
— Слѣпая, — сказалъ Игнатъ. — Иной человѣкъ вотъ такъ же, какъ сова днемъ, мечется въ жизни… Ищетъ, ищетъ своего мѣста, бьется, бьется, — только перья летятъ отъ него, а все толку нѣтъ… Изобьется, изболѣетъ, облиняетъ весь, да съ размаха и ткнется куда попало, лишь бы отдохнуть отъ маяты своей… Эхъ, бѣда такимъ людямъ… бѣда, братъ!
— Больно-то, чай, какъ имъ, — тихо сказалъ Ѳома.
— Да вотъ, какъ совѣ этой…
— А отчего онѣ такъ?
— Отчего?… Трудно это сказать… Иной — оттого, что отемненъ своей гордыней… хочется многаго, а силенку имѣетъ слабую… иной — отъ глупости своей… да мало ли отчего? Тебѣ не понять…
— Идите-ка чай пить, — позвала ихъ Анѳиса.
Она давно уже стояла въ дверяхъ и, сложивъ руки на животѣ, умильно любовалась огромной фигурой брата, дружески склонившагося надъ Ѳомой, и задумчивой позой мальчика, прильнувшаго къ плечу отца.
Такъ, день за днемъ, медленно развертывалась жизнь Ѳомы — въ общемъ, не богатая волненіями, мирная и тихая жизнь. Сильныя впечатлѣнія, возбуждая на часъ и день душу мальчика, иногда очень рѣзко выступали на общемъ фонѣ этой однообразной жизни, но скоро изглаживались съ него. Еще тихимъ озеромъ была душа мальчика, — озеромъ, скрытымъ отъ бурныхъ вѣяній жизни, и все, что касалось поверхности озера, или падало на дно, не надолго взволновавъ сонную воду, или, скользнувъ по глади ея, расплывалось широкими кругами и исчезало.
Просидѣвъ въ уѣздномъ училищѣ пять лѣтъ, Ѳома, съ грѣхомъ пополамъ, окончилъ четыре класса и вышелъ изъ него бравымъ, черноволосымъ парнемъ, со смуглымъ лицомъ, густыми бровями и темнымъ пухомъ надъ верхней губой. Большіе, темные глаза его смотрѣли задумчиво и наивно, и губы были по-дѣтски полуоткрыты; но когда онъ встрѣчалъ противорѣчіе своему желанію или что-нибудь другое раздражало его — зрачки его глазъ расширялись, губы складывались плотно, и все лицо принимало выраженіе упрямое и рѣшительное… Крестный, скептически усмѣхаясь, говорилъ про него:
— Для бабъ ты, Ѳома, слаще меда будешь… но пока, большого разума въ тебѣ не видать…
Игнатъ вздыхалъ при этихъ словахъ.
— Ты бы, кумъ, скорѣе пускалъ въ оборотъ сына-то…
— А вотъ, погоди…
— Чего годить? Лѣта два, три повертится на Волгѣ, да и подъ вѣнецъ его… Вонъ Любовь-то какая у меня…
Любовь Маякина въ эту пору училась въ пятомъ классѣ какого-то пансіона. Ѳома часто встрѣчалъ ее на улицѣ, при чемъ она всегда снисходительно кивала ему русой головкой въ щегольской шапочкѣ. Она нравилась Ѳомѣ, но ея розовыя щёки, веселые каріе глаза и пунцовыя губы не могли сгладить у Ѳомы обиднаго впечатлѣнія отъ ея снисходительныхъ кивковъ ему. Она была знакома съ какими-то гимназистами, и хотя между ними былъ Ежовъ, старый товарищъ, но Ѳому не влекло къ нимъ, и въ ихъ компаніи онъ чувствовалъ себя стѣсненнымъ. Ему казалось, что всѣ они хвастаются передъ нимъ своей ученостью и смѣются надъ его невѣжествомъ. Собираясь у Любови, они читали какія-то книжки, и если онъ заставалъ ихъ за чтеніемъ или крикливымъ споромъ — они умолкали при видѣ его. Все это отталкивало его отъ нихъ. Однажды, когда онъ сидѣлъ у Маякиныхъ, Люба позвала его гулять въ садъ и тамъ, идя рядомъ съ нимъ, спросила его съ гримаской на лицѣ:
— Почему ты такой бука… никогда, ни о чемъ не говоришь?
— О чемъ мнѣ говорить, ежели я ничего не знаю! — просто сказалъ Ѳома.
— Учись… читай книги…
— Не хочется…
— А вотъ гимназисты — все знаютъ и обо всемъ умѣютъ говорить… Ежовъ, напримѣръ…
— Знаю я Ежова… болтушка…
— Просто ты завидуешь ему… Онъ очень умный… да. Вотъ онъ кончитъ гимназію — поѣдетъ въ Москву учиться въ университетъ.
— Ну, такъ что, — равнодушно сказалъ Ѳома.
— А ты такъ и останешься неучемъ…
— Ну, и пускай…
— Какъ это хорошо! — иронически воскликнула Люба.
— Я и безъ науки на своемъ мѣстѣ буду, — насмѣшливо сказалъ Ѳома… — И всякому ученому носъ утру… пусть голодные учатся… а мнѣ не надо…
— Фи, какой ты глупый, злой… гадкій! — презрительно сказала дѣвушка и ушла, оставивъ его одного въ саду. Онъ угрюмо и обиженно посмотрѣлъ вслѣдъ ей, повелъ бровями и, опустивъ голову, медленно направился въ глубь сада.
Уже онъ начиналъ познавать прелесть одиночества и сладкую отраву мечтаній. Часто, лѣтними вечерами, когда все на землѣ окрашивается въ огненныя, возбуждающія воображеніе краски заката, — въ грудь его проникало смутное томленіе о чемъ-то, непонятномъ ему. Сидя гдѣ-нибудь въ темномъ уголкѣ сада или лежа въ постели, онъ уже вызывалъ предъ собой образы сказочныхъ царевенъ, — онѣ являлись съ лицами Любы и другихъ знакомыхъ ему барышень, безшумно плавали передъ нимъ въ вечернемъ сумракѣ и смотрѣли въ глаза его загадочными взорами.
Порой эти видѣнія возбуждали въ немъ приливъ мощной энергіи и какъ бы опьяняли его, — онъ вставалъ и, расправляя плечи, полной грудью пилъ душистый воздухъ; но иногда тѣ же видѣнія навѣвали на него грустное чувство — ему хотѣлось плакать, но было стыдно слезъ, онъ сдерживался и все-таки тихо плакалъ. Или вдругъ сердце его трепетало отъ желанія сказать что-то благодарное Богу, преклониться предъ Нимъ; слова молитвъ вспыхивали въ его памяти и, глядя на небо, онъ подолгу шепталъ ихъ, одну за другой, и сердце его облегчалось, изливая въ молитвѣ избытокъ силъ своихъ…
Отецъ терпѣливо и осторожно вводилъ его въ кругъ торговыхъ дѣлъ, бралъ съ собой на биржу, разсказывалъ о взятыхъ поставкахъ и подрядахъ, о своихъ сотоварищахъ, описывалъ ему, какъ они „вышли въ люди“, какія имѣютъ состоянія теперь, каковы ихъ характеры. Ѳома быстро усвоилъ дѣло, относясь ко всему серьезно и вдумчиво.
— Расцвѣтаетъ нашъ репей алымъ макомъ!… — усмѣхался Маякинъ, подмигивая Игнату.
И все-таки, даже когда Ѳомѣ минуло девятнадцать лѣтъ, — было въ немъ что-то дѣтское, наивное, отличавшее его отъ сверстниковъ. Они смѣялись надъ нимъ, считая его глупымъ; онъ держался въ сторонѣ отъ нихъ, обиженный ихъ отношеніемъ къ нему. А отцу и Маякину, которые не спускали его съ глазъ, эта неопредѣленность характера Ѳомы внушала серьезныя опасенія.
— Не пойму я его! — сокрушенно говорилъ Игнатъ. — Не кутитъ онъ, по бабамъ, будто, не шляется, ко мнѣ, къ тебѣ — почтителенъ, всему внимаетъ — красная дѣвка, не парень! И вѣдь, кажись, не глупъ?
— Особой глупости не видать, — говорилъ Маякинъ.
— Поди жъ ты! Какъ будто онъ ждетъ чего-то… какъ пелена какая-то на глазахъ у него… Мать его, покойница, вотъ такъ же ощупью ходила по землѣ… Вѣдь вонъ Африканка Смолинъ на два года старше — а поди-ка ты какой! Т.-е. даже и понять трудно, кто кому теперь у нихъ голова — онъ отцу, или отецъ ему? Учиться хочетъ ѣхать, на фабрику какую-то… ругается: эхъ, говоритъ, плохо вы меня, папаша, учили… Н-да! А мой — ничего изъ себя не объявляетъ… О, Господи!
— Ты вотъ что, — совѣтовалъ Маякинъ, — ты сунь его съ головой въ какое-нибудь горячее дѣло! Право! Золото огнемъ пробуютъ… Увидимъ, какія въ немъ склонности, ежели пустимъ его на свободу… Ты отправь его на Каму-то… одного…
— Развѣ, что попробовать?
— Ну, напортитъ… потеряешь сколько-нибудь… зато будемъ знать, что онъ въ себѣ носитъ?
— И впрямь — отправлю-ка я его, — рѣшилъ Игнатъ.
•••
И вотъ весной Игнатъ отправилъ сына съ двумя баржами хлѣба на Каму. Баржи велъ пароходъ Гордѣева „Прилежный“, которымъ командовалъ старый знакомый Ѳомы, бывшій матросъ Ефимъ, — теперь Ефимъ Ильичъ; тридцатилѣтній, квадратный человѣкъ съ рысьими глазами, разсудительный, степенный и очень строгій капитанъ.
Плыли быстро и весело, потому что всѣ были довольны. Ѳома гордился впервые возложеннымъ на него отвѣтственнымъ порученіемъ. Ефимъ былъ радъ присутствію молодого хозяина, который не дѣлалъ ему за всякую оплошность замѣчаній, уснащенныхъ крѣпкой руганью; а хорошее настроеніе двухъ главныхъ лицъ на суднѣ прямыми лучами падало и на всю команду. Отплывъ отъ мѣста, гдѣ грузились хлѣбомъ, въ апрѣлѣ, — въ первыхъ числахъ мая пароходъ уже прибылъ къ мѣсту назначенія и, поставивъ баржи у берега на якоря, сталъ рядомъ съ ними. На Ѳомѣ лежала обязанность какъ можно скорѣе сдать хлѣбъ и, получивъ платежи, отправиться въ Пермь, гдѣ ждалъ его грузъ желѣза, принятый Игнатомъ къ поставкѣ на ярмарку.
Баржи стали противъ большого села, прислонившагося къ сосновому бору, верстахъ въ двухъ разстоянія отъ берега. Уже на другой день по прибытіи, рано утромъ на берегу явилась большая и шумная толпа бабъ и мужиковъ, пѣшихъ и конныхъ; съ крикомъ, съ пѣснями они разсыпались по палубамъ и — вмигъ закипѣла работа. Спустившись въ трюмы, бабы насыпали рожь въ мѣшки, мужики, вскидывая мѣшки на плечи, бѣгомъ бѣгали по сходнямъ на берегъ, а отъ берега къ селу медленно потянулись подводы, тяжело нагруженныя долгожданнымъ хлѣбомъ. Бабы пѣли пѣсни, мужики шутили и весело поругивались, матросы, изображая собою блюстителей порядка, покрикивали на работавшихъ, доски сходенъ, прогибаясь подъ ногами, тяжело хлюпали по водѣ, а на берегу ржали лошади, скрипѣли телѣги и песокъ подъ ихъ колесами…
Только-что взошло солнце, воздухъ былъ живительно свѣжъ и густо напоенъ запахомъ сосны, спокойная вода рѣки, отражая ясное небо, ласково журчала, разбиваясь о пыжи судовъ и цѣпи якорей. Веселый, громкій шумъ труда, юная красота весенней природы, радостно освѣщенной лучами солнца, — все было полно бодрой силы, добродушной, грубоватой, пріятно волновавшей душу Ѳомы, возбуждая въ немъ новыя и смутныя ощущенія и желанія. Онъ сидѣлъ за столомъ на тентѣ парохода и пилъ чай съ Ефимомъ и пріемщикомъ хлѣба, земскимъ служащимъ, рыжеватымъ и близорукимъ господиномъ въ очкахъ. Нервно подергивая плечами, пріемщикъ надтреснутымъ голосомъ разсказывалъ о томъ, какъ голодали крестьяне, но Ѳома плохо слушалъ его, глядя то на работу внизу, то на другой берегъ рѣки — высокій, желтый, песчаный обрывъ, по краю котораго стояли сосны. Тамъ было безлюдно и тихо.
„Надо будетъ съѣздить туда“, думалъ Ѳома. А до слуха его какъ будто откуда-то издали доносился безпокойный, непріятно рѣзкій голосъ пріемщика:
— Вы не повѣрите — дошло наконецъ до ужаса! Былъ такой случай: въ Осѣ, къ одному интеллигенту приходитъ мужикъ и приводитъ съ собой дѣвицу, лѣтъ шестнадцати… — Что тебѣ? — „Да, вотъ, говоритъ, привелъ дочь вашему благородію“… — Зачѣмъ? — „Да можетъ, говоритъ, возьмете… человѣкъ вы холостой“… — Т.-е., какъ такъ? что такое? — „Да водилъ, говоритъ, водилъ ее по городу, въ прислуги хотѣлъ отдать — не беретъ никто… возьмите хоть въ любовницы!“ Понимаете? Онъ предлагаетъ дочь свою, поймите! дочь — въ любовницы! Чортъ знаетъ, что такое?! а? Тотъ, понятно, возмутился, накинулся на мужика, ругается… Но мужикъ резонно говоритъ ому: „Ваше благородіе! что она мнѣ, по нынѣшнимъ днямъ? Лишняя совсѣмъ… а у меня, говоритъ, трое мальчишекъ — они работники будутъ, ихъ надо сохранить… дайте, говоритъ, десять рублей за дѣвку-то, вотъ я и поправлюсь съ мальчишками“… Каково, а? Просто ужасъ, говорю вамъ…
— Не хо-ро-шо! — вздохнулъ Ефимъ. — Такъ что, голодъ — сказано — не тётка… У брюха, видите, свои законы…
А у Ѳомы этотъ разсказъ вызвалъ какой-то непонятный ему огромный и щекочущій интересъ къ судьбѣ дѣвочки, и юноша быстро спросилъ у пріемщика:
— Что же онъ, баринъ-то этотъ, купилъ ее?
— Разумѣется, нѣтъ! — укоризненно воскликнулъ пріемщикъ.
— Ну, и куда же ее дѣвали?
— Нашлись добрые люди… пристроили…
— А-а! — протянулъ Ѳома, и вдругъ твердо и зло объявилъ: — Я бы этого мужика такъ вздулъ! Всю бы рожу ему разворотилъ! — и онъ показалъ пріемщику большой, крѣпко сжатый кулакъ.
— Э! За что? — болѣзненно-громко вскричалъ пріемщикъ, срывая съ носа очки. — Вы не понимаете мотива…
— Я понимаю! — упрямо кивнувъ головой, сказалъ Ѳома.
— Но что же онъ могъ сдѣлать?… Пришло ему въ голову…
— Развѣ это можно, чтобы человѣка продавать?…
— Ахъ! Дико это, я согласенъ, знаю…
— Да еще дѣвушку! Я бъ ему далъ десять рублей!
Пріемщикъ безнадежно махнулъ рукой и замолчалъ. Его жестъ смутилъ Ѳому, онъ поднялся изъ-за стола и, отойдя къ периламъ, сталъ смотрѣть на палубу баржи, покрытую бойко работавшей толпой людей. Шумъ опьянялъ его, и то смутное, что бродило въ его душѣ, опредѣлилось въ могучее желаніе самому работать, имѣть сказочную силу, огромныя плечи и сразу положить на нихъ сотню мѣшковъ ржи, чтобъ всѣ удивились ему…
— Шевелись — живѣе! — звучно крикнулъ онъ внизъ. Нѣсколько головъ поднялось къ нему, мелькнули предъ нимъ какія-то лица, и одно изъ нихъ, — лицо женщины съ черными глазами, — ласково и заманчиво улыбнулось ему. Отъ этой улыбки у него на груди что-то вспыхнуло и горячей волной полилось по жиламъ. Онъ оторвался отъ перилъ и снова подошелъ къ столу, чувствуя, что щёки у него горятъ.
— Слушайте! — обратился къ нему пріемщикъ. — Телеграфируйте вы вашему отцу, — пустъ онъ сброситъ сколько-нибудь зерна на утечку! Вы посмотрите, сколько сорится… а вѣдь тутъ каждый фунтъ дорогъ! Надо же это понимать!… Ну ужъ папаша у васъ… — кончилъ онъ, съ ѣдкой гримасой.
— Сколько сбросить? — пренебрежительно и съ удалью спросилъ Ѳома. — Желаете сто пудъ? Двѣсти?
— Это… благодарю васъ! — смущенно и радостно вскричалъ пріемщикъ… — Если вы имѣете право…
— Я — хозяинъ! — твердо сказалъ Ѳома… — А про отца вы не можете такъ говорить… и корчить рожи…
— Извините! И… я не сомнѣваюсь въ вашихъ полномочіяхъ… искренно благодарю васъ… и вашего папашу отъ лица всѣхъ этихъ людей… отъ лица народа!
Ефимъ опасливо смотрѣлъ на молодого хозяина и, оттопыривъ губы, почмокивалъ ими, а хозяинъ съ гордымъ лицомъ слушалъ быструю рѣчь пріемщика, крѣпко пожимавшаго ему руку.
— Двѣсти пудъ! Это — по-русски, молодой человѣкъ! Вотъ я сейчасъ и объявлю мужичкамъ о вашемъ подаркѣ. Вы увидите, какъ они будутъ благодарны… рады.
И онъ громко крикнулъ внизъ:
— Ребята! Вотъ хозяинъ жертвуетъ двѣсти пудовъ…
— Триста! — перебилъ его Ѳома.
— Триста пудовъ… о! спасибо! Триста пудовъ зерна, ребята!
Но эффектъ получился слабый. Мужики подняли головы кверху и молча снова опустили ихъ, принявшись за работу. Нѣсколько голосовъ нерѣшительно и какъ бы нехотя проговорили:
— Спасибо… Дай тебѣ Господи… Покорнѣйше благодаримъ…
А кто-то весело и пренебрежительно крикнулъ:
— Это что! А вотъ ежели бы водченки по стакашку… была бы милость… правильная! А хлѣбъ не намъ — онъ земству…
— Эхъ! Они не понимаютъ! — смущенно воскликнулъ пріемщикъ. — Вотъ я пойду объясню имъ…
И онъ исчезъ. Но Ѳому не интересовало отношеніе мужиковъ къ его подарку: онъ видѣлъ, что черные глаза румяной женщины смотрятъ на него такъ странно и пріятно ему. Они благодарили его, лаская, звали къ себѣ, и кромѣ ихъ онъ ничего не видалъ. Эта женщина была одѣта по-городскому — въ башмаки, въ ситцевую кофту, и ея черные волосы были повязаны какимъ-то особеннымъ платочкомъ. Высокая и гибкая, она, сидя на кучѣ дровъ, чинила мѣшки, проворно двигая руками, голыми до локтей, и все улыбалась Ѳомѣ.
— Ѳома Игнатьичъ! — слышалъ онъ укоризненный голосъ Ефима. — Больно ужъ ты форснулъ широко… ну, хоть бы пудовъ полсотни! А то — нако! Тамъ что — смотри, какъ бы намъ съ тобой не попало по горбамъ за это…
— Отстань! — кратко сказалъ Ѳома.
— Мнѣ что? Я и смолчу… но какъ ты еще молодъ, а мнѣ сказано — слѣди! — то за недосмотръ мнѣ и попадетъ въ рыло…
— Я скажу отцу… молчи! — сказалъ Ѳома.
— Мнѣ — Богъ съ тобой… такъ что — ты тутъ хозяинъ…
— Ну, и… ладно…
— Я, вѣдь, Ѳома Игнатьичъ, тебя же ради говорю… потому какъ ты молодъ и… простъ…
— Отвяжись, Ефимъ!…
Ефимъ вздохнулъ и замолчалъ. А Ѳома смотрѣлъ на женщину и думалъ:
— Вотъ бы такую продавать привели… ко мнѣ.
Сердце его учащенно билось. Будучи еще чистымъ физически, онъ уже зналъ изъ разговоровъ тайны интимныхъ отношеній мужчины къ женщинѣ. Онъ зналъ ихъ подъ грубыми и зазорными именами, эти имена возбуждали въ немъ непріятное, жгучее любопытство и стыдъ; его воображеніе упорно работало, но все-таки онъ не могъ представить себѣ всего этого въ образахъ понятныхъ ему. И въ душѣ онъ не вѣрилъ, что эти отношенія именно такъ просты и грубы, какъ о нихъ разсказываютъ. Когда же, смѣясь надъ нимъ, его увѣряли, что они таковы и не могутъ быть иными, онъ глуповато и смущенно улыбался, но все-таки думалъ, что не для всѣхъ людей сношенія съ женщиной обязательны въ такой постыдной формѣ, и что, навѣрное, есть что-нибудь болѣе чистое, менѣе грубое и обидное для человѣка.
Теперь, любуясь на черноглазую работницу, Ѳома ясно ощущалъ именно грубое влеченіе къ ней, — ему было стыдно и страшно чего-то. А Ефимъ, стоя рядомъ, увѣщевающе говорилъ ему:
— Вотъ ты теперь смотришь на бабу… такъ что не могу я молчать… Она тебѣ неизвѣстна, но какъ она — подмигиваетъ, то ты по… молодости твоей такого натворишь тутъ, при твоемъ характерѣ, что мы отсюда пѣшкомъ по берегу пойдемъ… да еще ладно, ежели у насъ хоть штаны цѣлы останутся…
— Что тебѣ надо? — спросилъ Ѳома, красный отъ смущенія.
— Мнѣ — ничего не надо… А тебѣ — надо меня слушать… По бабьимъ дѣламъ я вполнѣ могу быть учителемъ… Съ бабой надо очень просто поступать — бутылку водки ей, закусить чего-нибудь, потомъ пару пива поставь и опосля всего — деньгами дай двугривенный. За эту цѣну она тебѣ всю свою любовь окажетъ какъ нельзя лучше…
— Врешь ты все… — тихо сказалъ Ѳома.
— Я-то вру? Какъ же я могу врать, ежели я всю эту политику, можетъ, до ста разъ продѣлывалъ? Такъ что — ты вотъ поручи мнѣ съ ней дѣло вести… а? Я тебѣ сейчасъ съ ней знакомство скручу…
— Хорошо… — сказалъ Ѳома, чувствуя, что ему тяжело дышать и что-то давитъ ему горло…
— Ну, вотъ… вечеромъ я ее и приведу…
Одобрительно усмѣхнувшись въ лицо Ѳомы, Ефимъ ушелъ.
Вплоть до вечера Ѳома ходилъ какъ отуманенный, не замѣчая почтительныхъ и заискивающихъ взглядовъ, которыми смотрѣли на него мужики, настроенные пріемщикомъ. Ему было жутко, онъ чувствовалъ себя виновнымъ предъ кѣмъ-то, и всѣмъ, кто обращался къ нему, отвѣчалъ приниженно-ласково, точно извинялся…
Вечеромъ рабочіе частью ушли, частью, собравшись на берегу у большого, яркаго костра, — стали варить ужинъ. Въ тишинѣ вечера плавали обрывки ихъ рѣчей. Отблескъ костра упалъ на рѣку красными и желтыми пятнами, они трепетали на спокойной водѣ и на стеклахъ оконъ рубки парохода, гдѣ сидѣлъ Ѳома. Забившись въ уголъ на диванъ, обитый клеенкой, — онъ ждалъ. На столѣ предъ нимъ стояло нѣсколько бутылокъ съ водкой и пивомъ, тарелки съ хлѣбомъ и закусками. Онъ завѣсилъ окна и не зажегъ огня; слабый свѣтъ костра, проникая сквозь занавѣски, легъ на столъ, на бутылки и стѣну и дрожалъ, становясь то ярче, то ослабѣвая. На пароходѣ и баржахъ было тихо, только съ берега доносились неясные звуки говора, да рѣка чуть слышно плескалась о борта парохода… Ѳомѣ казалось, что въ темнотѣ около него кто-то притаился и подслушиваетъ, подсматриваетъ за нимъ… Вотъ кто-то идетъ по сходнямъ на баржи… идетъ торопливо и тяжелыми шагами, — доски сходенъ звучно и сердито бьются о воду… Ѳома слышитъ глухой смѣхъ капитана и его пониженный голосъ… Ефимъ стоитъ у двери рубки и говоритъ тихо, но внушительно, точно учитъ… Ѳомѣ вдругъ захотѣлось крикнуть:
— Не надо!
И онъ уже всталъ съ дивана — но въ этотъ моментъ дверь въ рубку отворилась, фигура высокой женщины стала на порогѣ и, безшумно притворивъ за собою дверь, негромко проговорила:
— Батюшки, темно какъ… есть тутъ живой-то кто-нибудь?
— Есть… — тихо отвѣтилъ Ѳома.
— Ну, такъ здравствуйте…
И женщина осторожно подвинулась впередъ.
— Вотъ я… зажгу огонь… — прерывающимся голосомъ пообѣщалъ Ѳома и, опустившись на диванъ, снова прижался въ уголъ.
— Да ничего и такъ… присмотришься, такъ и въ темнотѣ все видно…
— Садитесь, — сказалъ Ѳома.
— Сядемъ…
Она сѣла на диванъ въ двухъ шагахъ отъ него. Ѳома видѣлъ блескъ ея глазъ, видѣлъ улыбку на ея полныхъ губахъ. Ему показалось, что она улыбается не такъ, какъ давеча улыбалась, а иначе какъ-то — жалобно, не весело. Эта улыбка ободрила его, ему стало легче дышать при видѣ этихъ глазъ, которые, встрѣтившись съ его глазами, вдругъ потупились. Но онъ не зналъ, о чемъ говорить ему съ этой женщиной, и минуты двѣ они оба молчали, молчаніемъ тяжелымъ и неловкимъ… Заговорила она:
— Скучно, поди-ка, одному-то вамъ?
— Да-а, — отвѣтилъ Ѳома…
— А нравятся ли наши-то мѣста? — вполголоса спрашивала женщина.
— Хорошо… лѣсу много…
И снова они замолчали…
— Рѣка-то, пожалуй, красивѣе Волги, — съ усиліемъ выговорилъ Ѳома.
— Была я на Волгѣ.
— Гдѣ?
— Въ Симбирскомъ-городѣ…
— Симбирскъ… — какъ эхо повторилъ Ѳома, чувствуя, что онъ снова не въ состояніи сказать ни слова. Но она, должно быть, понявъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, — вдругъ бойкимъ шопотомъ спросила его:
— Что же ты, хозяинъ, не угощаешь меня?
— Вотъ! — встрепенулся Ѳома. — Въ самомъ дѣлѣ… вѣдь экій я! Нуте-ка пожалуйте къ столу…
Онъ возился въ сумракѣ, толкалъ столъ, бралъ въ руки то одну, то другую бутылку и снова ставилъ ихъ на мѣсто, смѣясь виновато и смущенно. А она вплоть подошла къ нему и стояла рядомъ съ нимъ, съ улыбкой глядя въ лицо ему и на его дрожащія руки.
— Стыдишься? — вдругъ прошептала она.
Онъ ощутилъ ея дыханіе на щекѣ своей и такъ же тихо отвѣтилъ:
— Да-а…
Тогда она положила руки на плечи ему и тихонько толкнула его къ себѣ на грудь, успокоительнымъ шопотомъ говоря:
— Ничего, не стыдись… вѣдь нельзя безъ этого… красавчикъ ты мой… молоденькій… жалко-то какъ тебя!…
А ему плакать захотѣлось подъ ея шопотъ, сердце его замирало въ сладкой истомѣ; крѣпко прижавшись головой къ ея груди, онъ стиснулъ ее руками, говоря ей какія-то невнятныя и себѣ самому невѣдомыя слова…
— Уходи! — глухо сказалъ Ѳома, глядя въ стѣну широко раскрытыми глазами.
Поцѣловавъ его въ щеку, она покорно встала и вышла изъ рубки, сказавъ ему:
— Ну, прощай…
Ѳомѣ было нестерпимо стыдно при ней; но лишь она скрылась за дверью, онъ вскочилъ и сѣлъ на диванъ. Потомъ всталъ, шатаясь на ногахъ, и сразу весь наполнился ощущеніемъ утраты чего-то очень цѣннаго, но такого, присутствіе чего онъ какъ бы не замѣчалъ въ себѣ до момента утраты… И тотчасъ же въ немъ явилось новое, мужественное чувство гордости собою. Оно поглотило стыдъ, и на мѣстѣ стыда выросла жалость къ женщинѣ, полураздѣтой и одиноко ушедшей куда-то во тьму холодной майской ночи. Онъ быстро вышелъ изъ рубки на палубу — ночь была звѣздная, но безлунная; его охватила прохлада и тьма… На берегу еще сверкала золотисто-красная куча углей. Ѳома прислушался — подавляющая тишина разлита была въ воздухѣ, лишь вода журчала, разбиваясь о цѣпи якорей, и нигдѣ не слышно было звука шаговъ. Ему захотѣлось позвать женщину, но онъ не зналъ ея имени. Жадно вдыхая широкой грудью свѣжій воздухъ, онъ нѣсколько минутъ стоялъ на палубѣ, и вдругъ, изъ-за рубки, съ носа парохода, до него донесся чей-то вздохъ — вздохъ шумный и тяжелый, похожій на рыданіе. Онъ вздрогнулъ и осторожно пошелъ туда, понимая, что тамъ она.
Она сидѣла у борта на палубѣ и, прислонясь головой къ кучѣ каната, плакала. Ѳома видѣлъ, какъ дрожали бѣлые комья ея обнаженныхъ плечъ, слышалъ тяжелые вздохи, и ему самому стало тяжело.
Наклонясь къ ней, онъ робко спросилъ ее:
— Что ты?
Она качнула головой и не отвѣтила ему.
— Али я тебя обидѣлъ?
— Уйди… — сказала она.
— Да… какъ же, — смущенно и тревожно говорилъ Ѳома, касаясь рукой ея головы. — Ты не сердись… вѣдь сама же…
— Я не сержусь! — громкимъ шопотомъ отвѣтила она. — За что сердиться на тебя? Ты не охальникъ… не насильникъ… чистая ты душа! Эхъ, соколикъ мой, пролетный! Сядь-ка ты рядомъ-то со мной…
И взявъ Ѳому за руку, она усадила его, какъ ребенка, на колѣни къ себѣ, прижала крѣпко голову его къ груди своей и, наклонясь, надолго прильнула горячими губами къ губамъ его.
— О чемъ ты плачешь? — спрашивалъ Ѳома, гладя одной рукой ея щеку, а другой обнимая шею женщины.
— О себѣ плачу… Пошто ты отослалъ меня? — жалобно спросила она.
— Стыдно мнѣ стало, — сказалъ Ѳома, опуская голову.
— Голубчикъ ты мой! Говори ужъ всю правду — не понравилась я тебѣ? — спросила она, усмѣхаясь, но на грудь Ѳомы все падали ея большія, теплыя слезы.
— Что ты это?! — даже съ испугомъ воскликнулъ парень и сталъ горячо и торопливо говорить ей какія-то слова о красотѣ ея, о томъ, какая она ласковая, какъ ему жалко ее и какъ стыдно предъ ней. А она слушала и все цѣловала его щёки, шею, голову и обнаженную грудь.
Онъ умолкъ, — тогда заговорила она печально и тихо, точно по покойникѣ:
— А я другое подумала… Какъ сказалъ ты — уходи! встала я и пошла… И горько, горько мнѣ сдѣлалось отъ твоего слова… Бывало, думаю, миловали меня, лелѣяли, безъ устали, безъ отдыху; за усмѣшку одну, бывало, за ласковую все, чего пожелаю, дѣлали… Вспомнила я это и заплакала! Жалко стало мнѣ мою молодость… вѣдь уже тридцать лѣтъ мнѣ… послѣдніе деньки для женщины! Э-эхъ, Ѳома Игнатьевичъ! — воскликнула она, повышая голосъ и учащая ритмъ своей пѣвучей рѣчи, звукамъ которой красиво вторило журчаніе воды.
— Слушай меня — береги свою молодость! Нѣтъ ничего на свѣтѣ лучше ея. Ничего-то нѣтъ дороже ея! Молодостью, ровно золотомъ, все, что захочешь, то и сдѣлаешь. Живи такъ, чтобы на старости было, чѣмъ молодые годы вспомянуть… вотъ я вспомнила себя, и хоть поплакала, а разгорѣлось сердце-то отъ одной отъ памяти, какъ прежде жила… и опять помолодѣла я, какъ живой воды попила! Дитятко ты мое сладкое! Погуляю жъ я съ тобой, коли по нраву пришлась, погуляю во всю силушку… эхъ! до золы сгорю, коли вспыхнула!
И крѣпко прижавъ къ себѣ парня, она съ жадностью стала цѣловать его въ губы.
— По-огляды-ва-а-ай! — тоскливо завылъ вахтенный на баржѣ, и коротко оборвавъ „ай“ — началъ бить колотушкой въ чугунную доску… Дребезжащіе, рѣзкіе звуки рвали торжественную тишину ночи.
•••
Черезъ нѣсколько дней, когда баржи разгрузились и пароходъ готовъ былъ идти въ Пермь, — Ефимъ, къ великому своему огорченію, увидѣлъ, что къ берегу подъѣхала телѣга и на ней черноглазая Пелагея съ сундукомъ и какими-то узлами.
— Пошли матроса вещи взять… — приказалъ ему Ѳома, кивая головой на берегъ.
Укоризненно покачавъ головой, Ефимъ сердито исполнилъ приказаніе и потомъ, пониженнымъ голосомъ, спросилъ:
— Такъ что — и она съ нами?
— Она со мной… — кратко объявилъ Ѳома.
— Извѣстно ужъ… — не со всѣми же… о, Господи!
— Чего вздыхаешь?
— Да… Ѳома Игнатьичъ! Вѣдь въ большой городъ плывемъ… али мало тамъ ихней сестры?
— Ну, ты молчи! — сурово сказалъ Ѳома.
— Да я смолчу… только не порядокъ это!
— Что?
— Это самое наше шалопутство… Судно у насъ — аккуратное, чистое… и вдругъ — баба! И хоть бы какая! А то, такъ что — одно только званіе — женщина.
Ѳома внушительно нахмурился и сказалъ капитану, властно отчеканивая слова:
— Ты, Ефимъ, и себѣ заруби на носу, и всѣмъ тутъ скажи — ежели да я услышу про нее какое-нибудь похабное слово — полѣномъ по башкѣ!
— Страхи какіе! — не повѣрилъ Ефимъ, съ любопытствомъ поглядывая въ лицо хозяина. Но онъ тотчасъ же отступилъ на шагъ предъ Ѳомой. Игнатовъ сынъ, какъ волкъ, оскалилъ зубы, зрачки у него расширились, и онъ заоралъ:
— Посмѣйся! Я-те посмѣюсь!
Ефимъ, хотя и струсилъ, но съ достоинствомъ заговорилъ:
— Хоша вы, Ѳома Игнатьичъ, и хозяинъ… но какъ мнѣ сказано: слѣди, Ефимъ… и я здѣсь — капитанъ…
— Капитанъ?! — крикнулъ Ѳома, весь вздрагивая и блѣднѣя. — А я кто?
— Такъ что — вы не кричите! Изъ-за пустяка, какова есть баба…
На блѣдномъ лицѣ Ѳомы выступили красныя пятна, онъ переступилъ съ ноги на ногу, судорожнымъ движеніемъ спряталъ руки въ карманы пиджака и ровнымъ, твердымъ голосомъ сказалъ:
— Ты! Капитанъ! Вотъ что — слово еще противъ меня скажешь — убирайся къ чорту! Вонъ! На берегъ! Я и съ лоцманомъ дойду. Понялъ? Надо мной тебѣ не командовать… ну?
Ефимъ былъ пораженъ. Онъ смотрѣлъ на хозяина и смѣшно моргалъ глазами, не находя ему отвѣта.
— Понялъ, говорю?
— По-онялъ… я понимаю! — протянулъ Ефимъ. — Изъ-за чего шумъ, однако? Такъ что — изъ-за…
— Молчать!
Дико сверкнувшіе глаза Ѳомы и его искаженное гнѣвомъ лицо внушили капитану благую мысль уйти скорѣе отъ хозяина, и онъ, быстро повернувшись, ушелъ.
— Фу-у! Какого холода нагналъ, а? Видно очень недалеко упало яблоко отъ яблони… — насмѣшливо бормоталъ онъ, идя по палубѣ.
Онъ былъ золъ на Ѳому и считалъ себя напрасно обиженнымъ; но въ то же время онъ почувствовалъ надъ собой твердую, настоящую хозяйскую руку. Ему, годами привыкшему къ подчиненію, нравилась проявленная надъ нимъ власть, и, войдя въ каюту старика-лоцмана, онъ уже съ оттѣнкомъ удовольствія въ голосѣ разсказалъ ему сцену съ хозяиномъ.
— Видалъ? — заключилъ онъ свой разсказалъ. — Такъ что — хорошей породы — щенокъ, съ первой же охоты — добрый пёсъ… А вѣдь съ виду онъ — такъ себѣ… человѣчишка еще мутнаго ума… Ну, ничего, пускай балуется… дурного тутъ, видать, не будетъ… при такомъ его характерѣ… Нѣтъ, какъ онъ заоралъ на меня! Т.-е. — труба, я тебѣ скажу!… И сразу опредѣлился въ хозяина… какъ будто власти и строгости изъ ковша хлебнулъ…
Ефимъ говорилъ вѣрно: за эти нѣсколько дней Ѳома рѣзко измѣнился. Вспыхнувшая въ немъ страсть сдѣлала его владыкой души и тѣла женщины, онъ жадно пилъ огненную сладость этой власти, и она выжгла изъ него все то неуклюжее, что придавало ему видъ парня угрюмаго и глуповатаго, и, уничтоживъ это, напоила его сердце молодой гордостью, сознаніемъ своей человѣческой личности. Любовь къ женщинѣ всегда плодотворна для мужчины, какова бы она ни была, даже если она даетъ только страданія — и въ нихъ всегда есть много цѣннаго. Являясь для больного душою сильнымъ ядомъ, для здороваго любовь — какъ огонь для желѣза, которое хочетъ быть сталью…
Увлеченіе Ѳомы тридцатилѣтней женщиной, справлявшей въ объятіяхъ юноши Тризну по своей молодости, не отрывало его отъ дѣла; онъ не терялся ни въ ласкахъ, ни въ работѣ, и тамъ и тутъ внося всего себя. Женщина, какъ хорошее вино, возбуждала въ немъ съ одинаковой силой жажду труда и любви, и сама она помолодѣла, пріобщаясь отъ поцѣлуевъ юности.
Въ Перми Ѳому ждало письмо отъ крестнаго, который сообщалъ, что Игнатъ запилъ съ тоски о сынѣ, и что въ его годы вредно такъ пить. Письмо заканчивалось совѣтомъ спѣшить съ дѣлами и скорѣе возвращаться домой. Ѳома почувствовалъ тревогу въ этомъ совѣтѣ, и она огорчила ясный праздникъ его сердца, но въ заботахъ о дѣлѣ и въ ласкахъ Пелагеи эта тѣнь скоро растаяла. Жизнь его текла съ быстротой рѣчной волны, и каждый день приносилъ ему все новыя ощущенія, порождая въ немъ новыя мысли. Пелагея относилась къ нему со всей страстью любовницы, съ той силой чувства, которую влагаютъ въ свои увлеченія женщины ея лѣтъ, допивая послѣднія капли изъ чаши жизни. Но порой въ ней пробуждалось иное чувство, не менѣе сильное и еще болѣе привязывающее къ ней Ѳому, — чувство, сходное со стремленіемъ матери оберечь своего любимаго сына отъ ошибокъ, научить его мудрости жить. Часто, по ночамъ, сидя на палубѣ, обнявшись съ нимъ, она ласково и съ печалью говорила ему:
— Ты послушай меня, какъ сестру твою старшую… Я жила, людей знаю… много я видѣла на своемъ вѣку!… Товарищей выбирай себѣ съ оглядкой, потому что есть люди, которые заразны, какъ болѣзнь… Ты и не разберешь сначала, кто онъ такой? кажись, человѣкъ, какъ всѣ… и вдругъ, самъ того не замѣтя, начнешь подражать ему въ жизни… Хвать — и пристали къ тебѣ болячки его… Я вотъ черезъ подругу все потеряла… мужъ былъ… дѣтей двое… хорошо жили… Писаремъ въ волости мужъ-то былъ.
Замолчавъ, она долго смотрѣла черезъ бортъ на встревоженную судномъ воду, и потомъ, вздохнувъ, снова говорила ему:
— Съ нашей сестрой — сохрани тебя Пресвятая Богородица! — остороженъ будь… Мягокъ ты еще, нѣтъ настоящаго закала въ сердцѣ-то у тебя… А до такихъ, какъ ты, бабы лакомы — силенъ, красивъ, богатъ… И всего больше берегись ты тихонькихъ — онѣ, какъ пьявки, впиваются въ мужчину… вопьется и сосетъ, и сосетъ… а сама все такая ласковая, да нѣжная. Будетъ она изъ тебя сокъ пить, а себя сбережетъ… только даромъ сердце тебѣ надсадитъ… Ты къ тѣмъ больше, которыя, какъ я вотъ, — бойкія. Такія безъ корысти живутъ…
Она, дѣйствительно, была безкорыстна. Въ Перми Ѳома накупилъ ей разныхъ обновокъ и бездѣлушекъ. Она обрадовалась имъ, но, разсмотрѣвъ, озабоченно сказала:
— Ты не больно транжирь деньги-то… смотри, какъ бы отецъ-то не разсердился… Я и такъ… и безо всего люблю тебя…
Уже ранѣе она объявила ему, что поѣдетъ съ нимъ только до Казани, гдѣ у нея жила сестра замужемъ. Ѳомѣ не вѣрилось, что она уйдетъ отъ него, и когда — за ночь до прибытія въ Казань — она повторила свои слова, онъ потемнѣлъ и сталъ упрашивать ее не бросать его.
— А ты прежде время не горюй, — сказала она. — Еще ночь цѣлая впереди у насъ… Простимся мы съ тобой, тогда и пожалѣешь… коли жалко станетъ…
Но онъ все съ большимъ жаромъ уговаривалъ ее не покидать его и наконецъ — чего и слѣдовало ожидать — заявилъ, что онъ хочетъ жениться на ней.
— Вотъ, вотъ… такъ! — и она засмѣялась. — Это отъ живого-то мужа за тебя я пойду? Милый ты мой… чудачокъ! Жениться захотѣлъ, а? Да развѣ на такихъ-то женятся? Много, много будетъ у тебя полюбовницъ-то… Ты тогда женись, когда перекипишь, когда всѣхъ сластей наѣшься досыта — а ржаного хлѣбца захочется… вотъ когда женись! Замѣчала я — мужчинѣ здоровому, для покоя своего, нужно не рано жениться… одной жены ему мало будетъ, и пойдетъ онъ тогда по другимъ… И ты долженъ для своего счастья тогда жену брать, когда увидишь, что и одной ее хватитъ съ тебя…
Но чѣмъ больше она говорила, — тѣмъ настойчивѣе и тверже становился Ѳома въ своемъ желаніи не разставаться съ ней.
— А ты послушай-ка, что я тебѣ скажу, — спокойно сказала женщина. — Горитъ въ рукѣ твоей лучина, а тебѣ и безъ нея ужъ свѣтло, — такъ ты ее сразу окуни въ воду, тогда и чаду отъ нея не будетъ и руки она тебѣ не обожжетъ…
— Не понимаю я твоихъ словъ…
— А ты понимай… Ты мнѣ худого не сдѣлалъ, и я тебѣ его не хочу… Вотъ и ухожу…
Трудно сказать, чѣмъ бы кончилась эта распря, если бы въ нее не вмѣшался случай. Въ Казани Ѳома получилъ телеграмму отъ Маякина, который кратко приказывалъ крестнику: „Немедленно выѣзжай на пассажирскомъ“. У Ѳомы больно сжалось сердце, и черезъ нѣсколько часовъ онъ, стиснувъ зубы, блѣдный и угрюмый, стоялъ на галлереѣ парохода, отходившаго отъ пристани, и, вцѣпившись руками въ перила, неподвижно и не мигая глазами, смотрѣлъ въ лицо своей милой, уплывавшее отъ него вдаль вмѣстѣ съ пристанью и съ берегомъ. Пелагея махала ему платкамъ и все улыбалась, но онъ зналъ, что она плачетъ, тяжелыми, крупными слезами. Отъ слезъ ея вся грудь рубашки у Ѳомы была мокрая, отъ нихъ въ сердцѣ его, полномъ угрюмой тревоги, было тяжко и холодно. Фигура женщины все уменьшалась, точно таяла, а Ѳома, не отрывая глазъ, смотрѣлъ на нее и чувствовалъ, что помимо страха за отца и тоски о женщинѣ — въ душѣ его зарождается какое-то новое, сильное и ѣдкое ощущеніе. Онъ не могъ назвать его себѣ, но оно казалось ему близкимъ къ обидѣ на кого-то.
Толпа людей на пристани слилась въ сплошное, темное и мертвое пятно безъ лицъ, безъ формъ и безъ движенія. Ѳома отошелъ отъ перилъ и угрюмо сталъ ходить по палубѣ.
Пассажиры, громко разговаривая, усаживались пить чай, лакеи сновали по галлереѣ, накрывая столики, гдѣ-то на кормѣ внизу, въ третьемъ классѣ, смѣялся ребенокъ, ныла гармоника, поваръ дробно стучалъ ножами, хрупкимъ звукомъ дребезжала посуда. Разрѣзывая волны и вспѣнивая ихъ, содрогаясь отъ напряженія и тяжело вздыхая, — огромный пароходъ быстро плылъ противъ теченія… Ѳома посмотрѣлъ на широкую полосу раздробленныхъ, мятущихся, взбѣшенныхъ волнъ за кормой парохода и ощутилъ въ себѣ дикое желаніе ломать, рвать что-нибудь, — тоже пойти грудью противъ теченія и раздробить его напоръ о себя, о грудь и плечи свои…
— Судьба! — хриплымъ и утомленнымъ голосомъ сказалъ кто-то около него.
Это слово было знакомо ему: имъ тётка Анѳиса часто отвѣчала Ѳомѣ на его вопросы, и онъ вложилъ въ это краткое слово представленіе о силѣ, подобной силѣ Бога. Онъ взглянулъ на говорившихъ: одинъ изъ нихъ былъ сѣденькій старичокъ, съ добрымъ лицомъ, другой — помоложе, съ большими усталыми глазами и съ черной клинообразной бородкой. Его хрящеватый большой носъ и желтыя, ввалившіяся щёки напоминали Ѳомѣ крестнаго.
— Судьба! — увѣренно повторилъ старикъ возгласъ своего собесѣдника и усмѣхнулся. — Она надъ жизнью — какъ рыбакъ надъ рѣкой: кинетъ въ суету нашу крючокъ съ приманкой, а человѣкъ сейчасъ — хвать за приманку жаднымъ-то ртомъ… тутъ она ка-акъ рванетъ свое удилище — ну, и бьется человѣкъ оземь, и сердце у него, глядишь, надорвано… Такъ-то, сударь мой!
Ѳома закрылъ глаза, точно ему въ нихъ лучъ солнца ударилъ, и, качая головой, громко сказалъ:
— Вѣрно! Вотъ — вѣрно-о!
Собесѣдники пристально посмотрѣли на него: старикъ — съ тонкой и умной улыбкой, большеглазый — недружелюбно, исподлобья. Это смутило Ѳому, и онъ, покраснѣвъ, отошелъ отъ нихъ, думая о судьбѣ и недоумѣвая: зачѣмъ ей нужно было приласкать его, подаривъ ему женщину, и тотчасъ вырвать изъ рукъ у него подарокъ такъ просто и обидно? И онъ понялъ, что неясное, ѣдкое чувство, которое онъ носилъ въ себѣ, — обида на судьбу за ея игру съ нимъ. Онъ былъ слишкомъ избалованъ жизнью для того, чтобы проще отнестись къ первой каплѣ яда въ только-что початомъ кубкѣ, и все время дороги провелъ безъ сна, думая о словахъ старика и лелѣя свою обиду. Но она возбуждала въ немъ не уныніе и скорбь, а гнѣвное и мстительное чувство…
Ѳому встрѣтилъ крестный, и на его торопливые, тревожные вопросы, возбужденно поблескивая зеленоватыми глазками, объявилъ, когда усѣлся въ пролетку рядомъ съ крестникомъ:
— Изъ ума выжилъ отецъ-то твой…
— Пьетъ?
— Хуже… совсѣмъ съ ума сошелъ…
— Ну? О, Господи! говорите…
— Понимаешь: объявилась около него барынька одна…
— Что же она? — воскликнулъ Ѳома, вспомнивъ свою Пелагею, и почему-то почувствовалъ въ сердцѣ радость.
— Пристала она къ нему и — сосетъ…
— Тихонькая?
— Она? Тиха… какъ пожаръ… Семьдесятъ пять тысячъ выдула изъ кармана у него — какъ пушинку!
— О-о! Кто же это такая?
— Сонька Медынская, архитекторова жена…
— Ба-атюшки! Неужто она… Развѣ отецъ… неужто онъ ее въ полюбовницы взялъ? — тихо и изумленно спросилъ Ѳома.
Крестный отшатнулся отъ него и, смѣшно вытаращивъ глаза, убѣжденно заговорилъ:
— Да ты, братъ, тоже спятилъ! Ей Богу, спятилъ! Опомнись! Въ шестьдесятъ три года любовницъ заводить… да еще въ такую цѣну. Что ты? Ну, я это Игнату разскажу.
И Маякинъ разсыпалъ въ воздухѣ дребезжащій, торопливый смѣхъ, при чемъ его козлиная бородка неприглядно задрожала. Не скоро Ѳома добился отъ него толка; противъ обыкновенія старикъ былъ безпокоенъ, возбужденъ, его рѣчь, всегда плавная, рвалась, онъ разсказывалъ ругаясь и отплевываясь, и Ѳома едва разобралъ, въ чемъ дѣло. Оказалось, что Софья Павловна Медынская, жена богача архитектора, извѣстная всему городу своей неутомимостью по части устройства разныхъ благотворительныхъ затѣй, — уговорила Игната пожертвовать семьдесятъ пять тысячъ на устройство въ городѣ ночлежнаго дома и народной библіотеки съ читальней. Игнатъ далъ деньги, и уже газеты расхвалили его за щедрость. Ѳома не разъ видѣлъ эту женщину на улицахъ; она была маленькая, онъ зналъ, что ее считаютъ одной изъ красивѣйшихъ въ городѣ, и что объ ея поведеніи дурно говорятъ…
— Только-то?! — воскликнулъ онъ, выслушавъ разсказъ крестнаго. — А я думалъ и Богъ вѣсть что…
— Ты? Ты думалъ? — вдругъ разсердился Маякинъ. — Ничего ты не думалъ — молокососъ ты!
— Да что вы ругаетесь? — удивился Ѳома.
— Ты скажи — по-твоему семьдесятъ пять тысячъ — большія деньги?
— Большія, — сказалъ Ѳома, подумавъ.
— Ага-а!?
— Да вѣдь у отца много ихъ… чего же вы такъ ужъ…
Якова Тарасовича повело всего, онъ съ презрѣніемъ посмотрѣлъ въ лицо юноши и какимъ-то слабымъ голосомъ спросилъ его:
— Это ты говоришь?
— Я… а кто же?
— Врешь! Это молодая твоя глупость говоритъ, да! А моя старая глупость — милліонъ разъ жизнью испытана, — она тебѣ говоритъ: ты еще щенокъ, рано тебѣ басомъ лаять.
Ѳому и раньше частенько задѣвалъ слишкомъ образный языкъ крестнаго, — Маякинъ всегда говорилъ съ нимъ грубѣе отца, — но теперь юноша почувствовалъ себя крѣпко обиженнымъ старикомъ и сдержанно, но твердо, сказалъ ему:
— Вы бы не ругались зря-то… я, вѣдь, ужъ не маленькій…
— Да что ты? — насмѣшливо поднявъ брови и скосивъ глаза, воскликнулъ Маякинъ.
Ѳому взорвало. Онъ взглянулъ прямо въ глаза старику и вѣско отчеканилъ:
— А вотъ говорю, что зряшной ругани вашей не хочу больше слышать… будетъ!
— Мм… да… та-акъ! Извините…
Яковъ Тарасовичъ прищурилъ глаза, пожевалъ губами и, отвернувшись отъ крестника, съ минуту помолчалъ. Пролетка въѣхала въ узкую улицу, и, увидавъ издали крышу своего дома, Ѳома невольно всѣмъ тѣломъ двинулся впередъ. Въ то же время крестный, плутовато и ласково улыбаясь, спросилъ его:
— Ѳомка! Скажи — на комъ ты зубы себѣ отточилъ? а?
— Развѣ острые стали? — спросилъ Ѳома, обрадованный такимъ обращеніемъ крестнаго.
— Ничего… Это хорошо, братъ… это оч-чень хорошо! Боялись мы съ отцомъ — мямля ты будешь… Ну, а водку пить выучился?
— Пилъ…
— Скоренько!… Помногу, что ли?
— Зачѣмъ помногу-то…
— А вкусна?
— Не очень…
— Тэкъ… Ничего, все это не худо… Только вотъ больно ты открытъ… во всѣхъ грѣхахъ и всякому попу готовъ каяться… Ты сообрази насчетъ этого — не всегда, братъ, это нужно… иной разъ смолчишь — и людямъ угодишь, и грѣха не сотворишь. Н-да. Языкъ у человѣка рѣдко трезвъ бываетъ… А вотъ и пріѣхали… Смотри — отецъ-то не знаетъ, что ты прибылъ… дома ли еще?
Онъ былъ дома: въ открытыя окна изъ комнатъ на улицу несся его громкій, немного сиплый хохотъ. Шумъ пролетки, подъѣхавшей къ дому, заставилъ Игната выглянуть въ окно, и при видѣ сына онъ радостно крикнулъ:
— А-а! Явился…
Черезъ минуту онъ, прижавъ Ѳому одной рукой ко груди, ладонью другой уперся ему въ лобъ, отгибая голову сына назадъ, смотрѣлъ въ лицо ему сіяющими глазами и довольно говорилъ:
— Загорѣлъ… поздоровѣлъ… молодецъ! Барыня! Хорошъ у меня сынъ?
— Недуренъ… — раздался ласковый, серебристый голосъ.
Ѳома взглянулъ изъ-за плеча отца и увидалъ: въ переднемъ углу комнаты, облокотясь на столъ, сидѣла маленькая женщина съ пышными бѣлокурыми волосами; на блѣдномъ лицѣ ея рѣзко выдѣлялись темные глаза, тонкія брови и пухлыя, красныя губы. Сзади ея кресла стоялъ большой филодендронъ, и его крупные, узорчатые листья висѣли въ воздухѣ надъ ея золотистой головкой.
— Добраго здоровья, Софья Павловна, — умильно говорилъ Маякинъ, подходя къ ней съ протянутой рукой. — Что, все контрибуціи собираете съ насъ бѣдныхъ?
Ѳома молча поклонился ей, не слушая ни ея отвѣта Маякину, ни того, что говорилъ ему отецъ. Барыня пристально смотрѣла на него и улыбалась ему привѣтливо и ясно. Ея дѣтская фигура, окутанная въ какую-то темную ткань, почти сливалась съ малиновой матеріей кресла, отчего ея волнистые, золотистые волосы и блѣдное лицо точно свѣтились на темномъ фонѣ. Сидя тамъ, въ углу, подъ зелеными листьями, она была похожа и на цвѣтокъ, и на икону.
— Смотри, Софья Павловна, какъ онъ на тебя воззрился… орелъ, а? — говорилъ Игнатъ.
Ея глаза сузились, на щекахъ вспыхнулъ слабый румянецъ, и она засмѣялась — точно серебряный колокольчикъ зазвенѣлъ. И тотчасъ же встала, говоря:
— Не буду мѣшать вамъ, до свиданія!
Когда она безшумно проходила мимо Ѳомы, на него пахнуло духами, и онъ увидалъ, что глаза у нея темно синіе, а брови почти черныя.
— Уплыла щука, — тихо сказалъ Маякинъ, со злобой глядя вслѣдъ ей.
— Ну, разсказывай намъ, какъ ѣздилъ? много ли денегъ прокутилъ? — гудѣлъ Игнатъ, толкая сына въ то кресло, въ которомъ только что сидѣла Медынская. Ѳома покосился на него и сѣлъ въ другое.
— Что, хороша, видно, бабеночка-то? — посмѣиваясь, говорилъ Маякинъ, щупая Ѳому своими хитрыми глазками. — Вотъ будешь ты при ней ротъ разѣвать… такъ она всѣ внутренности у тебя съѣстъ…
Ѳома почему-то вздрогнулъ и, не отвѣтивъ ему, дѣловымъ тономъ началъ говорить отцу о поѣздкѣ. Но Игнатъ перебилъ его рѣчь:
— Погоди, я коньячку спрошу…
— А ты тутъ все пьешь, говорятъ… — неодобрительно сказалъ Ѳома.
Игнатъ съ удивленіемъ и любопытствомъ взглянулъ на него и спросилъ:
— Да развѣ отцу можно этакъ говорить, а?
Ѳома сконфузился и опустилъ голову.
— То-то! — добродушно сказалъ Игнатъ и крикнулъ, чтобъ дали коньяку…
Маякинъ, прищуривъ глаза, посмотрѣлъ на Гордѣевыхъ, вздохнулъ, простился и ушелъ, пригласивъ ихъ вечеромъ къ себѣ пить чай въ малинникѣ.
— Гдѣ же тётка Анѳиса? — спросилъ Ѳома, чувствуя, что теперь, наединѣ съ отцомъ, ему стало почему-то неловко.
— Въ монастырь поѣхала… Ну, говори мнѣ, а я — выпью…
Ѳома въ нѣсколько минутъ разсказалъ отцу о дѣлахъ и закончилъ разсказъ откровеннымъ признаніемъ:
— Денегъ я истратилъ на себя… много…
— Сколько?
— Рублей… шестьсотъ…
— Въ полтора-то мѣсяца! Не мало… Вижу, что для приказчика — дорогъ ты мнѣ… Куда жъ это ты ихъ всыпалъ?
— Триста пудъ хлѣба подарилъ…
— Кому? Какъ?
Ѳома разсказалъ.
— Гмъ… ну это — ничего! — одобрилъ его отецъ. — Это — знай нашихъ… Тутъ дѣло ясное — за отцову честь… за честь фирмы… И убытка тутъ нѣту… потому — слава добрая есть… а это, братъ, самая лучшая вывѣска для торговли… Ну, а еще?
— Да… такъ, какъ-то… истратилъ…
— Говори прямо… не о деньгахъ спрашиваю, — хочу знать, какъ ты жилъ, — настаивалъ Игнатъ, внимательно и строго разсматривая сына.
— Ѣлъ… пилъ… — не сдавался Ѳома, угрюмо и смущенно наклоняя голову.
— Пилъ? Водку?
— И водку…
— А! Такъ… Не рано ли?
— Спроси Ефима — напивался ли я допьяна…
— На что спрашивать Ефима? Ты самъ долженъ все сказать… Такъ, стало быть, пьешь? Не нравится это мнѣ…
— Могу и не пить…
— Гдѣ ужъ! Коньяку хочешь?
Ѳома посмотрѣлъ на отца и широко улыбнулся. И отецъ отвѣтилъ ему добродушной улыбкой.
— Эхъ ты… чортъ! Пей… да смотри, — дѣло разумѣй… Что подѣлаешь?… пьяница — проспится, а дуракъ — никогда… будемъ хоть это понимать… для своего утѣшенія… Ну и съ дѣвками гулялъ? Да говори прямо ужъ! Что я — бить тебя, что ли, буду?
— Гулялъ… была одна на пароходѣ… Отъ Перми до Казани везъ ее…
— Ну… — Игнатъ тяжело вздохнулъ и, насупившись, сказалъ: — Рано ты опоганился…
— Мнѣ двадцать лѣтъ… А самъ ты говорилъ, что въ твое время пятнадцатилѣтнихъ парнишекъ женили… — смущенно возразилъ ему сынъ.
— То — женили… Ну, ладно, будетъ про это говорить… Ну, повелся съ бабой… что же? Баба — какъ оспа, безъ нея не проживешь… А мнѣ лицемѣрить не приходится… я раньше твоего началъ къ бабамъ льнуть… Однако соблюдай съ ними осторожность…
Игнатъ задумался и долго молчалъ, сидя неподвижно и низко склонивъ голову.
— Вотъ что, Ѳома, — вновь заговорилъ онъ сурово и твердо, — скоро я помру… Старъ. Въ груди у меня тѣснитъ, дышать мнѣ тяжело… помру… Тогда все дѣло на тебя ляжетъ… Ну, сначала крестный поможетъ тебѣ — слушай его! Началъ ты… не худо, все обдѣлалъ, какъ слѣдуетъ, вожжи въ рукахъ крѣпко держалъ… и хоть гулялъ на большія деньги… но видно — разума не терялъ. Дай Богъ и впредь также… Знай вотъ что: дѣло — звѣрь живой и сильный, править имъ нужно умѣючи, взнуздывать надо крѣпко, а то оно тебя одолѣетъ… Старайся стоять выше дѣла… такъ поставь себя, чтобъ все оно у тебя подъ ногами было, на виду, чтобъ каждый малый гвоздикъ въ немъ тебѣ виденъ былъ… Ѳома смотрѣлъ на широкую грудь отца, слушалъ его густой голосъ и думалъ про-себя:
— Ну, не скоро ты помрешь!
Эта мысль была пріятна ему и возбуждала въ немъ доброе, горячее чувство къ отцу.
— Крестнаго держись… у него ума въ башкѣ — на весь городъ хватитъ… онъ только храбрости лишенъ, а то быть бы ему высоко. Да… такъ, говорю, не долго мнѣ жить осталось… По-настоящему, пора бы готовиться къ смерти-то… бросить бы все… да поговѣть, да позаботиться, чтобъ люди меня добромъ вспомянули…
— Вспомянутъ! — увѣренно сказалъ Ѳома.
— Было бы за что…
— А ночлежный-то домъ?
Игнатъ взглянулъ на сына и засмѣялся.
— Сказалъ ужъ Яковъ-то, успѣлъ! Старый кощей… Ругалъ, чай, меня?
— Было немножко, — улыбнулся Ѳома.
— Ну, еще бы! Али я его не знаю?
— Онъ насчетъ этого такъ говорилъ, точно его деньги-то…
Игнатъ откинулся на спинку кресла и расхохотался еще сильнѣе.
— Ахъ старый воронъ, а? Это ты вѣрно… Для него что свои деньги, что мои — все едино… вотъ онъ и дрожитъ… Цѣль есть у него, лысаго… Ну-ка скажи — какая?
Ѳома подумалъ и сказалъ:
— Не знаю…
— Э! глупъ ты… Соединить онъ деньги-то хочетъ…
— Какъ это?
— Да ну, догадайся!…
Ѳома посмотрѣлъ на отца и — догадался.
Лицо его потемнѣло, онъ привсталъ съ кресла, рѣшительно сказавъ:
— Нѣтъ, я не хочу… я на ней не женюсь!
— О? Что такъ? Дѣвка здоровая, неглупая, одна у отца…
— А Тарасъ? Пропащій-то? Да я… вовсе не хочу!
— Пропащій — пропалъ, о немъ, стало быть, и рѣчь вести не стоитъ… Есть, братъ, духовная, и въ ней сказано: „все мое движимое и недвижимое — дочери моей Любови“… А насчетъ того, что сестра она тебѣ крестовая — обладимъ…
— Все равно, — твердо сказалъ Ѳома, — я на ней не женюсь!
— Ну, объ этомъ рано говорить… Однако — что это она какъ не по душѣ тебѣ?
— Не люблю этакихъ…
— Та-акъ! Ахъ ты, скажите, пожалуйста! Какія же вамъ, сударь, больше по вкусу?…
— Которыя попроще… Она тамъ съ гимназистами, да съ книжками… ученая стала… Смѣяться будетъ надо мной… — взволнованно говорилъ Ѳома.
— Это, положимъ, вѣрно… бойка она — не въ мѣру… Но это — пустое дѣло… всякая ржавчина отчищается, ежели руки приложить… Дѣло будущее… А крестный твой — умный старикъ… Житье его было спокойное, сидячее, ну онъ, сидя на одномъ-то мѣстѣ, и думалъ обо всемъ… его, братъ, стоитъ послушать, онъ во всякомъ житейскомъ дѣлѣ изнанку видитъ… Онъ у насъ — ристократъ — отъ матушки Екатерины — ха-ха! Много о себѣ понимаетъ… И какъ родъ его изкоренился въ Тарасѣ, то онъ и рѣшилъ — тебя на мѣсто Тараса поставить, чувствуешь?
— Нѣтъ, ужъ я… самъ себѣ мѣсто выберу, — упрямо сказалъ Ѳома.
— Глупъ еще ты… — усмѣхнулся отецъ въ отвѣтъ на его слова.
Ихъ разговоръ былъ прерванъ пріѣздомъ тётки Анѳисы…
— Ѳомушка! Пріѣхалъ… — кричала она гдѣ-то за дверями. Ѳома всталъ и пошелъ навстрѣчу ей; ласково улыбаясь…
… Вновь жизнь его потекла медленно, спокойно и однообразно. Снова биржа и поученія отца. Сохранивъ по отношенію къ сыну тонъ добродушно-насмѣшливый и поощрительный — въ общемъ Игнатъ сталъ относиться къ нему строже. Онъ ставилъ ему на видъ каждую мелочь и все чаще напоминалъ о томъ, что онъ воспитывалъ его свободно, ни въ чемъ не стѣснялъ и никогда не билъ.
— Другіе отцы вашего брата полѣньями бьютъ… а я пальцемъ тебя никогда не тронулъ.
— Видно не за что было, — спокойно заявилъ однажды Ѳома.
Игнатъ разсердился на сына за эти слова и тонъ.
— Поговори! — зарычалъ онъ. — Набрался храбрости, подъ мягкой-то рукой… На всякое слово отвѣтъ находишь. Смотри — она, рука моя, хоть и мягкая была, но еще такъ сжать можетъ, что у тебя изъ пятокъ слезы брызнутъ… Скоро ты выросъ… какъ грибъ-поганка, чуть отъ земли поднялся, а ужъ воняешь…
— За что ты сердишься на меня? — недоумѣвая и обиженно спросилъ Ѳома отца, когда тотъ былъ въ добромъ настроеніи…
— А ты не можешь стерпѣть, когда отецъ ворчитъ на тебя… въ споръ сейчасъ лѣзешь…
— Да вѣдь обидно… Я хуже не сталъ… вижу я вѣдь, какъ, вонъ, другіе въ мои лѣта живутъ…
— Не отвалится у тебя голова, ежели я ругну тебя иной разъ… А ругаюсь — потому что вижу въ тебѣ что-то не мое… что оно — не знаю, а, вижу — есть… и вредное оно тебѣ…
Эти слова отца заставили Ѳому глубоко задуматься. Онъ самъ чувствовалъ въ себѣ что-то особенное, отличавшее его отъ сверстниковъ, но тоже не могъ понять — что оно такое? И подозрительно слѣдилъ за собой…
Ему нравилось бывать на биржѣ, въ шумѣ и говорѣ солидныхъ людей, совершавшихъ тысячныя дѣла; ему льстило почтеніе, съ которымъ здоровались, разговаривали съ нимъ, Ѳомой Гордѣевымъ, сыномъ милліонщика, менѣе богатые промысловые люди. Онъ чувствовалъ себя счастливымъ и гордымъ, если порой ему удавалось распорядиться чѣмъ-нибудь въ отцовскомъ дѣлѣ за свой страхъ и заслужить за удачное распоряженіе одобрительную усмѣшку отца. Въ немъ было много честолюбиваго стремленія — казаться взрослымъ и дѣловымъ человѣкомъ, но жилъ онъ одиноко, какъ раньше — до поѣздки въ Пермь — и все еще не чувствовалъ стремленія имѣть друзей, хотя каждый день встрѣчался со многими изъ дѣтей купцовъ, сверстниками своими. Не разъ они приглашали его покутить, но онъ грубовато и пренебрежительно отказывался отъ приглашеній и даже посмѣивался:
— Боюсь… Узнаютъ отцы ваши про эти кутежи, да какъ бить васъ станутъ, пожалуй, и мнѣ отъ нихъ попадетъ по шеѣ…
Ему не нравилось въ нихъ то, что они кутятъ и развратничаютъ тихонько отъ отцовъ, на деньги, украденныя изъ отцовскихъ кассъ или взятыя подъ долгосрочные векселя и большіе проценты. Они тоже не любили его за эту сдержанность и брезгливость, въ которой чувствовалось много гордости, обидной для нихъ. Со старшими онъ стѣснялся разговаривать, боясь показаться имъ глупымъ и непонимающимъ дѣла.
Онъ часто вспоминалъ Пелагею, и сначала ему было тоскливо, когда образъ ея вспыхивалъ въ его воображеніи… Но время шло и стирало понемногу яркія краски съ этой женщины, и незамѣтно для него мѣсто въ мечтахъ его заняла маленькая ангелоподобная Медынская. Она почти каждое воскресенье заѣзжала къ Игнату съ различными просьбами, въ общемъ имѣвшими одну цѣль — ускорить постройку ночлежнаго дома. Въ ея присутствіи Ѳома чувствовалъ себя неуклюжимъ, огромнымъ, тяжелымъ; это обижало его, и онъ густо краснѣлъ подъ ласковымъ взглядомъ большихъ глазъ Софьи Павловны. Онъ замѣчалъ, что каждый разъ, когда она смотрѣла на него, — глаза ея темнѣли, а верхняя губа вздрагивала и чуть-чуть приподнималась кверху, обнажая крошечные бѣлые зубы. Это всегда пугало его. Отецъ, подмѣтивъ его взгляды на Медынскую, сказалъ ему:
— Ты не очень пяль глаза-то на эту рожицу. Она, смотри, — какъ березовый уголь: снаружи онъ бываетъ такой же вотъ скромный, гладкій, темненькій — кажись совсѣмъ холодный, — а возьми его въ руку, — ожгетъ…
Медынская не возбуждала въ юношѣ чувственнаго влеченія, ибо въ ней не было ничего похожаго на Пелагею, и вообще она не была такая, какъ всѣ женщины. Онъ зналъ, что про нее разсказываютъ зазорныя вещи, но ничему не вѣрилъ. Однако, онъ измѣнилъ отношенія къ ней, когда увидалъ ее въ коляскѣ, сидящей рядомъ съ толстымъ бариномъ въ сѣрой шляпѣ и съ длинными косичками волосъ на плечахъ. Лицо у него было какъ пузырь — красное, надутое; ни усовъ, ни бороды не было на немъ, и весь этотъ человѣкъ былъ похожъ на переодѣтую женщину… Ѳомѣ сказали, что это ея мужъ… Тогда въ немъ вспыхнули темныя и противорѣчивыя чувства: ему захотѣлось обидѣть архитектора, и въ то же время онъ почувствовалъ зависть и уваженіе къ нему. Медынская показалась менѣе красивой и болѣе доступной; ему стало жаль ее, и все-таки онъ злорадно подумалъ:
— Противно ей, должно быть, когда онъ ее цѣлуетъ…
И за всѣмъ этимъ, онъ, порою, ощущалъ въ себѣ какую-то бездонную, томительную пустоту, которой не могло ничего заполнить — ни впечатлѣнія только что истекшаго дня, ни воспоминанія о давнихъ; и биржа, и дѣла, и думы о Медынской — все поглощалось этой пустотой… Его тревожила она: въ темной глубинѣ ея онъ подозрѣвалъ притаившееся существованіе какой-то враждебной ему силы, пока еще безформенной, но уже осторожно и настойчиво стремившейся воплотиться…
А между тѣмъ Игнатъ, мало измѣняясь по внѣшности, становился все болѣе безпокойнымъ, ворчливымъ и все чаще жаловался на недомоганье.
— Сонъ я потерялъ… бывало дрыхну — хоть кожу съ меня сдери, не услышу. А теперь ворочаюсь, ворочаюсь съ бока на бокъ, едва подъ утро засну… И все просыпаюсь… сердце бьется неровно, то какъ загнанное, часто такъ: тукъ-тукъ-тукъ… а то вдругъ замретъ, — кажись вотъ сейчасъ оторвется да и упадетъ, куда-то вглубь… въ нѣдра самыя… Помилуй мя, Боже, по велицѣй милости Твоей!…
И покаянно вздыхая, онъ поднималъ къ небу свои суровые глаза, уже мутные, утратившіе живой и умный блескъ.
— Стережетъ меня смерть гдѣ-то поблизости, — говорилъ онъ угрюмо, но покорно. И дѣйствительно — скоро она опрокинула на землю его большое, мощное тѣло…
Это случилось въ августѣ, раннимъ утромъ. Ѳома крѣпко спалъ и вдругъ почувствовалъ, что его трясутъ за плечо, и хриплый голосъ гудитъ надъ его ухомъ:
— Вставай…
Онъ открылъ глаза и увидалъ, что отецъ сидитъ на стулѣ у его кровати, однозвучно и глухо повторяя:
— Вставай, вставай…
Только что взошло солнце, и свѣтъ его, лежавшій на бѣлой, полотняной рубахѣ Игната, еще не утратилъ розовой окраски.
— Рано, — сказалъ Ѳома, потягиваясь.
— Ладно… послѣ выспишься…
Лѣниво кутаясь въ одѣяло, Ѳома спросилъ:
— Али надо что?
— Да встань ты, братецъ мой, пожалуйста! — воскликнулъ Игнатъ и обиженно добавилъ: — стало быть, надо, коли бужу…
Всмотрѣвшись въ лицо отца, Ѳома увидалъ, что оно сѣрое, усталое.
— Нездоровится тебѣ?
— Есть немножко…
— Доктора, что ли…
— Ну его! — махнулъ Игнатъ рукой. — Чай, я не молоденькій… и безъ него знаю…
— Что?
— Да… ужъ знаю! — таинственно сказалъ старикъ и странно какъ-то оглядѣлъ комнату. Ѳома одѣвался, а отецъ его, опустивъ голову, медленно говорилъ:
— Дышать боюсь… Такая у меня мысль, что если я вздохну теперь всей грудью — сердце должно лопнуть… Сегодня воскресенье! Послѣ ранней-то обѣдни за попомъ пошли…
— Что ты это, папаша! — усмѣхнулся Ѳома.
— Ничего я… Умывайся, да иди въ садъ… велѣлъ я туда самоваръ подать… на утреннемъ-то холодкѣ и попьемъ чаю… Очень мнѣ чаю хочется, густого, горячаго… Ты скорѣе…
Старикъ тяжело поднялся со стула и, нетвердо ступая босыми ногами, согнувшись, ушелъ изъ комнаты. Ѳома посмотрѣлъ вслѣдъ отца, и колющій холодъ страха сжалъ его сердце… Наскоро умывшись, онъ спѣшно пошелъ въ садъ…
Тамъ подъ старой, развѣсистой яблоней, въ большомъ дубовомъ креслѣ сидѣлъ Игнатъ. Солнечный свѣтъ падалъ сквозь вѣтви дерева тонкими лентами на бѣлую фигуру старика, одѣтаго въ ночное бѣлье. Въ саду было такъ внушительно тихо, что даже шелестъ вѣтки, нечаянно задѣтой платьемъ Ѳомы, показался ему громкимъ звукомъ, и онъ вздрогнулъ… Предъ отцомъ на столѣ стоялъ самоваръ, мурлыкалъ, какъ сытый котъ, и выбрасывалъ въ воздухъ струю пара. Въ тишинѣ и свѣжей зелени сада, наканунѣ смытой обильнымъ дождемъ, это яркое пятно нахально сіяющей шумной мѣди показалось Ѳомѣ чѣмъ-то ненужнымъ, не подходящимъ ко времени и мѣсту… и чувству, которое родилось въ немъ при видѣ больного, согбеннаго старика, одѣтаго въ бѣлое, одиноко сидящаго подъ кровомъ молчаливой, неподвижной, темно-зеленой листвы, въ которой скромно прятались румяныя яблоки…
— Садись, — сказалъ Игнатъ…
— Послать бы за докторомъ-то… — нерѣшительно посовѣтовалъ ему сынъ, усаживаясь противъ него…
— Не надо… На воздухѣ-то отошло будто… А вотъ чаю хлебну, авось и еще легче будетъ… — говорилъ Игнатъ, наливая чай въ стаканы, и Ѳома видѣлъ, что чайникъ трясется въ рукѣ отца.
— Пей…
Молча подвинувъ къ себѣ стаканъ, Ѳома наклонился надъ нимъ, сдувая пѣну съ поверхности чая и съ тяжестью въ сердцѣ слушая громкое короткое дыханіе отца…
Вдругъ что-то стукнуло по столу такъ громко, что посуда задрожала.
Ѳома вздрогнулъ, вскинулъ голову и встрѣтился съ испуганнымъ, почти безумнымъ взглядомъ отца. Игнатъ смотрѣлъ на сына и хрипло шепталъ:
— Яблоко упало, пострѣли его горой! Вѣдь какъ изъ ружья грохнуло… а?
— Тебѣ коньяку бы въ чай-то… — предложилъ Ѳома.
— И такъ ладно…
Они замолчали… Стая чижей пронеслась надъ садомъ, разсыпавъ въ воздухѣ задорно веселый щебетъ. И снова зрѣлую красоту сада обняло торжественное молчаніе. Ужасъ все еще не исчезалъ изъ глазъ Игната…
— Господи Іисусе Христе! — вполголоса заговорилъ онъ, истово крестясь. — Н-да… вотъ онъ и наступилъ, — послѣдній-то часъ жизни…
— Полно, папаша! — прошепталъ Ѳома.
— Чего полно?… Вотъ попьемъ чаю, ты и пошли за попомъ, да за кумомъ…
— Я лучше сейчасъ…
— Сейчасъ къ обѣднѣ ударятъ… попа нѣтъ… да и некуда торопиться, можетъ еще и отойдетъ…
И онъ сталъ громко схлебывать чай съ блюдца…
— Надо бы мнѣ годъ, два еще пожить… Молодъ ты… и очень боюсь я за тебя… Живи честно и твердо… чужого не желай, свое береги крѣпко…
Ему трудно было говорить, онъ остановился и потеръ грудь рукой.
— На людей — не надѣйся… многаго отъ нихъ не жди… Мы всѣ для того живемъ, чтобы взять, а не дать… О, Господи! помилуй грѣшника!
Гдѣ-то вдали густой звукъ колокола упалъ въ тишину утра. Игнатъ съ сыномъ трижды перекрестились…
За первымъ крикомъ мѣди раздался второй, третій и скоро воздухъ наполнили звуки благовѣста, доносившіеся со всѣхъ сторонъ — плавные, мѣрные, громко зовущіе…
— Вотъ и къ обѣднѣ ударили, — сказалъ Игнатъ, вслушиваясь въ гулъ мѣди… — Ты колокола по голосу знаешь?
— Нѣтъ, — отвѣчалъ Ѳома.
— А прислушайся… Вотъ этотъ — слышишь? — басовый такой, это у Николы, Петра Митрича Вагина жертва… а этотъ, съ хрипотой, это у Праскевы Пятницы…
Поющія волны звона колебали воздухъ, насыщенный ими, и таяли въ ясной синевѣ неба. Ѳома задумчиво смотрѣлъ на лицо отца и видѣлъ, что тревога исчезаетъ изъ глазъ его, и они оживляются…
Но вдругъ лицо старика густо покраснѣло, глаза расширились и выкатились изъ орбитъ, ротъ удивленно раскрылся, и изъ него вылетѣлъ СТранный, шипящій звукъ:
— Ф… ф… ахх…
Вслѣдъ затѣмъ голова Игната откачнулась на плечо, а его грузное тѣло медленно поползло съ кресла на землю, точно земля властно потянула его къ себѣ. Нѣсколько секундъ Ѳома не двигался и молчалъ, со страхомъ и изумленіемъ глядя на отца, но потомъ бросился къ Игнату, приподнялъ его голову съ земли и взглянулъ въ лицо ему. Лицо было темное, неподвижное, и широко открытые глаза на немъ не выражали ничего: ни боли, ни страха, ни радости… Ѳома оглянулся вокругъ себя: какъ и раньше, въ саду никого не было, а въ воздухѣ все плавалъ гулкій говоръ колоколовъ… Руки Ѳомы задрожали, онъ выпустилъ изъ нихъ голову отца, и она тупо ударилась о землю… Темная, липкая кровь тонкой струей полилась изъ открытаго рта по синей щекѣ…
Ѳома ударилъ себя руками въ грудь и, стоя на колѣняхъ предъ трупомъ, дико и громко закричалъ… И весь трясся отъ ужаса, и безумными глазами все искалъ кого-то въ зелени сада…
ІѴ.
Смерть отца ошеломила Ѳому и наполнила его страннымъ ощущеніемъ: въ душу ему влилась тишина, — тяжелая, неподвижная тишина, безотвѣтно поглощавшая всѣ звуки жизни. Вокругъ него суетились разные знакомые люди; они являлись, исчезали, что-то говорили ему, — онъ отвѣчалъ имъ невпопадъ, и рѣчи ихъ не вызывали въ немъ никакихъ представленій, безслѣдно утопая въ бездонной глубинѣ мертваго молчанія, наполнявшаго душу его. Онъ не плакалъ, не тосковалъ и не думалъ ни о чемъ; угрюмый и блѣдный, нахмуривъ брови, онъ сосредоточенно вслушивался въ эту тишину, которая вытѣснила изъ него всѣ чувства, опустошила его сердце и, какъ тисками, сжала мозгъ. Сознанію его было доступно лишь чисто-физическое ощущеніе тяжести во всемъ тѣлѣ и больше всего — въ груди, да еще ему казалось, что наступили сумерки и, хотя солнце было высоко на небѣ, — все на землѣ какъ-то потемнѣло и опечалилось.
Похоронами распоряжался Маякинъ. Онъ спѣшно и бодро бѣгалъ по комнатамъ, твердо постукивая каблуками сапогъ, хозяйственно покрикивалъ на прислугу, хлопалъ крестника по плечу и утѣшалъ его:
— А ты, парень, чего окаменѣлъ? Реви, легче будетъ… Отецъ былъ старъ… ветхъ плотью… Всѣмъ намъ смерть уготована, ея же не избѣгнешь… стало быть, не слѣдуетъ прежде времени мертвѣть… Ты его не воскресишь печалью, и ему твоей скорби не надо, ибо сказано: „егда душа отъ тѣла имать нуждею восхититися страшными аггелы — всѣхъ забываетъ сродниковъ и знаемыхъ“… значитъ, весь ты для него теперь ничего не значишь, хоть ты плачь, хоть смѣйся… А живой о живомъ пещись долженъ… Ты лучше плачь — это дѣло человѣческое… очень облегчаетъ сердце…
Но и эти рѣчи ничего не задѣвали ни въ головѣ, ни въ сердцѣ Ѳомы.
Онъ очнулся въ день похоронъ, благодаря настойчивости крестнаго, все время усердно и своеобразно старавшагося возбудить его подавленную душу.
День похоронъ былъ облаченъ и хмуръ. Въ тучѣ густой пыли за гробомъ Игната Гордѣева черной лентой вилась огромная толпа народа; въ ней сверкало золото ризъ духовенства, и глухой шумъ ея медленнаго движенія сливался съ торжественной музыкой хора архіерейскихъ пѣвчихъ. Ѳому толкали и сзади и съ боковъ; онъ шелъ, ничего не видя, кромѣ сѣдой головы отца, и заунывное пѣніе отдавалось въ груди его тоскливымъ эхомъ. А Маякинъ, идя рядомъ съ нимъ, назойливо и неустанно шепталъ ему въ уши:
— Гляди, сколько народу претъ — тысячи!… Самъ губернаторъ пришелъ отца твоего проводить… городской голова… почти вся дума… а сзади тебя — обернись-ка! Софья Павловна идетъ… Почтилъ городъ Игната…
Сначала Ѳома не вслушивался въ шопотъ крестнаго, но когда тотъ сказалъ ему о Медынской, онъ невольно оглянулся назадъ и увидалъ губернатора. Маленькая капелька чего-то пріятнаго канула въ душу его при видѣ этого важнаго человѣка въ яркой лентѣ черезъ плечо, въ орденахъ на груди, и шагавшаго за гробомъ съ грустью на строгомъ лицѣ.
— Блаженъ путь, въ онъ же идеши днесь душе… — тихонько напѣвалъ Яковъ Тарасовичъ, поводя носомъ, и снова шепталъ въ ухо крестника:
— Семьдесятъ пять тысячъ рублей — такая сумма, что за нее можно столько же и провожатыхъ потребовать… Слыхалъ ты, что Сонька-то пятнадцатаго закладку устраиваетъ? Въ сорочины какъ разъ…
Ѳома вновь обернулся назадъ, и глаза его встрѣтились съ глазами Медынской. Отъ ея ласкающаго взгляда онъ глубоко вздохнулъ, и ему сразу стало легче, точно горячій лучъ свѣта проникъ въ его душу и что-то растаяло тамъ. И тутъ же онъ сообразилъ, что не подобаетъ ему вертѣть головой изъ стороны въ сторону.
Въ церкви у Ѳомы заболѣла голова, и ему стало казаться, что все вокругъ него и подъ нимъ колеблется. Въ душномъ воздухѣ, насыщенномъ пылью, дыханіемъ людей и дымомъ кадилъ, робко дрожали огоньки свѣчъ. Кроткій ликъ Христа смотрѣлъ на него съ большой иконы, и огни свѣчъ, отраженные въ тускломъ золотѣ вѣнца надъ челомъ Искупителя, напоминали о капляхъ крови…
Пробужденная душа Ѳомы жадно питалась торжественно-мрачной поэзіей литургіи, и когда раздался трогательный призывъ: „Пріидите послѣднее цѣлованіе дадимъ“, — изъ груди Ѳомы вырвалось такое громкое воющее рыданіе, что толпа въ церкви всколыхнулась отъ этого крика скорби.
Крикнувъ, онъ пошатнулся на ногахъ. Крестный тотчасъ же подхватилъ его подъ руки и сталъ толкать ко гробу, напѣвая довольно громко и съ какимъ-то азартомъ:
— Цѣлу-у-йте бывшаго вмалѣ съ на-ами… цѣлуй, Ѳома, цѣлуй!… предается бо гро-обу, ка-аменемъ покрывается… во тьму вселя-ается, съ мертвыми погребается…
Ѳома прикоснулся губами ко лбу отца и съ ужасомъ отпрянулъ отъ гроба.
— Тише! Съ ногъ было сшибъ… — вполголоса замѣтилъ ему Маякинъ, и эти простыя, спокойныя слова поддержали Ѳому тверже, чѣмъ рука крестнаго.
— Зряща мя безгласна и бездыханна предлежаща, восплачьте обо мнѣ, братія и друзи… — просилъ Игнатъ устами церкви. Но его сынъ уже не плакалъ: ужасъ возбудило въ немъ черное, вспухшее лицо отца, и этотъ ужасъ нѣсколько отрезвилъ его душу, упоенную тоскливой музыкой плача церкви о грѣшномъ сынѣ ея. Его обступили знакомые, внушительно и ласково утѣшая; онъ слушалъ ихъ и понималъ, что всѣ они его жалѣютъ, и онъ сталъ дорогъ всѣмъ. А крестный шепталъ въ ухо ему:
— Замѣчай, какъ они къ тебѣ ластятся… чуютъ коты сало…
Эти слова были непріятны Ѳомѣ, но были полезны ему тѣмъ, что заставляли его такъ или иначе откликаться на нихъ.
На кладбищѣ, при пѣніи вѣчной памяти, онъ снова горько и громко зарыдалъ. Крестный тотчасъ же схватилъ его подъ руку и повелъ прочь отъ могилы, съ сердцемъ говоря ему:
— Экой ты, братъ, малодушный! Али мнѣ его не жалко? Вѣдь я настоящую цѣну ему зналъ, а ты только сыномъ былъ. А вотъ, не плачу я… Три десятка лѣтъ слишкомъ прожили мы душа въ душу съ нимъ… сколько говорено, сколько думано… сколько горя вмѣстѣ выпито.. Молодъ ты… тебѣ ли горевать? Вся жизнь твоя впереди, и будешь ты всякой дружбой богатъ. А я старъ… и вотъ единаго друга схоронилъ и сталъ теперь какъ нищій… не нажить ужъ мнѣ товарища для души!
Голосъ старика странно задребезжалъ и заскрипѣлъ. Его лицо перекосилось, губы растянулись въ большую гримасу и дрожали, морщины съежились, и по нимъ изъ маленькихъ глазъ текли слезы мелкія и частыя. Онъ былъ такъ трогательно жалокъ и не похожъ самъ на себя, что Ѳома остановился, прижалъ его къ себѣ съ нѣжностью сильнаго и тревожно крикнулъ:
— Не плачьте, папаша… голубчикъ! не плачьте…
— То-то вотъ! — слабо проговорилъ Маякинъ и, тяжело вздохнувъ, вдругъ снова превратился въ твердаго и умнаго старика.
— Тебѣ распускать нюни нельзя… — таинственно заговорилъ онъ, садясь въ коляску рядомъ съ крестникомъ. — Ты теперь — полководецъ на войнѣ и долженъ своими солдатиками командовать храбро. А солдатики твои — рубли, и у тебя ихъ бо-ольшая армія… Воюй знай!
Ѳома, удивленный быстротой его превращенія, слушалъ его слова, и почему-то они напомнили ему объ ударахъ тѣхъ комьевъ земли, которыми люди бросали въ могилу Игната, на гробъ его.
— Съ кѣмъ мнѣ воевать… — сказалъ Ѳома вздыхая.
— А ужъ я тебя научу! Говорилъ ли тебѣ отецъ-то, что я старикъ умный и что надо слушать меня?…
— Говорилъ.
— Ты и слушай!… Ежели мой умъ присовокупить къ твоей молодой силѣ — хорошую побѣду можно одержать… Отецъ твой былъ крупный человѣкъ… да недалеко впередъ смотрѣлъ и не умѣлъ меня слушаться… И въ жизни онъ бралъ успѣхъ не умомъ, а сердцемъ больше… Охъ, что-то изъ тебя выйдетъ… Ты переѣзжай ко мнѣ, а то одному жутко будетъ въ домѣ…
— Тётя тамъ…
— Тётя… она хвораетъ… тоже не долгая она жилица на землѣ…
— Не говорите про это, — тихо попросилъ Ѳома.
— А я буду говорить. Смерти нечего бояться тебѣ, — ты не старуха на печи. Ты живи себѣ безбоязненно и дѣлай то, къ чему назначенъ. А человѣкъ назначенъ для устроенія жизни на землѣ. Человѣкъ — капиталъ… онъ, какъ рубль, составляется изъ дрянныхъ мѣдныхъ грошей да копеекъ. Изъ персти земной, сказано… А по мѣрѣ того, какъ обращается онъ въ жизни, впитываетъ въ себя сальце да маслице, потъ да слезы, — образуются въ немъ душонка и умишко… И съ того начинаетъ онъ расти и вверхъ и внизъ… то, глядишь, цѣна ему — грошъ, то пятиалтынный, то сотня рублей… а бываетъ онъ и выше всякихъ цѣнъ… Пущенъ онъ въ обращеніе и долженъ для жизни проценты принести. Жизнь всѣмъ намъ цѣну знаетъ и раньше времени она ходу нашего не остановитъ… никто, братъ, себѣ въ убытокъ не дѣйствуетъ, ежели онъ умный… а у жизни много ума накоплено… Ты меня слушаешь?
— Слушаю…
— А что ты понимаешь?
— Все…
— Врешь, чай? — усомнился Маякинъ.
— Но только… зачѣмъ умирать надо? — тихо спросилъ Ѳома.
Крестный съ сожалѣніемъ взглянулъ въ лицо ему, почмокалъ губами и сказалъ:
— Умный человѣкъ вотъ этого никогда не спроситъ. Умный человѣкъ самъ видитъ, что ежели рѣка — такъ она течетъ куда-нибудь… и кабы она стояла, то было бы болото…
— Зря вы насмѣхаетесь… — угрюмо сказалъ Ѳома. — Море тоже вонъ никуда не течетъ…
— Оно всѣ рѣки принимаетъ въ себя… и бываютъ въ немъ сильныя бури… Такъ же и житейское море отъ людей питается волненіемъ… а смерть обновляетъ воды его… дабы не протухли… Какъ люди ни мрутъ, а ихъ все больше становится…
— Что изъ того? Отецъ-то умеръ…
— И ты умрешь…
— Такъ какое мнѣ дѣло, что людей больше прибываетъ? — тоскливо усмѣхнулся Ѳома.
— Э-эхе-хе! — вздохнулъ Маякинъ. — И никому до этого дѣла нѣтъ… Вотъ и штаны твои, навѣрно, также разсуждаютъ: какое намъ дѣло до того, что на свѣтѣ всякой матеріи сколько угодно? Но ты ихъ не слушаешь — износишь, да и бросишь…
Ѳома укоризненно посмотрѣлъ на крестнаго, и видя, что старикъ улыбается, удивился и съ уваженіемъ спросилъ:
— Неужто вы, папаша, не боитесь смерти?
— Я, дѣточка, паче всего боюсь глупости, — со смиренной ядовитостью отвѣтилъ Маякинъ. — Я такъ полагаю: дастъ тебѣ дуракъ меду — плюнь; дастъ мудрецъ яду — пей! А тебѣ скажу: слаба, братъ, душа у ерша, коли у него щетинка дыбомъ не стоитъ…
Насмѣшливыя слова старика обидѣли и озлили Ѳому. Онъ отвернулся въ сторону и сказалъ:
— Не можете вы безъ вывертовъ безъ этихъ говорить…
— Не могу! — воскликнулъ Маякинъ, и глаза его тревожно заиграли. — Каждый говоритъ тѣмъ самымъ языкомъ, какой имѣетъ. Суровъ я кажусь? Такъ что ли?
Ѳома молчалъ.
— Эхъ ты… Ты вотъ что знай — любитъ тотъ, кто учитъ… Твердо это знай… И насчетъ смерти не думай… безумно, братъ, живому человѣку о смерти думать. „Екклезіастъ“ лучше всѣхъ о ней подумалъ, подумалъ и сказалъ, что даже псу живому лучше, чѣмъ мертвому льву…
Пріѣхали домой. Вся улица передъ домомъ была заставлена экипажами, и изъ раскрытыхъ оконъ въ воздухъ лился громкій говоръ. Какъ только Ѳома явился въ залѣ, его схватили подъ руки и потащили къ столу съ закусками, убѣждая его выпить и съѣсть чего-нибудь. Въ залѣ было шумно, какъ на базарѣ; было тѣсно и душно. Ѳома молча выпилъ одну рюмку водки, двѣ, три… Вокругъ него чавкали, чмокали губами, булькала водка, выливаемая изъ бутылки, звенѣли рюмки… Говорили о балыкѣ и октавѣ солиста въ архіерейскомъ хорѣ и снова о балыкѣ, и о томъ, что городской голова тоже хотѣлъ сказать рѣчь, но послѣ архіерея не рѣшился, боясь сказать хуже его. Кто-то съ умиленіемъ разсказывалъ:
— Покойникъ такъ дѣлалъ: отрѣжетъ ломтикъ семужки, поперчитъ его густенько, другимъ ломтикомъ прикроетъ, да вслѣдъ за рюмкой и пошлетъ.
— По-ослѣдуемъ его примѣру… — гудѣлъ густой басъ.
Ѳома, нахмурившись, съ обидой въ сердцѣ, смотрѣлъ на жирныя губы и челюсти, жевавшія вкусныя яства, и ему хотѣлось закричать и выгнать вонъ всѣхъ этихъ людей, солидность которыхъ еще недавно возбуждала въ немъ уваженіе къ нимъ.
— А ты будь поласковѣе… поразговорчивѣе… — вполголоса сказалъ Маякинъ, появляясь около него.
— Чего они жрутъ здѣсь? Въ трактиръ пришли, что ли? — громко и со злобой сказалъ Ѳома.
— Чшш… — испуганно замѣтилъ Маякинъ и быстро оглянулся съ любезной улыбкой на лицѣ.
Но было поздно: его улыбка ничему не помогла. Слова Ѳомы услыхали, — шумъ и говоръ въ залѣ сталъ уменьшаться, нѣкоторые изъ гостей какъ-то торопливо засуетились, иные, обиженно нахмурившись, положили вилки и ножи и отошли отъ стола съ закусками, и всѣ искоса смотрѣли на Ѳому.
Онъ встрѣчалъ эти взгляды, не опуская глазъ, злой и молчаливый.
— За столъ прошу! — кричалъ Маякинъ, мелькая въ толпѣ людей, какъ искра въ пеплѣ. — Пожалуйте, садитесь! Сейчасъ блины даютъ.
Ѳома передернулъ плечами и пошелъ къ дверямъ, громко сказавъ:
— Я обѣдать не буду…
Онъ слышалъ непріязненный гулъ сзади себя и вкрадчивый голосъ крестнаго, говорившій кому-то:
— Съ горя… вѣдь Игнатъ ему отцомъ и матерью былъ…
Ѳома пришелъ въ садъ на то мѣсто, гдѣ умеръ отецъ, и тамъ сѣлъ. Чувство одиночества и тоски давило ему грудь. Онъ разстегнулъ воротъ рубашки, чтобы облегчить дыханіе себѣ, облокотился на столъ и, сжавъ голову руками, неподвижно замеръ. Накрапывалъ мелкій дождикъ, и листва яблони меланхолично шумѣла подъ ударами дождя. Долго сидѣлъ онъ одинокій, не шевелясь и глядя, какъ на столъ падаютъ съ яблони мелкія капли. Отъ выпитой водки въ головѣ его шумѣло, а сердце сосала обида на людей. Какія-то неопредѣленныя, безличныя чувства и мысли зарождались и исчезали въ немъ; передъ нимъ мелькалъ голый черепъ крестнаго въ вѣнчикѣ серебряныхъ волосъ и съ темнымъ лицомъ, похожимъ на лица старинныхъ иконъ. Это лицо съ беззубымъ ртомъ и ехидной улыбкой, возбуждая у Ѳомы непріязнь и опасеніе, еще болѣе усиливало въ немъ сознаніе одиночества. Потомъ вспомнились ему кроткіе глаза Медынской, ея маленькая, стройная фигурка, а рядомъ съ ней почему-то стала дородная, высокая и румяная Любовь Маякина со смѣющимися глазами и огромной золотисто-русой косой. — „На людей не надѣйся… многаго отъ нихъ не жди…“ — прозвучали въ его памяти слова отца. Онъ тоскливо вздохнулъ и оглянулся вокругъ… Листья на деревьяхъ трепетали подъ дождемъ, и воздухъ былъ полонъ унылыхъ звуковъ… Сѣрое небо точно плакало, и на деревьяхъ дрожали холодныя слезы. А въ душѣ Ѳомы было сухо, темно; жуткое чувство сиротства наполняло ее… Но изъ этого чувства зарождался уже вопросъ:
— Какъ жить буду? Одинъ теперь.
Дождь смочилъ его платье, и онъ, почувствовавъ дрожь холода, всталъ и ушелъ въ домъ…
•••
Жизнь дергала его со всѣхъ сторонъ, не давая ему сосредоточиться на думахъ и скорби объ отцѣ, и въ сороковой день по смерти Игната онъ поѣхалъ на церемонію закладки ночлежнаго дома, парадно одѣтый и съ пріятнымъ чувствомъ въ груди. Наканунѣ Медынская извѣстила его письмомъ, что онъ избранъ въ члены комитета по надзору за постройкой и въ почетные члены того общества, въ которомъ она предсѣдательствовала. Ему понравилось это, и его очень волновала та роль, которую онъ долженъ былъ играть сегодня, при закладкѣ. Онъ ѣхалъ и думалъ о томъ, какъ все это будетъ и какъ нужно ему вести себя, чтобы не сконфузиться передъ людьми.
— Эй, эй! Стой!
Онъ оглянулся, — съ тротуара быстро бѣжалъ къ нему Маякинъ въ сюртукѣ до пятъ, въ высокомъ картузѣ и съ огромнымъ зонтомъ въ рукѣ.
— Ну-ка, подвези-ка меня… — говорилъ старикъ, ловко, какъ обезьяна, прыгнувъ въ экипажъ. — Я, признаться сказать, поджидалъ, тебя… поглядывалъ; время, думаю, ему ѣхать…
— Вы туда? — спросилъ Ѳома.
— А какъ же? Надо посмотрѣть, какъ деньги друга моего въ землю зарывать будутъ.
Ѳома искоса взглянулъ на него и смолчалъ.
— Что косишься? Не бойсь, и ты тоже въ благодѣтели къ людямъ пойдешь.
— Это какъ то-есть? — сдержанно спросилъ Ѳома.
— Читалъ я сегодня въ газетѣ — въ члены тебя выбрали по дому-то да еще въ общество въ Софьино, въ почетные…
— Выбрали…
— Въѣдетъ тебѣ въ карманъ членство это! — вздохнулъ Маякинъ.
— Не разорюсь, чай?
— Не знаю я этого… — съехидничалъ старикъ. — Я насчетъ того больше, что очень ужъ не мудро это самое благотворительное дѣло… и даже, какъ я скажу, что не дѣло это, а одни вредные пустяки.
— Это людямъ-то помогать вредно? — съ задоромъ спросилъ Ѳома.
— Эхъ голова садовая… то-есть капуста! — сказалъ Маякинъ съ улыбочкой — Ты вотъ ужо пріѣзжай-ка ко мнѣ, я тебѣ насчетъ всего этого глаза открою… надо учить тебя! Пріѣдешь?
— Хорошо! — согласился Ѳома.
— Ну вотъ… А пока что, ты на закладкѣ этой держись гордо… стой на виду у всѣхъ. Тебѣ этого не сказать, такъ ты за спину за чью-нибудь спрячешься…
— Зачѣмъ мнѣ прятаться? — недовольно сказалъ Ѳома.
— И я вотъ говорю: совершенно незачѣмъ. Потому деньги дадены твоимъ отцомъ, а почетъ тебѣ долженъ пойти по наслѣдству. Почетъ — тѣ же деньги… съ почетомъ торговому человѣку вездѣ кредитъ… и всюду дорога… Ты и выдвигайся впередъ, чтобы всякъ тебя видѣлъ и чтобъ, ежели сдѣлалъ ты на пятакъ — на цѣлковый тебѣ воздали… А будешь прятаться — выйдетъ неразуміе одно.
Они пріѣхали къ мѣсту, когда уже всѣ важные люди были въ сборѣ, и огромная толпа народа окружала груды лѣса, кирпича и земли. Архіерей, губернаторъ, представители городской знати и администраціи образовали вмѣстѣ съ пышно разодѣтыми дамами большую яркую группу и смотрѣли на возню двухъ каменщиковъ, приготовлявшихъ кирпичи и известь. Маякинъ съ крестникомъ направился къ этой группѣ, нашептывая Ѳомѣ:
— Не робѣй… Хотя у нихъ на брюхѣ-то шелкъ, да въ брюхѣ-то щелкъ.
И почтительно веселымъ голоскомъ онъ поздоровайся съ губернаторомъ прежде архіерея.
— Добраго здоровьица, ваше превосходительство! Благословите, ваше преосвященство!
— А, Яковъ Тарасовичъ! — дружелюбно воскликнулъ губернаторъ, съ улыбкой стиснувъ руку Маякина и потрясая ее, въ то время, какъ старикъ прикладывался къ рукѣ архіерея. — Какъ поживаете, безсмертный старичокъ?
— Покорнѣйше васъ благодарю, ваше превосходительство! Софьѣ Павловнѣ нижайшее почтеніе! — быстро говорилъ Маякинъ, вертясь волчкомъ въ толпѣ людей. Въ минуту онъ успѣлъ поздороваться и съ предсѣдателемъ суда, и съ прокуроромъ, и съ головой — со всѣми, съ кѣмъ считалъ нужнымъ поздороваться первый; таковыхъ, впрочемъ, оказалось немного. Онъ шутилъ, улыбался и сразу занялъ своей маленькой особой вниманіе всѣхъ, а Ѳома стоялъ сзади его, опустивъ голову, исподлобья посматривая на этихъ расшитыхъ золотомъ, облеченныхъ въ дорогія матеріи людей, завидовалъ бойкости старика и робѣлъ, и чувствуя, что робѣетъ, — робѣлъ еще больше. Но вотъ крестный схватилъ его за руку и потянулъ къ себѣ.
— Вотъ, ваше превосходительство, крестникъ мой, Ѳома, покойника Игната сынъ единственный.
— А-а! — пробасилъ губернаторъ. — Очень пріятно… Сочувствую… вашему горю, молодой человѣкъ! — пожимая руку Ѳомы, сказалъ онъ и помолчалъ; потомъ рѣшительно и увѣренно добавилъ: — Потерять отца… это очень тяжелое несчастіе.
И, подождавъ секунды двѣ отвѣта отъ Ѳомы, отвернулся отъ него, одобрительно говоря Маякину:
— Я въ восторгѣ отъ вашей рѣчи вчера въ думѣ! Прекрасно, умно, Яковъ Тарасовичъ… они, предлагая употребить деньги на… этотъ народный клубъ, не понимаютъ истинныхъ нуждъ населенія…
— И потомъ, ваше превосходительство, капиталишко маленькій — значитъ, городъ свою деньгу долженъ добавлять…
— Совершенно вѣрно! Совершенно вѣрно!
— Трезвость, я говорю, это хорошо! Это дай Богъ всякому. Я самъ не пью… но зачѣмъ эти представленія, читальни и прочее такое, ежели онъ, — народъ-то этотъ, — читать даже и не умѣетъ?
Губернаторъ одобрительно мычалъ.
— А вотъ, говорю, вы эти денежки на техническое приспособьте… Ежели его въ малыхъ размѣрахъ завести-то, — денегъ однѣхъ этихъ хватитъ, а въ случаѣ можно еще въ Петербургѣ попросить — тамъ дадутъ! Тогда и городу своихъ добавлять не надо, и дѣло будетъ умнѣе.
— Именно! И я вполнѣ съ вами согласенъ! Но какъ закричали на васъ либералы-то, а? Ха-ха!
— Ужъ такое ихъ дѣло, чтобы кричать…
Густой кашель соборнаго протодіакона возвѣстилъ о началѣ богослуженія.
Къ Ѳомѣ подошла Софья Павловна, поздоровалась и тихо, грустнымъ голосомъ, говорила ему:
— Я смотрѣла на ваше лицо въ день похоронъ, и у меня сердце сжималось… Боже мой, думала я, какъ онъ долженъ страдать!
А Ѳома слушалъ ее и — точно медъ пилъ.
— Эти ваши крики! Они потрясли мнѣ душу… бѣдный вы, мальчикъ мой!… Я могу говорить вамъ такъ, вѣдь я уже старенькая…
— Вы! — тихо воскликнулъ Ѳома.
— А развѣ нѣтъ? — спросила она, наивно глядя въ его лицо.
Ѳома молчалъ, опустивъ голову.
— Вы не вѣрите, что я старушка?
— Я вамъ вѣрю… то-есть всему отъ васъ повѣрю… но только это неправда! — вполголоса и горячо сказалъ Ѳома.
— Неправда — что? Что вы вѣрите мнѣ?
— Нѣтъ! Не это… а то, что… Я — вы извините! — не умѣю я говорить! — съ тоской сказалъ Ѳома, весь красный отъ смущенія. — Не образованъ я…
— Этимъ не надо смущаться… — покровительственно говорила Медынская. — Вы еще молоды, а образованіе доступно всѣмъ… Но есть люди, которымъ оно не только не нужно, а способно испортить ихъ… Это люди съ чистымъ сердцемъ… довѣрчивые, искренніе, какъ дѣти… и вы изъ этихъ людей… Вѣдь вы такой, да?
Что могъ отвѣтить Ѳома на этотъ вопросъ? Онъ искренно сказалъ:
— Покорно васъ благодарю!…
И увидавъ, что его слова вызвали въ глазахъ Медынской веселый блескъ, почувствовалъ себя смѣшнымъ и глупымъ, тотчасъ же озлился на себя и подавленнымъ голосомъ заговорилъ:
— Да, я такой — что у меня на душѣ, то и на языкѣ… Фальшивить не умѣю… смѣшно мнѣ — смѣюсь открыто… глупъ я!
— Ну, зачѣмъ же такъ? — укоризненно сказала жепщина и, оправляя платье, нечаянно погладила рукой своей его опущенную руку, въ которой онъ держалъ шляпу, что заставило Ѳому взглянуть на кисть своей руки и смущенно, радостно улыбнуться.
— Вы, конечно, будете на обѣдѣ? — спрашивала Медынская.
— Да…
— А завтра на засѣданіи у меня?
— Непремѣнно!
— А, можетъ быть, когда-нибудь вы и такъ просто… въ гости зайдете, да?
— Я… благодарю васъ! Приду!…
— Мнѣ нужно благодарить васъ за это обѣщаніе… Они замолчали. Въ воздухѣ плавалъ благоговѣйно тихій голосъ архіерея, выразительно читавшаго молитву, простеревъ руку надъ мѣстомъ закладки дома:
— „…Его же ни вѣтръ, ни вода, не ино что повредити возможетъ: благоволи ему въ конецъ привестися и въ немъ жити хотящихъ отъ всякаго навѣта сопротивнаго свободи…“
— Какъ содержательны и красивы наши молитвы, не правда ли? — спрашивала Медынская.
— Да… — кратко сказалъ Ѳома, не понимая ея словъ и чувствуя, что опять краснѣетъ.
— Они нашимъ купеческимъ интересамъ всегда будутъ противники, — убѣдительно и громко шепталъ Маякинъ, стоя недалеко отъ Ѳомы, рядомъ съ городскимъ головой. — Имъ что? Имъ бы только чѣмъ-нибудь предъ газетой заслужить одобреніе… а настоящей сути они постичь не могутъ… Они напоказъ живутъ, а не для устройства жизни… у нихъ, вонъ онѣ, мѣрки-то: газеты да Швеція! Докторъ-то вчера меня все время этой Швеціей шпынялъ: народное, говоритъ, образованіе въ Швеціи… и все тамъ прочее этакое… первый сортъ! Но, однако, — что такое Швеція? Можетъ быть, она — Швеція-то — одна выдумка… для примѣра приводится… а никакого образованія и всякихъ прочихъ разныхъ разностей вовсе нѣтъ въ ней… И опять же мы не для нея живемъ, и она намъ экзамента производить не можетъ… мы нашу жизнь на свою колодку должны дѣлать. Такъ ли?
А протодіаконъ, закинувъ голову, гудѣлъ:
— О-основателю до-ома сего… вѣ-ечная… па-амя-ать!
Ѳома вздрогнулъ, но Маякинъ былъ уже около него и, дергая его за рукавъ, спрашивалъ:
— Обѣдать ѣдешь?
И бархатная, теплая ручка Медынской снова скользнула по рукѣ Ѳомы.
Обѣдъ былъ для Ѳомы сущей пыткой. Первый разъ въ жизни находясь среди такихъ парадныхъ людей, онъ видѣлъ, что они и ѣдятъ, и говорятъ, — все дѣлаютъ лучше его, и чувствовалъ, что отъ Медынской, сидѣвшей какъ разъ противъ него, его отдѣляетъ не столъ, а высокая гора. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ секретарь того общества, въ которомъ Ѳома былъ выбранъ почетнымъ членомъ, — молодой судейскій чиновникъ, носившій странную фамилію — Ухтищевъ. Какъ бы для того, чтобы его фамилія казалась еще нелѣпѣе, чѣмъ была, онъ говорилъ высокимъ, звонкимъ теноромъ и самъ весь — полный, маленькій, круглолицый и веселый говорунъ — былъ похожъ на новенькій бубенчикъ.
— Самое лучшее въ нашемъ обществѣ — патронесса, самое дѣльное, чѣмъ мы въ немъ занимаемся, — ухаживаніе за патронессой, самое трудное — сказать патронессѣ такой комплиментъ, которымъ она была бы довольна, а самое умное — восхищаться патронессой молча и безъ надеждъ. Такъ что вы, въ сущности, членъ не „общества попеченія о“ и т. д., а членъ общества Танталовъ, состоящихъ въ угодникахъ при Софіи Медынской.
Ѳома слушалъ его болтовню, посматривалъ на патронессу, озабоченно разговаривавшую о чемъ-то съ полицмейстеромъ, мычалъ въ отвѣтъ своему собесѣднику, притворяясь занятымъ ѣдой, и желалъ, чтобъ все это скорѣе кончилось. Онъ чувствовалъ себя жалкимъ, глупымъ, смѣшнымъ для всѣхъ и былъ увѣренъ, что всѣ подсматриваютъ за нимъ, осуждаютъ его. Это связывало его невидимыми путами, не позволяя ему ни говорить, ни думать. Наконецъ, онъ дошелъ до того, что рядъ разнообразныхъ физіономій, вытянувшійся за столомъ противъ него, сталъ казаться ему длинной и волнистой бѣлой полосой со вкрапленными въ нее смѣющимися глазами, и всѣ эти глаза мучительно-непріятно кололи его.
А Маякинъ сидѣлъ рядомъ съ городскимъ головой, быстро вертѣлъ вилкой въ воздухѣ и все что-то говорилъ ему, играя морщинами. Голова, сѣдой и краснорожій человѣкъ съ короткой шеей, смотрѣлъ на него быкомъ съ упорнымъ вниманіемъ и порой утвердительно стукалъ большимъ пальцемъ по краю стола. Оживленный говоръ и смѣхъ заглушали бойкую рѣчь крестнаго, и Ѳома не могъ разслышать ни слова изъ нея, тѣмъ болѣе, что въ ушахъ его все время неустанно звенѣлъ тенорокъ секретаря:
— Смотрите, вонъ всталъ протодіаконъ и заряжаетъ легкія воздухомъ… сейчасъ провозгласитъ вѣчную память Игнату Матвѣевичу…
— Нельзя ли мнѣ уйти? — тихо спросилъ Ѳома.
— Почему же нѣтъ? Это всѣ поймутъ…
Гулкій возгласъ діакона заглушилъ и какъ бы раздавилъ шумъ въ залѣ; именитое купечество съ восхищеніемъ уставилось въ большой, широко раскрытый ротъ, изъ котораго лилась густая октава, и, пользуясь этимъ моментомъ, Ѳома всталъ изъ-за стола и ушелъ изъ зала.
Черезъ минуту онъ, свободно вздыхая, сидѣлъ въ своей коляскѣ и озабоченно думалъ, что среди этихъ господъ ему не мѣсто. Онъ назвалъ ихъ про-себя вылизанными, ихъ блескъ не нравился ему, не нравились лица, улыбки, слова, но свобода и ловкость ихъ движеній, ихъ умѣнье говорить обо всемъ и помногу, ихъ красивые костюмы, — все это возбуждало въ немъ смѣсь зависти и уваженія къ нимъ. Ему стало обидно и грустно отъ сознанія, что онъ не умѣетъ говорить такъ легко и много, какъ всѣ эти люди, и тутъ онъ вспомнилъ, что Люба Маякина уже не разъ смѣялась надъ нимъ за это.
Ѳома не любилъ дочь Маякина, а послѣ того, какъ онъ узналъ отъ Игната о намѣреніи крестнаго женить его на Любѣ, молодой Гордѣевъ сталъ даже избѣгать встрѣчъ съ нею. Но послѣ смерти отца онъ почти каждый день бывалъ у Маякиныхъ, и какъ-то разъ Люба сказала ему:
— Смотрю я на тебя, и знаешь что? — вѣдь ты ужасно не похожъ на купца…
— Тоже и ты на купчиху мало похожа… — сказалъ Ѳома, подозрительно поглядывая на нее.
Онъ не понималъ значенія ея словъ: обидѣть она хотѣла ими его, или такъ просто сказала.
— Слава Богу! — отвѣтила она ему и улыбнулась такой хорошей, дружеской улыбкой.
— Чему рада? — спросилъ онъ.
— А что мы не похожи на нашихъ отцовъ.
Ѳома удивленно посмотрѣлъ на нее и смолчалъ.
— Ты скажи искренно, — понизивъ голосъ, говорила она, — вѣдь ты моего отца не любишь? Не нравится онъ тебѣ?
— Не… очень… — медленно сказалъ Ѳома.
— Ну, а я очень не люблю.
— За что?
— За все… Поумнѣе будешь — самъ поймешь… Твой отецъ лучше былъ.
— Еще бы! — гордо сказалъ Ѳома.
Послѣ этого разговора между ними почти сразу образовалось влеченіе другъ къ другу и, день ото дня все развиваясь, оно вскорѣ приняло характеръ дружбы, хотя и странной нѣсколько.
Люба была однихъ лѣтъ со своимъ крестовымъ братомъ, по относилась къ нему, какъ старшая къ мальчику. Она говорила снисходительно, часто подшучивала надъ нимъ, въ рѣчахъ ея то и дѣло мелькали незнакомыя Ѳомѣ слова, которыя она произносила какъ-то особенно вѣско и съ видимымъ удовольствіемъ. Она особенно любила говорить о своемъ братѣ Тарасѣ, котораго она никогда не видала, но о которомъ разсказывала что-то такое, что дѣлало его похожимъ на храбрыхъ и благородныхъ разбойниковъ тётушки Анѳисы. Часто, жалуясь на своего отца, она говорила Ѳомѣ:
— Вотъ и ты такой же будешь… кощей.
Все это было непріятно юношѣ и очень задѣвало его самолюбіе. Но порой она была пряма, проста, какъ-то особенно дружески ласкова къ нему; тогда у него раскрывалось предъ нею сердце, и оба они подолгу излагали другъ предъ другомъ свои думы и чувства.
Оба говорили много, искренно — и оба не понимали другъ друга: Ѳомѣ казалось, что все, о чемъ говоритъ Люба, чуждо ему и не нужно ей, и въ то же время онъ ясно видѣлъ, что его неумѣлыя рѣчи нимало не интересуютъ ея, и она не хочетъ понять ихъ. Сколько бы времени они ни провели за такой бесѣдой — она давала имъ одно лишь ощущеніе какой-то неловкости и недовольства другъ другомъ. Какъ будто невидимая стѣна недоумѣнія вдругъ вырастала предъ ними и разъединяла ихъ. Они не рѣшались дотронуться до этой стѣны, сказать другъ другу о томъ, что они чувствуютъ ее, и продолжали свои бесѣды, смутно сознавая, что въ каждомъ изъ нихъ есть что-то, что можетъ сблизить и объединить ихъ.
Пріѣхавъ въ домъ крестнаго, Ѳома засталъ Любу одну. Она вышла навстрѣчу ему, и было видно, что она нездорова или разстроена: глаза у нея лихорадочно блестѣли и были окружены черными пятнами. Зябко кутаясь въ пуховый платокъ, она улыбаясь сказала:
— Вотъ хорошо, что пріѣхалъ! А то я одна сижу… скучно, идти никуда не хочется… Чай будешь пить?
— Буду… Ты что это какая, нездоровится что ли?
— Иди въ столовую, а я скажу, чтобъ самоваръ дали… — проговорила она, не отвѣчая на его вопросъ.
Онъ прошелъ въ одну изъ маленькихъ комнатъ дома съ двумя окнами въ палисадникъ. Среди нея стоялъ овальный столъ, его окружали старинные стулья, обитые кожей, въ одномъ простѣнкѣ висѣли часы въ длинномъ ящикѣ со стеклянной дверью, въ углу стояла горка съ посудой, а противъ оконъ у стѣны помѣщался дубовый буфетъ, величиной съ добрый чуланъ.
— Ты съ обѣда? — спросила Люба входя.
Ѳома молча кивнулъ головой.
— Ну что, парадно?
— Бѣда! — усмѣхнулся Ѳома. — Я точно на угольяхъ сидѣлъ… всѣ какъ павлины, а я какъ сычъ…
Люба вынимала изъ горки посуду и ничего не отвѣтила ему.
— Ты чего въ самомъ дѣлѣ скучная какая? — снова спросилъ Ѳома, взглянувъ на ея хмурое лицо.
Она обернулась къ нему и съ восторгомъ, съ тоской сказала:
— Ахъ, Ѳома! Какую я книгу прочитала! Если бъ ты могъ это понимать!
— Видно хороша книга, коли этакъ перевернуло тебя… — усмѣхнулся Ѳома.
— Я не спала… всю ночь читала… Ты пойми: читаешь — и точно предъ тобой двери раскрываются въ какое-то другое царство… И люди другіе, и рѣчи, и… все! Вся жизнь…
— Не люблю я этого… — недовольно сказалъ Ѳома. — Выдумки, обманъ. Театръ тоже вотъ… Купцы выставлены для насмѣшки… развѣ они въ самомъ дѣлѣ такіе глупые? Какъ же! Возьми-ка крестнаго…
— Театръ — это та же школа, Ѳома, — поучительно сказала Люба. — Купцы такіе были… И какой можетъ быть въ книгахъ обманъ?
— Какъ въ сказкахъ… Не настоящее все…
— Ошибаешься! Ты вѣдь не читалъ книгъ, — какъ же можешь судить? Именно онѣ-то и есть настоящее. Онѣ учатъ жить.
— Ну! — махнулъ рукой Ѳома. — Брось… никакого толку не будетъ отъ книгъ твоихъ!… Вонъ отецъ-то у тебя книгъ не читаетъ, а… ловокъ онъ! Смотрѣлъ я на него сегодня — завидно стало. Такъ это онъ со всѣми обращается… свободно, умѣючи, для всякаго имѣетъ слово… Сразу видно, что чего онъ захочетъ, того и добьется.
— Чего онъ добивается? — воскликнула Люба. — Денегъ только… А есть люди, которые хотятъ счастья для всѣхъ на землѣ… и для этого, не щадя себя, работаютъ, страдаютъ, гибнутъ! Развѣ можно отца равнять съ ними?!
— Не равняй… Имъ, стало быть, одно нравится, а крестному другое…
— Имъ ничего не нравится!
— Это какъ же?
— Они хотятъ все измѣнить…
— Такъ вѣдь чего-нибудь ради они стараются? — резонно возразилъ Ѳома. — Чего-нибудь хотятъ?
— Счастья для всѣхъ! — горячо вскричала Люба.
— Ну, я этого не понимаю… — качая головой, сказалъ Ѳома.
— Кто это тамъ о моемъ счастьѣ заботится? И опять же, какое они счастье мнѣ устроить могутъ, ежели я… самъ еще не знаю, чего мнѣ надо? Нѣтъ, ты вотъ что, ты бы на этихъ посмотрѣла… на тѣхъ, что вотъ обѣдали…
— Это не люди! — категорически объявила Люба.
— Да ужъ я тамъ не знаю, кто они по-твоему, но только видно сразу — мѣсто свое они знаютъ. Ловкій народъ… развязный…
— Эхъ, Ѳома! — огорченно воскликнула Люба. — Ничего ты не понимаешь! Ничто тебя не волнуетъ! Лѣнивый ты какой-то…
— Ну, поѣхала! Просто я еще не осмотрѣлся…
— Просто ты — пустой, — объявила Люба рѣшительно и твердо.
— Въ душѣ моей ты не была… — возразилъ спокойно Ѳома. — Думъ моихъ ты не знаешь…
— О чемъ тебѣ думать? — сказала Люба, пожимая плечами.
— Эко! Одинъ я? Это разъ… Жить мнѣ надо? Это два. Въ теперешнемъ моемъ образѣ совсѣмъ нельзя жить — я это развѣ не понимаю? На смѣхъ людямъ я не хочу… Я, вонъ, даже говорить не умѣю съ людьми… Да… и думать-то я не умѣю… — заключилъ Ѳома свою рѣчь и смущенно усмѣхнулся.
— Читать нужно, учиться нужно, — убѣдительно совѣтовала Люба, расхаживая по комнатѣ.
— Въ душѣ у меня что-то шевелится, — продолжалъ Ѳома, не глядя на нее и говоря какъ-бы себѣ самому, — но понять я этого не могу. Вижу вотъ я, что крестный говоритъ… дѣло все… и умно… Но не привлекаетъ меня… Тѣ люди куда интереснѣе для меня.
— Это аристократія-то? — спросила Люба.
— Да…
— Тамъ тебѣ и мѣсто! — съ презрительной улыбкой сказала Любовь. — Эхъ ты! Развѣ они люди? Развѣ у нихъ есть души?
— Почему ты знаешь ихъ? Вѣдь не знакома…
— А книги? Не читала я?
Горничная внесла самоваръ, и разговоръ прервался. Люба молча заваривала чай, Ѳома смотрѣлъ на нее и думалъ о Медынской. Съ ней бы поговорить хотѣлось ему.
— Да-а, — задумчиво заговорила дѣвушка, — съ каждымъ днемъ я все больше убѣждаюсь, что жить — трудно… Что мнѣ дѣлать? Замужъ идти? За кого? За купчишку, который будетъ всю жизнь людей грабить, пить, въ карты играть? За дикаго человѣка? Не хочу! Я хочу быть личностью… я личность, потому что уже понимаю, какъ скверно устроена жизнь. Учиться? Развѣ отецъ пуститъ… Боже мой! Бѣжать? Не хватаетъ храбрости… Что же мнѣ дѣлать?
Она сжала руки и поникла головой надъ столомъ.
— Если бъ ты зналъ, какъ противно все… Ни души живой вокругъ… Съ той поры, какъ умерла мать, — отецъ всѣхъ разогналъ. Иные уѣхали учиться… Липа уѣхала. Она пишетъ: читай. Ахъ, я читаю! Я читаю! — съ отчаяніемъ въ голосѣ воскликнула она, и помолчавъ секунду, тоскливо продолжала:
— Въ книжкахъ нѣтъ того, что нужно сердцу… и я не понимаю многаго въ нихъ.. Наконецъ, мнѣ скучно… скучно мнѣ читать всегда одной, одной! Я говорить хочу съ человѣкомъ, а человѣка нѣтъ! Мнѣ тошно… живешь одинъ разъ, и уже пора жить… а человѣка все нѣтъ… нѣтъ! Для чего жить? Липа говоритъ: читай, поймешь… Я хлѣба хочу, а она камень даетъ… Я понимаю, что нужно — нужно отстаивать то, что любишь, во что вѣришь… нужно бороться…
И почти со стономъ она закончила:
— Но вѣдь я одна! Съ кѣмъ бороться? Нѣтъ враговъ… нѣтъ людей! Вѣдь я въ тюрьмѣ живу!
Ѳома слушалъ ея рѣчь, пристально разсматривая пальцы на рукѣ, чувствовалъ большое горе въ ея словахъ, но не понималъ ея. И когда она замолчала, подавленная и печальная, онъ не нашелъ, что сказать ей, кромѣ словъ, близкихъ къ упреку:
— Вотъ, ты сама говоришь, что книжки ничего не стоятъ для тебя, а меня учишь: читай…
Она взглянула въ лицо ему, и въ ея глазахъ вспыхнула злоба.
— О, какъ бы я хотѣла, чтобъ въ тебѣ проснулись всѣ эти муки… которыми я живу… Чтобъ и ты, какъ я, не спалъ ночей отъ думъ, чтобъ и тебѣ все опротивѣло… и самъ ты себѣ опротивѣлъ! Ненавижу я всѣхъ васъ… ненавижу!
Она, вся красная, такъ гнѣвно смотрѣла на него и говорила такъ зло, что онъ, удивленный, даже не обидѣлся на нее. Никогда еще она не говорила съ нимъ такъ.
— Что это ты? — спросилъ онъ ее.
— И тебя я ненавижу! Ты… что ты? Мертвый, пустой… какъ ты будешь жить? Что ты дашь людямъ? — вполголоса и какъ-то злорадно говорила она.
— Ничего не дамъ, пускай сами добиваются… — отвѣтилъ Ѳома, зная, что этими словами онъ еще больше разсердитъ ее.
— Несчастный ты! — презрительно воскликнула дѣвушка.
Увѣренность и сила ея упрековъ невольно заставляли Ѳому внимательно слушать ея злыя рѣчи; онъ чувствовалъ въ нихъ смыслъ. Онъ даже подвинулся ближе къ ней, но она, негодующая и гнѣвная, отвернулась отъ него и замолчала.
На улицѣ еще было свѣтло, и на вѣтвяхъ липъ предъ окнами еще лежалъ отблескъ заката, но комната уже наполнилась сумракомъ, и облеченные имъ буфетъ, часы и горка какъ будто увеличились въ объемѣ. Огромный маятникъ каждую секунду выглядывалъ изъ-за стекла футляра часовъ и, тускло блеснувъ, съ глухимъ, усталымъ звукомъ прятался то вправо, то влѣво. Ѳома посмотрѣлъ на маятникъ, и ему стало скучно и неловко.
Люба встала и зажгла лампу, висѣвшую надъ столомъ. Лицо дѣвушки было блѣдно и сурово.
— Накинулась ты на меня, — сдержанно заговорилъ Ѳома, — чего ради? Непонятно…
— Не хочу я съ тобой говорить! — сердито отвѣтила Люба.
— Дѣло твое… Но все-таки… чѣмъ же я провинился?
— Ты?
— Я…
— Пойми, душно мнѣ! Тѣсно мнѣ… Вѣдь развѣ это жизнь? Развѣ такъ живутъ? Кто я? Приживалка у отца… держатъ меня для хозяйства… потомъ замужъ! опять хозяйство… Это трясина… я тону, задыхаюсь…
— А я тутъ при чемъ? — спросилъ Ѳома.
— Ты — не лучше другихъ…
— И зато виноватъ предъ тобой?
— Виноватъ! Ты долженъ желать… быть лучше…
— Да развѣ я этого не желаю!? — воскликнулъ Ѳома.
Дѣвушка хотѣла что-то сказать ему, но въ это время гдѣ-то задребезжалъ звонокъ, и она, откинувшись на спинку стула, вполголоса сказала:
— Отецъ…
— Ну, хоть и подождалъ бы онъ, такъ не огорчилъ, — сказалъ Ѳома. — Хотѣлось мнѣ еще тебя послушать… больно ужъ ты любопытно…
— А! Дѣтишки мои, сизы голуби! — воскликнулъ Яковъ Тарасовичъ, являясь въ дверяхъ. — Чаекъ пьете? Налей-ка мнѣ, Любава!
Сладко улыбаясь и потирая руки, онъ сѣлъ рядомъ съ Ѳомой и, игриво толкнувъ его въ бокъ, спросилъ:
— О чемъ больше ворковали?
— Такъ… о пустякахъ разныхъ, — отвѣтила Люба.
— Да развѣ я тебя спрашиваю? — искрививъ лицо, сказалъ ей отецъ. — Ты себѣ сиди, помалкивай у своего бабьяго дѣла…
— Про обѣдъ разсказывалъ я ей, — перебилъ Ѳома рѣчь крестнаго…
— Ага! Та-акъ… Ну, и я буду говорить про обѣдъ… Наблюдалъ я за тобой давеча… неразумно ты держишь себя!
— То-есть какъ? — спросилъ Ѳома, недовольно хмуря брови.
— То-есть такъ-таки просто неразумно, да и все тутъ. Говоритъ, напримѣръ, съ тобою губернаторъ, а ты молчишь…
— Что же я ему скажу? Онъ говорить, что потерять отца — несчастье… ну, я знаю это… А что же ему сказать?
— Такъ какъ оно мнѣ отъ Господа послано, то я, ваше превосходительство, не ропщу… Такъ бы сказалъ, или что другое въ этомъ духѣ… Губернаторы, братецъ ты мой, смиреніе въ человѣкѣ очень любятъ.
— Что же мнѣ овцой на него глядѣть? — усмѣхнулся Ѳома.
— Овцой ты глядѣлъ, — этого не надо… А надо ни овцой, ни волкомъ, а такъ этакъ — разыграть предъ нимъ: вы наши папаши, мы ваши дѣтишки… онъ сейчасъ и обмякнетъ.
— Это зачѣмъ же?
— А на всякій случай… Губернаторъ, онъ, братъ, всегда куда-нибудь годится.
— Чему вы его учите, папаша! — тихо и негодующе сказала Люба.
— А чему?
— Лакейничать…
— Врешь, ученая дура! Политикѣ я учу, а не лакейству, политикѣ жизни… Ты вотъ что — ты удались! Отыди отъ зла… и сотвори намъ закуску. Съ Богомъ!
Люба быстро встала и, бросивъ полотенце изъ рукъ на спинку стула, ушла… Отецъ, сощуривъ глаза, посмотрѣлъ ей вслѣдъ, побарабанилъ пальцами по столу и заговорилъ:
— Буду я тебя, Ѳома, учить. Самую настоящую, вѣрную науку и философію преподамъ я тебѣ… и ежели ты ее поймешь — будешь жить безъ ошибокъ.
Ѳома взглянулъ, какъ двигаются морщины на лбу старика, и онѣ ему показались похожими на строчки славянской печати.
— Прежде всего, Ѳома, ужъ ежели ты живешь на сей землѣ, то обязанъ надо всѣмъ происходящимъ вокругъ тебя думать. Зачѣмъ? А дабы отъ неразумія твоего не потерпѣть самому тебѣ, и не могъ ты повредить людямъ по глупости твоей. Теперь: у каждаго человѣческаго дѣла два лица, Ѳома. Одно на виду у всѣхъ — это фальшивое, другое спрятано — оно-то и есть настоящее. Его и нужно умѣть найти, дабы понять смыслъ дѣла… Вотъ, къ примѣру, дома ночлежные, трудолюбивые, богадѣльни и прочія такія учрежденія. Сообрази — на что они?
— Чего же соображать? — скучно сказалъ Ѳома. — Извѣстно всѣмъ, для чего… для бѣдныхъ, немощныхъ.
— Эхъ, братъ! Иногда всѣмъ бываетъ извѣстно, что такой-то человѣкъ мошенникъ и подлецъ, а все-таки всѣ его зовутъ Иваномъ иль Петромъ, и величаютъ по батюшкѣ, а не по матушкѣ…
— Это вы къ чему?
— А все къ дѣлу… Такъ вотъ, говоришь ты, что дома эти для бѣдныхъ, нищихъ стало быть — во исполненіе Христовой заповѣди… Ладно! А кто есть нищій? Нищій есть человѣкъ, вынужденный судьбой напоминать намъ о Христѣ, онъ братъ Христовъ, онъ колоколъ Господень и звонитъ въ жизни для того, чтобъ будить совѣсть нашу, тревожить сытость плоти человѣческой… Онъ стоитъ подъ окномъ и поетъ: „Христа ра-ади!“ и тѣмъ пѣніемъ напоминаетъ намъ о Христѣ, о святомъ Его завѣтѣ помогать ближнему… Но люди такъ жизнь свою устроили, что по Христову ученію совсѣмъ имъ невозможно поступать, и сталъ для насъ Іисусъ Христосъ совсѣмъ лишній. Не единожды, а, можетъ, сто тысячъ разъ отдавали мы Его на пропятіе, но все не можемъ изгнать Его изъ жизни, зане братія Его нищая поетъ на улицахъ Имя Его и напоминаетъ намъ о Немъ… И вотъ нынѣ придумали мы: запереть нищихъ въ дома такіе особые, и чтобъ не ходили они по улицамъ, не будили бы нашей совѣсти.
— Ло-овко! — изумленно прошепталъ Ѳома, во всѣ глаза глядя на крестнаго.
— Ага! — воскликнулъ Маякинъ, и глазки его сверкали торжествомъ.
— Какъ же это отецъ-то… не догадался? — безпокойно спросилъ Ѳома.
— Ты погоди! Ты еще послушай, дальше-то хуже будетъ. Вотъ придумали мы запирать ихъ въ дома разные и, чтобъ не дорого было содержать ихъ тамъ, работать заставили ихъ, старенькихъ да увѣчныхъ… И милостыню подавать не нужно теперь, и убравши съ улицъ нашихъ отрепышей разныхъ, не видимъ мы лютой ихъ скорби и бѣдности, а потому можемъ думать, что всѣ люди на землѣ сыты, обуты, одѣты… Вотъ они къ чему, дома эти разные, для скрытія правды они… для изгнанія Христа изъ жизни нашей! Ясно ли?
— Да-а! — сказалъ Ѳома, отуманенный ловкою рѣчью старика.
— И еще не все тутъ… еще не до дна лужа вычерпана! — воскликнулъ Маякинъ, одушевленно взмахивая рукой въ воздухѣ.
Морщины на лицѣ его играли; длинный, хищный носъ вздрагивалъ, и голосъ дребезжалъ нотами какого-то азарта и умиленія.
— Теперь поглядимъ на это дѣло съ другого бока. Кто больше всѣхъ въ пользу бѣдныхъ жертвуетъ на всѣ эти дома, пріюты, богадѣльни? Жертвуютъ богатые люди, купцы, купечество наше… Хорошо-съ! А кто жизнью командуетъ и устраиваетъ ее? Дворяне, чиновники и всякіе другіе не наши люди… Отъ нихъ и законы, и газеты, и науки — все отъ нихъ. Раньше они были помѣщиками, теперь земля изъ-подъ нихъ выдернута, — они на службу пошли… Ладно! Но кто по нынѣшнимъ днямъ самые сильные люди? Купецъ въ государствѣ первая сила, потому что съ нимъ — милліоны! Такъ ли?
— Такъ! — согласился Ѳома, желая скорѣе услышать то недоговоренное, что сверкало уже въ глазахъ крестнаго.
— Такъ вотъ ты и понимай, — раздѣльно и внушительно продолжалъ старикъ, — жизнь устраивали не мы, купцы, и въ устройствѣ ея и до сего дня голоса не имѣемъ, рукъ приложить къ ней не можемъ. Жизнь устроили другіе, они и развели въ ней паршь всякую, лѣнтяевъ этихъ, несчастненькихъ, убогенькихъ, а коли они ее развели, они жизнь засорили, они ее испортили — имъ, по-Божьи разсуждая, и чистить ее надлежитъ. Но чистимъ ее — мы, на бѣдныхъ жертвуемъ — мы, призираемъ ихъ — мы… Разсуди же ты, пожалуйста: зачѣмъ намъ на чужое рубище заплаты нашивать, ежели не мы его изодрали? Зачѣмъ намъ домъ чинить, ежели не мы въ немъ жили и не нашъ онъ есть? Не умнѣе ли это будетъ, ежели мы станемъ къ сторонкѣ и будемъ до поры до времени стоять да смотрѣть, какъ всякая гниль плодится и чужого намъ человѣка душитъ? Ему съ ней не сладить… средствъ у него нѣтъ. Онъ къ намъ и обратится… скажетъ: пожалуйста, господа, помогите! А мы ему: позвольте намъ простору для работы! Включите насъ въ строители оной самой жизни! И какъ только онъ насъ включитъ — тогда-то мы и должны будемъ единымъ махомъ очистить жизнь отъ всякой скверны и разныхъ лишковъ. Тогда Государь Императоръ воочію узритъ свѣтлыми очами, кто есть его вѣрные слуги, и сколько они въ бездѣйствіи рукъ ума въ себѣ накопили… Понялъ?
— Какъ же не понять! — воскликнулъ Ѳома.
Когда крестный говорилъ о чиновникахъ, онъ вспомнилъ о лицахъ, бывшихъ на обѣдѣ, вспомнилъ бойкаго секретаря, и въ головѣ его мелькнула мысль о томъ, что этотъ кругленькій человѣчекъ навѣрно имѣетъ не больше тысячи рублей въ годъ, а у него, Ѳомы, — милліонъ. Но этотъ человѣкъ живетъ такъ легко и свободно, а онъ, Ѳома, не умѣетъ, конфузится жить. Это сопоставленіе и рѣчь крестнаго возбудили въ немъ цѣлый вихрь мыслей, но онъ успѣлъ схватить и оформить лишь одну изъ нихъ.
— Въ самомъ дѣлѣ — для денегъ что ли однѣхъ работаешь? Что въ нихъ толку, если онѣ власти не даютъ.
— Ага! — прищуривъ глазъ, сказалъ Маякинъ.
— Эхъ! — обиженно воскликнулъ Ѳома, — какъ же это отецъ-то? Говорили вы съ нимъ?
— Двадцать лѣтъ говорилъ…
— Ну, и что онъ?
— Не доходила до него моя рѣчь… темячко у него толстовато было, у покойнаго… Душу онъ держалъ нараспашку, а умъ у него глубоко сидѣлъ… Н-да, сдѣлалъ онъ промашку… и денегъ этихъ весьма и очень жаль…
— Денегъ мнѣ не жаль…
— Ты бы попробовалъ нажить хоть десятую изъ нихъ, да тогда и говорилъ…
— Я могу войти? — раздался за дверью голосъ Любы.
— Можешь… хоть впрыгни… — отвѣтилъ ей отецъ.
— Вы сейчасъ закусывать станете? — спросила она, входя.
— Давай…
Она подошла къ буфету и загремѣла посудой. Яковъ Тарасовичъ посмотрѣлъ на нее, пожевалъ губами и вдругъ, хлопнувъ Ѳому ладонью по колѣну, сказалъ ему:
— Такъ-то, крестникъ! Вникай…
Ѳома отвѣтилъ ему улыбкой и подумалъ про себя:
„А уменъ… умнѣе отца-то…“
И тотчасъ же самъ себѣ, но какъ бы другимъ голосомъ отвѣтилъ:
„Умнѣе, но хуже…“
Ѵ.
Двойственное отношеніе къ Маякину отъ времени все укрѣплялось у Ѳомы: слушая его рѣчи внимательно и съ жаднымъ любопытствомъ, онъ чувствовалъ, что каждая встрѣча съ крестнымъ увеличиваетъ въ немъ непріязненное чувство къ старику. Порой Яковъ Тарасовичъ возбуждалъ у крестника чувство близкое къ страху, порой даже физическое отвращеніе. Послѣднее обыкновенно являлось у Ѳомы тогда, когда старикъ былъ чѣмъ-нибудь доволенъ и смѣялся. Отъ смѣха морщины старика дрожали, каждую секунду измѣняя выраженіе лица; сухія и тонкія губы его прыгали, растягивались и обнажали черные обломки зубовъ, а рыжая бородка точно въ огнѣ пылала. Звукъ смѣха былъ похожъ на визгъ ржавыхъ петель, а самъ старикъ — на играющую ящерицу. Не умѣя скрывать своихъ чувствъ, Ѳома часто и очень грубо высказывалъ ихъ Маякину словами и жестами, но старикъ какъ бы не замѣчалъ этого и, не спуская глазъ съ крестника, руководилъ каждымъ его шагомъ. Онъ почти и не ходилъ въ свою лавочку, всецѣло погрузись въ пароходныя дѣла молодого Гордѣева и оставляя Ѳомѣ много свободнаго времени. Благодаря значенію Маякина въ городѣ и широкимъ знакомствамъ на Волгѣ, дѣло шло блестяще, но ревностное отношеніе Маякина къ дѣлу усиливало увѣренность Ѳомы въ томъ, что крестный твердо рѣшилъ женить его на Любѣ, и это еще болѣе отталкивало его отъ старика.
Люба и нравилась ему, и казалась подозрительной и опасной для него. Она не выходила замужъ, и крестный ничего не говорилъ объ этомъ, не устраивалъ вечеровъ, никого изъ молодежи не приглашалъ къ себѣ и Любу не пускалъ никуда. А всѣ ея подруги уже были замужемъ… Ѳома удивлялся ея рѣчамъ и слушалъ ихъ такъ же жадно, какъ и рѣчи ея отца; но когда она начинала съ любовью и тоской говорить о Тарасѣ, ему казалось, что подъ именемъ этимъ она скрываетъ иного человѣка, быть можетъ, того же Ежова, который, по ея словамъ, долженъ былъ почему-то оставить университетъ и уѣхать изъ Москвы. Въ ней много было простого и добраго, что нравилось Ѳомѣ, и часто она рѣчами своими возбуждала у него жалость къ себѣ: ему казалось, что она не живетъ, а бредитъ наяву.
Его выходка на поминкахъ по отцѣ распространилась среди купечества и создала ему нелестную репутацію. Бывая на биржѣ, онъ замѣчалъ, что всѣ на него поглядываютъ насмѣшливо, недоброжелательно и говорятъ съ нимъ какъ-то особенно. Разъ даже онъ услыхалъ за спиной у себя негромкій, но презрительный возгласъ:
— Гордіонишко! Молокососъ…
Онъ почувствовалъ, что это про него сказано, но не обернулся и не посмотрѣлъ, кто бросилъ въ него этими словами. Богатые люди, сначала возбуждавшіе въ немъ робость предъ ними, утрачивали въ его глазахъ обаяніе своего богатства и ума. Не разъ они уже вырывали изъ рукъ его ту или другую выгодную поставку; онъ ясно видѣлъ, что они и впредь это сдѣлаютъ, и всѣ они казались ему одинаково алчными до денегъ, всегда готовыми надуть другъ друга. Когда онъ сообщилъ крестному свое наблюденіе, старикъ сказалъ:
— А какъ же? Торговля — все равно, что война… азартное дѣло. Тутъ бьются за суму, а въ сумѣ душа…
— Не нравится это мнѣ, — заявилъ Ѳома.
— И мнѣ не все нравится… фальши много. Но напрямки ходить въ торговомъ дѣлѣ совсѣмъ нельзя, тутъ нужна политика! Тутъ, братъ, подходя къ человѣку, держи въ лѣвой рукѣ медъ, а въ правой — ножъ. Всякій человѣкъ желаетъ на грошъ пятаковъ купить.
— Ну ужъ… не очень хорошо это, — задумчиво сказалъ Ѳома.
— Хорошо дальше будетъ… Когда верхъ возьмешь, тогда и хорошо… Жизнь, братъ Ѳома, очень просто поставлена: или всѣхъ грызи, иль лежи въ грязи…
Старикъ улыбался, и обломки зубовъ во рту его вызвали у Ѳомы острую мысль: „Многихъ, видно, ты загрызъ“…
— Одно слово — война! — повторилъ старикъ.
— Самое настоящее тутъ и есть? — спросилъ Ѳома, пытливо глядя на Маякина.
— То-есть, какъ это — настоящее?
— Лучше-то ничего нѣтъ? Тутъ — все?
— Гдѣ же кромѣ? Всякій для себя живетъ. Всякій себѣ лучшаго желаетъ… А что оно лучшее? Впередъ людей уйти, выше ихъ стать. Вотъ всѣ и стараются достичь перваго мѣста въ жизни… иной такъ, иной этакъ… но всѣ обязательно хотятъ, чтобъ ихъ, какъ колокольни, издали было видать. Къ этому человѣкъ и назначенъ, къ возвышенію… Даже въ книгѣ Іова это выражено: „человѣкъ рождается на страданіе, какъ искры, чтобы устремляться вверхъ“. Ты посмотри: ребятишки въ играхъ и то другъ друга всегда превзойти хотятъ. И всякая игра всегда свой высокій пунктъ имѣетъ, чѣмъ она и занятна… Понялъ?
— Это я понимаю! — бодро и увѣренно сказалъ Ѳома.
— Это надо и чувствовать… Съ однимъ понятіемъ никуда не допрыгаешь, и ты еще пожелай, такъ пожелай, чтобы гора тебѣ — кочка, море тебѣ — лужа. Эхъ! я, бывало, въ твои годы играючи жилъ! А ты все еще нацѣливаешься… Впрочемъ, хорошій плодъ не скоро спѣетъ…
Однообразныя рѣчи старика скоро достигли того, на что были разсчитаны: Ѳома вслушался въ нихъ и уяснилъ себѣ цѣль жизни. Нужно быть лучше другихъ, — затвердилъ онъ, и возбужденное старикомъ честолюбіе глубоко въѣлось въ его сердце… Въѣлось, но не заполнило его, ибо отношенія Ѳомы къ Медынской приняли тотъ характеръ, который роковымъ образомъ должны были принять. Его тянуло къ ней, ему всегда хотѣлось видѣть ее, а при ней онъ робѣлъ, становился неуклюжимъ, глупымъ, зналъ это и страдалъ отъ этого. Онъ часто бывалъ у нея, но ее трудно было застать дома одну: около нея всегда, какъ мухи надъ кускомъ сахара, кружились раздушенные щеголи. Они говорили съ ней по-французски, пѣли, хохотали, а онъ молчалъ и смотрѣлъ на нихъ, полный злобы и зависти. Поджавъ ноги, онъ сидѣлъ гдѣ-нибудь въ уголкѣ ея пестро убранной гостиной, — по которой ужасно трудно было ходить, ничего не задѣвая и не опрокидывая, — сидѣлъ и угрюмо наблюдалъ.
Предъ нимъ по мягкимъ коврамъ безшумно мелькала она, кидая ему ласковые взгляды и улыбки, за ней увивались ея поклонники, и всѣ они такъ ловко, точно змѣи, обходили разнообразные столики, стулья, экраны, подставки для цвѣтовъ — цѣлый магазинъ красивыхъ и хрупкихъ вещей, разбросанныхъ по комнатѣ съ небрежностью, одинаково опасной и для нихъ, и для Ѳомы. Когда онъ шелъ, коверъ не заглушалъ его шаговъ, и всѣ эти вещи цѣплялись за его сюртукъ, тряслись, падали. Былъ тамъ около рояля бронзовый матросъ, размахнувшійся, чтобъ кинуть спасательный кругъ, на кругѣ висѣли веревки изъ проволоки, и онѣ постоянно дергали Ѳому за волосы. Все это возбуждало смѣхъ у Софьи Павловны и ея поклонниковъ, но очень дорого стоило Ѳомѣ, бросая его то въ жаръ, то въ холодъ.
Но ему было не легче и наединѣ съ ней. Встрѣчая его ласковой улыбкой, она усаживалась съ нимъ въ одномъ изъ уютныхъ уголковъ гостиной и обыкновенно начинала разговоръ съ того, что жаловалась ему на всѣхъ:
— Вы не повѣрите, какъ я рада видѣть васъ!
Изгибаясь, какъ кошка, она заглядывала ему въ глаза своимъ темнымъ взглядомъ, въ которомъ теперь вспыхивало что-то жадное.
— Я такъ люблю говорить съ вами, — музыкально растягивая слова, пѣла она. — Всѣ эти мнѣ надоѣли… такіе они скучные, ординарные, изношенные. А вы вотъ — свѣжій, искренній. Вѣдь вы ихъ тоже не любите?
— Терпѣть не могу! — твердо отвѣтилъ Ѳома.
— А меня? — тихонько спрашивала она.
Ѳома отводилъ глаза въ сторону и, вздыхая, говорилъ:
— Который разъ вы это спрашиваете…
— Вамъ трудно сказать?
— Не трудно… да зачѣмъ?
— Мнѣ нужно знать это…
— Играете вы со мной… — угрюмо говорилъ Ѳома.
А она широко открывала глаза и тономъ глубокаго изумленія спрашивала:
— Какъ играю? Что значитъ играть?
И лицо у нея было такое ангельское, что онъ не могъ не вѣрить ей.
— Люблю я васъ… люблю! Развѣ это можно — не любить васъ? — горячо говорилъ онъ, и тотчасъ же пониженнымъ голосомъ съ грустью добавлялъ: — Да вѣдь вамъ это не нужно!…
— Вотъ вы и сказали! — удовлетворенно вздыхала Медынская и отодвигалась отъ него подальше. — Мнѣ всегда страшно пріятно слушать, какъ вы это говорите… молодо, цѣльно… Хотите поцѣловать мнѣ руку?
Онъ молча схватывалъ ея бѣлую, тонкую ручку и, осторожно склонясь къ ней, горячо и долго цѣловалъ ее. Она вырывала руку, улыбающаяся, граціозная, но ничуть не взволнованная его горячностью. Задумчиво, съ этимъ всегда смущавшимъ Ѳому блескомъ въ глазахъ, она разсматривала его, какъ что-то рѣдкое и крайне любопытное, и говорила:
— Сколько у васъ здоровья, силъ, душевной свѣжести… Вы знаете — вѣдь вы, купцы, еще совершенно не жившее племя, цѣлое племя съ оригинальными традиціями, съ огромной энергіей души и тѣла… Вотъ вы, напримѣръ; вѣдь вы драгоцѣнный камень, и если васъ отшлифовать… о!
Когда она говорила: у васъ, по-вашему, по-купечески, — Ѳомѣ казалось, что этими словами она какъ бы отталкиваетъ его отъ себя. Это было и грустно и обидно. Онъ молчалъ, глядя на ея маленькую фигурку, всегда какъ-то особенно красиво одѣтую, всегда благоухающую, какъ цвѣтокъ, и дѣвически-нѣжную. Порой въ немъ вспыхивало дикое и грубое желаніе схватить ее и цѣловать. Но ея красота и эта хрупкость тонкаго и гибкаго тѣла ея возбуждали въ немъ страхъ изломать, изувѣчить ее, а спокойный, ласковый голосъ и ясный, но какъ бы подстерегающій взглядъ охлаждалъ его порывы; ему казалось, что она смотритъ прямо въ душу его и понимаетъ всѣ думы… Но эти взрывы чувства были рѣдки, вообще же юноша относился къ Медынской съ обожаніемъ, удивляясь всему въ ней — ея красотѣ, рѣчамъ, ея одеждѣ. И рядомъ съ этимъ обожаніемъ въ немъ всегда жило мучительно-острое сознаніе его отдаленности отъ нея, ея превосходства надъ нимъ.
Такія отношенія установились у нихъ быстро; въ двѣ, три встрѣчи Медынская вполнѣ овладѣла юношей и начала медленно пытать его. Ей, должно быть, нравилась власть надъ здоровымъ, сильнымъ парнемъ, нравилось будить и укрощать въ немъ звѣря только голосомъ и взглядомъ, и она наслаждалась игрой съ нимъ, увѣренная въ силѣ своей власти. Онъ уходилъ отъ нея полубольной отъ возбужденія и уносилъ съ собой обиду на нее и злобу на себя, много тяжелыхъ и опьянявшихъ его чувствъ. А черезъ два дня снова являлся для пытки.
Однажды онъ робко спросилъ ее:
— Софья Павловна!… Были у васъ дѣти?
— Нѣтъ…
— Я такъ и зналъ! — съ радостью вскричалъ Ѳома.
Она взглянула на него глазами совсѣмъ маленькой и наивной дѣвочки и сказала:
— Почему же вы это знали? И зачѣмъ вамъ знать, были ли у меня дѣти?
Ѳома покраснѣлъ, наклонилъ голову и началъ говорить ей глухо и такъ, точно выталкивалъ слова изъ-подъ земли, и каждое слово вѣсило нѣсколько пудовъ.
— Видите… ежели женщина, которая… то-есть родила, то у нея глаза… совсѣмъ не такіе…
— Да-а? Какіе же?
— Безстыжіе! — бухнулъ Ѳома.
Медынская разсмѣялась своимъ серебристымъ смѣхомъ, и Ѳома, глядя на нее, разсмѣялся.
— Вы простите! — сказалъ онъ наконецъ. — Я, можетъ, не хорошо… неприлично сказалъ…
— О, нѣтъ, нѣтъ! Вы не можете сказать ничего неприличнаго… вы чистый, милый мальчикъ. Итакъ, у меня глаза не безстыжіе?
— У васъ… какъ у ангела! — восторженно объявилъ Ѳома, глядя на нее сіяющимъ взглядомъ.
А она взглянула на него такъ, какъ не смотрѣла еще до этой поры, — взглядомъ женщины-матери, грустнымъ взглядомъ любви, смѣшанной съ опасеніемъ за любимаго.
— Идите, голубчикъ… Я устала и хочу отдохнуть… — сказала она ему, вставая и не глядя на него.
Онъ покорно ушелъ.
Нѣкоторое время послѣ этого случая она держалась съ нимъ болѣе строго и честно, точно жалѣя его, но потомъ отношенія приняли старую форму игры кошки съ мышью.
Отношенія Ѳомы къ Медынской не могли укрыться отъ его крестнаго, и однажды старикъ, скорчивъ ехидную рожу, спросилъ его:
— Ѳома! Ты почаще голову щупай, чтобъ не потерять тебѣ ее случаемъ.
— Это вы насчетъ чего? — спросилъ Ѳома.
— А насчетъ Соньки… больно ужъ часто ты къ ней ходишь.
— Что вамъ? — грубовато сказалъ Ѳома. — И какая она для васъ Сонька?
— Мнѣ ничего… меня не убудетъ отъ того, что тебя обгложутъ. А что ее Сонькой зовутъ — это всѣмъ извѣстно… И что она любитъ чужими руками жаръ загребать — тоже всѣ знаютъ.
— Она умная! — твердо объявилъ Ѳома, хмурясь и пряча руки въ карманы. — Образованная…
— Умная, это вѣрно! Вотъ прошлый разъ вечеръ-то какъ оборудовала умно: сбору двѣ тысячи четыреста, расходу — тысяча девятьсотъ… А расходу и тысячи не должно быть… потому всѣ и все даромъ ей дѣлаютъ… Образованная… Она тебя образуетъ… Особенно шалопаи, которые вокругъ нея…
— Не шалопаи, а… тоже умные люди! — злобно возразилъ Ѳома, уже самъ себѣ противорѣча. — И я отъ нихъ учусь… Я что? Ни въ дудку, ни поплясать… Чему меня учили? А тамъ обо всемъ говорятъ… и всякій свое слово имѣетъ. Вы мнѣ на человѣка похожимъ быть не мѣшайте.
— Фу-у! Ка-акъ ты говорить научился! То-есть, какъ градъ по крышѣ… сердито! Ну, ладно… будь похожъ на человѣка… только для этого безопаснѣе въ трактиръ ходить; тамъ человѣки все же лучше Софьиныхъ… А ты бы, парень, все-таки учился бы людей-то разбирать, который къ чему… Напримѣръ — Софья… Что она изображаетъ? Насѣкомая для украшенія природы и больше — ничего!
Возмущенный до глубины души, Ѳома стиснулъ зубы и ушелъ отъ Маякина, еще глубже засунувъ руки въ карманы. Но старикъ вскорѣ снова заговорилъ о Медынской.
Они возвращались изъ затона послѣ осмотра пароходовъ и, сидя въ огромномъ и покойномъ возкѣ, дружелюбно и оживленно разговаривали о дѣлахъ. Это было въ мартѣ: подъ полозьями саней всхлипывала вода, снѣгъ былъ уже покрытъ грязноватымъ налетомъ, а солнце сіяло въ ясномъ небѣ весело и тепло.
— Пріѣдешь, къ барынѣ своей первымъ дѣломъ пойдешь? — неожиданно спросилъ Маякинъ, прервавъ дѣловой разговоръ.
— Схожу, — кратко и недовольно отвѣтилъ Ѳома.
— Мм… Что, скажи, часто подарки дѣлаешь ты ей? — просто и какъ-то задушевно спросилъ Маякинъ.
— Какіе подарки? Зачѣмъ? — удивился Ѳома.
— Не даришь? Ишь ты.. Неужто она просто такъ, по любви живетъ съ тобой?
Ѳома вспыхнулъ отъ гнѣва и стыда, круто повернулся къ старику и укоризненно сказалъ:
— Эхъ! Старый вѣдь вы человѣкъ, а говорите — стыдно слушать! Ну ужъ!… Да развѣ она на… этакое пойдетъ?!
Маякинъ чмокнулъ губами и унылымъ голосомъ пропѣлъ:
— Какой ты ду-убина! Какой ду-урачина, — и, внезапно озлившись, плюнулъ. — Тьфу тебѣ! Всякій скотъ пилъ изъ кринки, остались подонки, а дуракъ изъ грязнаго горшка сдѣлалъ себѣ божка… Чо-ортъ! Ты иди къ ней и прямо говори: желаю быть вашимъ любовникомъ… человѣкъ я молодой, дорого не берите.
— Крестный! — угрюмо и грозно сказалъ Ѳома. — Я этого слушать не могу… Ежели бы кто другой…
— Да кто кромѣ меня остережетъ тебя? А ба-а-тюшки! — завопилъ Маякинъ, всплескивая руками. — Это она тебя всю зиму за носъ и водила? Ну но-осъ! Ахъ она стервоза!
Старикъ былъ возмущенъ; въ голосѣ его звучали досада, злоба, даже слезы. Ѳома никогда еще не видалъ его такимъ, и невольно молчалъ, глядя на него.
— Вѣдь она испортитъ тебя! Ахъ, Господи… Ахъ блудница вавилонская!…
Глаза Маякина учащенно мигали, губы вздрагивали, и грубыми, циничными словами онъ началъ говорить о Медынской, азартно, съ злобнымъ визгомъ.
Ѳома чувствовалъ, что старикъ говоритъ правду. Ему стало тяжело дышать, и во рту онъ ощутилъ сухость и горечь.
— Ладно, папаша, будетъ… — тихо и тоскливо попросилъ онъ, отвертываясь въ сторону отъ Маякина.
— Эхъ, надо тебѣ скорѣе жениться! — тревожно вскричалъ старикъ.
— Христа ради, не говорите… — глухо молвилъ Ѳома.
Маякинъ взглянулъ на крестника и умолкъ. Лицо Ѳомы какъ бы вытянулось, поблѣднѣло, и было много тяжелаго и горькаго изумленія въ его полуоткрытыхъ губахъ и въ тоскующемъ взглядѣ… Справа и слѣва отъ дороги лежало поле, покрытое клочьями зимнихъ одеждъ. По чернымъ проталинамъ хлопотливо прыгали грачи. Подъ полозьями всхлипывала вода, грязный снѣгъ вылеталъ изъ-подъ ногъ лошадей…
— Ну и глупъ же человѣкъ въ своей юности! — негромко воскликнулъ Маякинъ. Ѳома не взглянулъ на него. — Стоитъ передъ нимъ пень отъ дерева, а онъ видитъ — морда звѣрева… самъ себя этакъ-то и стращаетъ… о-хо-хо!
— Говорите прямыми словами, — угрюмо сказалъ Ѳома.
— Чего тутъ говорить? Дѣло ясное: дѣвки — сливки, бабы — молоко; бабы — близко, дѣвки далеко… стало быть, иди къ Сонькѣ, ежели безъ этого не можешь, — и говори ей прямо… такъ, молъ, и такъ… Дурашка! вѣдь ежели она — грѣшница, значитъ она тебѣ легче достанется… Чего жъ ты дуешься? Чего пыжишься?
— Не понимаете вы… — тихо сказалъ Ѳома.
— Чего я не понимаю? Я все понимаю!
— Сердца… сердце есть у человѣка… — вздохнулъ юноша.
Маякинъ прищурилъ глаза и изрекъ:
— Ума, значитъ, нѣтъ…
ѴІ.
Охваченный тоскливой и мстительной злобой пріѣхалъ Ѳома въ городъ. Въ немъ кипѣло страстное желаніе оскорбить Медынскую, надругаться надъ ней. Крѣпко стиснувъ зубы и засунувъ руки глубоко въ карманы, онъ нѣсколько часовъ кряду расхаживалъ по пустыннымъ комнатамъ своего дома, сурово хмурилъ брови и все выпячивалъ грудь впередъ. Сердцу его, полному обиды, было тѣсно въ груди. Онъ тяжело и мѣрно топалъ ногами по полу, какъ будто ковалъ свою злобу.
— Подлая… ангеломъ нарядилась! — Въ памяти его, какъ живая, вставала Пелагея, и онъ злорадно и съ горечью шепталъ:
— И потерянная, а лучше… Не притворялась… Сразу открывала и душу, и тѣло… У той, чай, и сердце такое же, какъ грудь — бѣлое да твердое…
Порой надежда робкимъ голосомъ подсказывала ему:
„Можетъ, все это наврано на нее“…
Но онъ вспоминалъ азартную увѣренность и силу рѣчей крестнаго, и эта мысль гибла. Онъ крѣпче стискивалъ зубы и еще болѣе выпячивалъ грудь впередъ. Злыя думы впились ему въ сердце, какъ занозы, и сердце ныло отъ нихъ острой болью…
Маякинъ, бросивъ въ грязь Медынскую, тѣмъ самымъ сдѣлалъ ее болѣе доступной для крестника, и скоро Ѳома понялъ это. Въ дѣловыхъ весеннихъ хлопотахъ прошло нѣсколько дней, и возмущенныя чувства Ѳомы затихли. Грусть о потерѣ человѣка притупила злобу на женщину, а мысль о доступности женщины усилила влеченіе къ ней. И какъ-то незамѣтно для себя онъ вдругъ и понялъ, и рѣшилъ, что ему слѣдуетъ пойти къ Софьѣ Павловнѣ и прямо, просто сказать ей, чего онъ хочетъ отъ нея — вотъ и все! Онъ даже какую-то радость ощутилъ при этомъ рѣшеніи, и пошелъ къ Медынской смѣло, думая по дорогѣ лишь о томъ, какъ бы получше, половчѣе сказать ей то, что нужно.
Прислуга Медынской привыкла къ его посѣщеніямъ, и на вопросъ его — дома ли барыня? — горничная сказала:
— Пожалуйте въ гостиную… онѣ однѣ тамъ.
Онъ оробѣлъ немножко… но увидавъ въ зеркалѣ свою статную фигуру, красиво обтянутую сюртукомъ, и смуглое свое лицо въ рамкѣ пушистой черной бородки, серьезное, съ большими темными глазами, — приподнялъ плечи и увѣренно пошелъ впередъ черезъ залъ…
А навстрѣчу ему тихо плыли звуки струнъ — странные такіе звуки: они точно смѣялись тихимъ, невеселымъ смѣхомъ и жаловались на что-то и нѣжно такъ трогали сердце, точно просили вниманія и не надѣялись, что получатъ его… Ѳома не любилъ слушать музыку — она всегда вызывала въ немъ грусть. Даже когда „машина“ въ трактирѣ начинала играть что-нибудь заунывное, онъ ощущалъ въ груди тоскливое томленіе и порой просилъ остановить „машину“ или уходилъ отъ нея подальше, чувствуя, что не можетъ спокойно слушать этихъ рѣчей безъ словъ, но полныхъ слезъ и жалобъ. И теперь онъ невольно остановился у дверей въ гостиную.
Дверь была завѣшена длинными нитями разноцвѣтнаго бисера, нанизаннаго такъ, что онъ образовалъ причудливый узоръ изъ какихъ-то растеній; нити тихо колебались, и казалось, что въ воздухѣ летаютъ блѣдныя тѣни цвѣтовъ. Эта прозрачная преграда не скрывала отъ глазъ Ѳомы внутренности гостиной. Медынская, сидя на кушеткѣ въ своемъ любимомъ уголкѣ, играла на мандолинѣ. Большой японскій зонтъ, прикрѣпленный къ стѣнѣ, осѣнялъ пестротой своихъ красокъ маленькую женщину въ темномъ платьѣ; высокая бронзовая лампа подъ краснымъ абажуромъ обливала ее свѣтомъ вечерней зари. Нѣжные звуки тонкихъ струнъ печально дрожали въ тѣсной комнатѣ, полной мягкаго и душистаго сумрака. Вотъ женщина опустила мандолину на колѣни себѣ и, продолжая перебирать пальцами по струнамъ, стала пристально всматриваться во что-то впереди себя. Ѳома вздохнулъ…
Тихій звонъ музыки носился вокругъ Медынской, и лицо ея все измѣнялось, точно откуда-то на него падали тѣни, падали и таяли отъ блеска ея глазъ.
Ѳома смотрѣлъ на нее и видѣлъ, что наединѣ сама съ собой она не была такой красивой, какъ при людяхъ, — теперь ея лицо серьезнѣе и старѣй, — въ глазахъ нѣтъ выраженія ласки и кротости, смотрятъ они скучно и устало. И поза ея была усталой, какъ будто женщина хотѣла подняться и — не могла. Ѳома замѣтилъ, что то, съ чѣмъ онъ пришелъ къ ней, смѣняется въ сердцѣ его какимъ-то другимъ чувствомъ. Онъ шаркнулъ ногой по полу и кашлянулъ…
— Кто это? — тревожно вздрогнувъ, спросила женщина. И струны вздрогнули, издавъ тревожный звукъ.
— Это я, — сказалъ Ѳома, откидывая рукой нити бисера.
— А! Но какъ вы тихо… Рада видѣть васъ… Садитесь!… Почему такъ давно не были?
Протягивая ему руку, она другой указывала на маленькое кресло около себя, и глаза ея улыбались радостно.
— Ѣздилъ въ затонъ, пароходы свои смотрѣть, — говорилъ Ѳома съ преувеличенной развязностью, подвигая кресло ближе къ кушеткѣ..
— Что̀, въ поляхъ еще много снѣга?
— Сколько вамъ угодно… Но ужъ здорово таетъ. По дорогамъ вода вездѣ…
Онъ смотрѣлъ на нее и улыбался. Должно быть, Медынская замѣтила развязность его поведенія и новое въ его улыбкѣ — она оправила платье и отодвинулась отъ него. Ихъ глаза встрѣтились — и Медынская опустила голову.
— Таетъ! — задумчиво сказала она, разглядывая кольцо на своемъ мизинцѣ.
— Н-да… ручьи вездѣ… — любуясь своими ботинками, сообщилъ Ѳома.
— Это хорошо… Весна придетъ…
— Ужъ теперь не задержитъ…
— Придетъ весна, — повторила Медынская негромко и какъ бы вслушивался въ звукъ словъ.
— Влюбляться станутъ люди, — усмѣхнувшись, сказалъ Ѳома и зачѣмъ-то крѣпко потеръ руки.
— Вы собираетесь? — сухо спросила Медынская.
— Мнѣ нечего… я давно готовъ… влюбленъ ужъ на всю жизнь…
И Ѳома подвинулся къ женщинѣ, широко и смущенно улыбаясь.
Она мелькомъ взглянула на него, и снова начала играть, глядя на струны и задумчиво говоря:
— Весна… Какъ это хорошо, что вы только еще начинаете жить… Сердце полно силы… и нѣтъ въ немъ ничего темнаго…
— Софья Павловна! — тихо воскликнулъ Ѳома.
Она ласковымъ жестомъ остановила его.
— Подождите, голубчикъ!… Сегодня я могу сказать вамъ… что-то хорошее… Знаете — у человѣка, много пожившаго, бываютъ минуты, когда онъ, заглянувъ въ свое сердце, неожиданно находитъ тамъ… нѣчто давно забытое… Оно лежало гдѣ-то глубоко на днѣ сердца годы, но не утратило благоуханія юности, и когда память дотронется до него… тогда на человѣка повѣетъ весной… живительной свѣжестью утра дней… Это хорошо… хотя очень грустно.
Струны подъ ея пальцами дрожали и плакали, а Ѳомѣ казалось, что звуки ихъ и тихій голосъ женщины ласково и нѣжно щекочутъ его сердце… Но, еще твердый въ своемъ рѣшеніи, онъ вслушивался въ ея слова и, не понимая ихъ содержанія, думалъ:
„Говори! Теперь ужъ не повѣрю никакимъ твоимъ рѣчамъ…“
Эта мысль раздражала его. И ему было жалко того, что онъ не можетъ слушать ея рѣчь такъ внимательно и довѣрчиво, какъ раньше бывало слушалъ…
— Вы думаете о томъ, какъ нужно жить? — спросила женщина.
— Иной разъ подумаешь… а потомъ опять забудешь. Некогда! — сказалъ Ѳома и усмѣхнулся. — Да и что думать? Извѣстно… видишь, какъ живутъ люди… ну, стало быть, и надо имъ подражать..
— Ахъ, не дѣлайте этого! Пожалѣйте себя… Вы такой… славный!… Есть въ васъ что-то особенное… что? Не знаю! Но это чувствуется… И мнѣ кажется, вамъ будетъ ужасно трудно жить… Я увѣрена, что вы не пойдете обычнымъ путемъ людей вашего круга… нѣтъ! Вамъ не можетъ быть пріятна жизнь, цѣликомъ посвященная наживѣ, погонѣ за рублемъ… торговлѣ этой… о, нѣтъ! Я знаю, вамъ захочется чего-то иного… да?
Она говорила быстро и съ тревогой въ глазахъ. Ѳома думалъ, глядя на нее:
„Къ чему это она клонитъ?“
И медленно отвѣтилъ ей:
— Можетъ, и захочется… ужъ и хочется, можетъ…
Подвинувшись къ нему, она заглядывала въ лицо его и убѣдительно говорила:
— Слушайте! Не живите какъ всѣ! Устройте себѣ жизнь какъ-нибудь иначе… Вы сильный, молодой… хорошій вы!…
— А коли хорошъ я, то и должно быть мнѣ хорошо! — воскликнулъ Ѳома, чувствуя, какъ имъ овладѣваетъ волненіе и сердце начинаетъ трепетно биться…
— Ахъ, такъ не бываетъ! И на землѣ всегда хорошимъ хуже, чѣмъ дурнымъ!… — съ грустью сказала Медынская.
И снова изъ-подъ пальцевъ ея запрыгали дрожащія нотки музыки. Ѳома почувствовалъ, что если онъ сейчасъ не начнетъ говорить то, что нужно, — позднѣе онъ ничего не скажетъ ей…
„Господи, благослови!“ — мысленно произнесъ онъ, и пониженнымъ голосомъ, съ напряженіемъ въ груди началъ:
— Софья Павловна! Будетъ ужъ!… Мнѣ надо говорить… Я пришелъ сказать вамъ вотъ что: будетъ! Надо поступать прямо… открыто… Привлекали вы меня къ себѣ сначала… а теперь вотъ отгораживаетесь отъ меня чѣмъ-то… Я не пойму, что вы говорите… у меня умъ глухой… но я вѣдь чувствую — спрятать себя вы хотите… я вѣдь вижу — понимаете вы, съ чѣмъ я пришелъ!
Его глаза разгорались, и съ каждымъ словомъ голосъ становился горячѣй и громче. Она качнулась всѣмъ корпусомъ впередъ и тревожно сказала:
— О, перестаньте…
— Нѣтъ ужъ — буду говорить!
— Я знаю, что вы хотите сказать…
— Не все вы знаете! — съ угрозой сказалъ Ѳома, вставая на ноги. — А вотъ я все знаю про васъ — все!
— Да? Тѣмъ лучше для меня… — спокойно проговорила Медынская.
Она тоже встала съ кушетки, какъ бы желая уйти куда-то, но, постоявъ секунды двѣ, снова опустилась на свое мѣсто. Лицо у нея было серьезное, губы плотно сжаты, но глаза она опустила, и Ѳома не видѣлъ ихъ выраженія. Онъ думалъ, что когда скажетъ ей: — Я все знаю про васъ! — она испугается, ей будетъ стыдно и, смущенная, она попроситъ у него прощенія за то, что играла съ нимъ. Тогда онъ крѣпко обниметъ ее и проститъ. Но этого не вышло; онъ самъ смутился предъ ея спокойствіемъ, смотрѣлъ на нее, искалъ словъ, чтобы продолжать свою рѣчь, и не находилъ ихъ.
— Тѣмъ лучше… — повторила она сухо и твердо. — Такъ вы узнали все, да? И, конечно, осудили меня… какъ и слѣдовало… Я понимаю… я виновата предъ вами… Но… нѣтъ, я не могу оправдываться…
Она замолчала и вдругъ, нервнымъ жестомъ поднявъ руки вверхъ, схватилась за голову… и стала оправлять волосы…
Ѳома глубоко вздохнулъ. Слова Медынской убили въ немъ какую-то надежду, — надежду, присутствіе которой въ сердцѣ своемъ онъ ощутилъ лишь теперь, когда она была убита. И съ горькимъ упрекомъ, покачивая головой, онъ сказалъ:
— Бывало, смотрѣлъ я на васъ и думалъ: экая она красивая… хорошая… голубка!… А вы вотъ сами говорите — виновата… эхма!
Голосъ парня оборвался. А женщина тихонько засмѣялась.
— Какой вы славный и смѣшной… И какъ жаль, что вы не… можете понять… все это!
Парень смотрѣлъ на нее, чувствуя себя обезоруженнымъ ея ласковыми словами и печальной улыбкой. То холодное и жесткое, что онъ имѣлъ въ груди противъ нея, — таяло въ немъ отъ теплаго блеска ея глазъ. Женщина казалась ему теперь маленькой, беззащитной, какъ дитя. Она говорила что-то ласковымъ голосомъ, точно упрашивала, и все улыбалась, но онъ не вслушивался въ ея слова.
— Пришелъ я къ вамъ, — заговорилъ онъ, перебивая ея рѣчь, — безъ жалости… — Думалъ — я ей скажу! А ничего не сказалъ… не хочется… Сердце упало… дышете вы на меня какъ-то… Эхъ, напрасно я увидалъ васъ! Что вы мнѣ? Уходить, видно, надо…
— Подождите, голубчикъ, не уходите! — торопливо сказала женщина, протягивая къ нему руку. — Зачѣмъ же такъ… сурово? Не сердитесь на меня! Что я вамъ? Вамъ нужна иная подруга, такая же простая, здоровая душою, какъ сами вы… Она должна быть веселая, бодрая… Я, я вѣдь уже старуха… Я вотъ тоскую все… такъ пусто и скучно живется мнѣ… такъ пусто! Знаете, — когда человѣкъ привыкнетъ жить весело, а радоваться не можетъ — плохо ему! Хочется ему жить радостно, хочется смѣяться… смѣется не онъ — жизнь смѣется надъ нимъ… А люди… Послушайте! Какъ мать, совѣтую вамъ, прошу и умоляю васъ — не слушайте никого, кромѣ вашего сердца! Живите такъ, какъ оно вамъ подскажетъ. Люди ничего не знаютъ, ничего не могутъ сказать вѣрнаго… не слушайте ихъ.
Стараясь говорить проще и понятнѣе, она волновалась, и слова ея рѣчи сыпались одно за другимъ торопливо, несвязно. На губахъ ея все время играла жалобная усмѣшка, и лицо ея было некрасиво.
— Жизнь очень строга… она хочетъ, чтобъ всѣ люди подчинялись ея требованіямъ, и только очень сильные могутъ безнаказанно сопротивляться ей… Да и могутъ ли? О, если бъ вы знали, какъ тяжело жить… Человѣкъ доходитъ до того, что начинаетъ бояться себя… онъ раздвояется на судью и преступника и судитъ самъ себя и ищетъ оправданія предъ собой… и онъ готовъ и день, и ночь быть съ тѣмъ, кого презираетъ, кто противенъ ему — лишь бы не быть наединѣ съ самимъ собой!
Ѳома поднялъ голову и сказалъ недовѣрчиво и съ удивленіемъ:
— Не пойму никакъ я — что такое? И Любовь то же говоритъ…
— Какая Любовь? Что говоритъ?
— Сестра… То же самое, — на жизнь все жалуется. Нельзя, говоритъ, жить…
— О, она еще молода! И большое счастье, что уже теперь она говоритъ объ этомъ…
— Сча-астье! — насмѣшливо протянулъ Ѳома. — Хорошо счастье, отъ котораго стонутъ да жалобятся…
— Вы слушайте жалобы… въ жалобахъ людей всегда много мудрости… о! въ нихъ мудрости больше, чѣмъ во всемъ другомъ… Вы ихъ слушайте, — это научитъ васъ найти свой путь…
Ѳома слушалъ убѣдительно звучавшій голосъ женщины и съ недоумѣніемъ въ душѣ оглядывался вокругъ. Все было давно знакомо ему, но сегодня все смотрѣло какъ-то ново: масса мелочей заполняла комнату, всѣ стѣны были покрыты картинами, полочками, красивыя и яркія вещицы отовсюду лѣзли въ глаза. Красноватый свѣтъ лампы наводилъ уныніе. Сумракъ лежалъ на всемъ, кое-гдѣ изъ него тускло блестѣло золото рамъ, бѣлыя пятна фарфора. Тяжелыя матеріи неподвижно висѣли на дверяхъ. Все это стѣсняло и давило Ѳому, и онъ чувствовалъ себя заплутавшимся. Ему жалко было женщину. Но она и раздражала его.
— Вы слышите, какъ я говорю съ вами? Я хотѣла бы быть вашей матерью, сестрой… Никогда никто не вызывалъ во мнѣ такого теплаго, родного чувства, какъ вы… А вы… смотрите на меня такъ… недружелюбно… Вѣрите вы мнѣ? да? нѣтъ?
Онъ посмотрѣлъ на нее и сказать, вздыхая:
— Ужъ не знаю… Вѣрилъ я…
— А теперь? — быстро спросила она.
— А теперь — уйти мнѣ лучше! Не понимаю я ничего… а хочется понять. И себя я не понимаю… Шелъ я къ вамъ и зналъ, что сказать… А вышла какая-то путаница… Натащили вы меня на рожонъ, раззадорили… А потомъ говорите — я тебѣ мать! Стало быть — отвяжись!
— Поймите — мнѣ жалко васъ! — тихо воскликнула женщина.
Раздраженіе противъ нея все росло у Ѳомы, и по мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, рѣчь его становилась насмѣшливой… И, говоря, онъ все встряхивалъ плечами, точно рвалъ что-то, опутавшее его.
— Жалко?… Зачѣмъ же?! Этого мнѣ не надо… Эхъ, говорить я не могу! Плохо мнѣ, безсловесному-то… Но — сказалъ бы я вамъ!… Не хорошо вы со мной сдѣлали — зачѣмъ, подумаешь, завлекали человѣка? Аль я вамъ игрушка?
— Мнѣ только хотѣлось видѣть васъ около себя… — сказала женщина просто и виноватымъ голосомъ.
Онъ не слышалъ этихъ словъ.
— А какъ дошло до дѣла, — испугались вы и отгородились отъ меня… Каяться стали… ха! Жизнь плохая! И что, вы все на жизнь какую-то жалуетесь? Какая жизнь? Человѣкъ — жизнь, и кромѣ человѣка никакой еще жизни нѣтъ… А вы еще какое-то чудовище выдумали… и это вы — для отвода глазъ, для оправданія себя… Набалуете, заплутаетесь въ разныхъ выдумкахъ да пустякахъ и — стонать! Ахъ, жизнь! Охъ, жизнь! А не сами вы ее дѣлали? И себя жалобами прикрывая — другихъ смущаете… Ну сбились вы съ дороги, а меня зачѣмъ сбивать? Злость, что ли, это въ васъ: дескать — мнѣ плохо, пусть и тебѣ будетъ плохо, — на же: я тебѣ сердце ядовитой слезой своей окроплю! Такъ что ли? Эхъ вы! Красоту вамъ Богъ далъ ангельскую, а сердце гдѣ у васъ?
Онъ вздрагивалъ весь, стоя противъ нея, и оглядывалъ ее съ ногъ до головы укоризненнымъ взглядомъ. Теперь слова выходили изъ груди у него свободно, говорилъ онъ не громко, но сильно, и ему было пріятно говорить. Женщина, поднявъ голову, всматривалась въ лицо ему широко открытыми глазами. Губы у нея вздрагивали и рѣзкія морщинки явились на углахъ ихъ.
— Красивый человѣкъ и жить хорошо долженъ… А про васъ вонъ говорятъ…
Голосъ Ѳомы оборвался, и, махнувъ рукой, онъ глухо закончилъ:
— Прощайте!
— Прощайте!… — тихонько сказала Медынская.
Онъ не подалъ ей руки и, круто повернувшись, пошелъ прочь отъ нея. Но уже у двери въ залъ почувствовалъ, что ему жалко ее, и посмотрѣлъ на нее черезъ плечо. Она стояла тамъ, въ углу, одна, и руки неподвижно лежали вдоль туловища, а голова была склонена.
Онъ понялъ, что нельзя ему такъ уйти, смутился и тихо, но безъ раскаянія проговорилъ:
— Можетъ, я обидное что сказалъ — простите! Все-таки я вѣдь… люблю васъ… — и тяжело вздохнулъ. А женщина тихонько и странно засмѣялась…
— Нѣтъ, вы не обидѣли меня… Идите съ Богомъ.
— Ну, такъ прощайте! — повторилъ Ѳома еще тише.
— Да… — также тихо отвѣтила женщина.
Ѳома отбросилъ рукой нити бисера; онѣ колыхнулись, зашуршали и коснулись его щеки. Онъ вздрогнулъ отъ этого холоднаго прикосновенія и ушелъ, унося въ груди смутное и тяжелое чувство, и сердце въ ней билось такъ, какъ будто на него накинута была мягкая, но крѣпкая сѣть…
Ужъ ночь была, свѣтила луна и морозъ покрылъ лужи пленками матоваго серебра. Ѳома шелъ по тротуару и разбивалъ своей тростью эти пленки, а онѣ грустно хрустѣли. Тѣни отъ домовъ лежали на дорогѣ черными квадратами, а отъ деревьевъ — причудливыми узорами. И нѣкоторыя изъ нихъ были похожи на тонкія руки, безпомощно хватавшіяся за землю…
„Что она теперь дѣлаетъ?“ — думалъ Ѳома, представляя себѣ женщину одинокую, въ углу тѣсной комнаты, среди красноватаго сумрака…
„Лучше мнѣ забыть про нее“… — рѣшилъ онъ. Но забыть нельзя было, и она стояла передъ нимъ, вызывая въ немъ то острую жалость, то раздраженіе и даже злобу. А образъ ея былъ такъ ярокъ, и думы о ней такъ тяжелы, точно онъ несъ эту женщину съ собой въ груди своей… Навстрѣчу ему ѣхала пролетка, наполняя тишину ночи дребезгомъ колесъ по камнямъ и скрипомъ ихъ по льду. Когда она въѣзжала въ полосу луннаго свѣта, шумъ ея движенія становился громче и живѣй, а въ тѣни онъ звучалъ тяжелѣе и глуше. Извозчикъ и сѣдокъ качались и подпрыгивали въ ней; оба они зачѣмъ-то нагнулись впередъ и вмѣстѣ съ лошадью составляли одну большую черную массу. Улица была испещрена пятнами свѣта и тѣней, но вдали мракъ былъ такъ густъ, точно стѣна загораживала улицу, возвышаясь отъ земли до неба. Ѳомѣ почему-то подумалось, что эти люди не знаютъ, куда ѣдутъ… И самъ онъ тоже не знаетъ, куда идетъ… Ему представился свой домъ — шесть большихъ комнатъ, среди которыхъ онъ жилъ одинъ. Тётка Анѳиса уѣхала въ монастырь и можетъ быть уже не воротится оттуда, умретъ… Дома — Иванъ, старый и глухой дворникъ, Секлетея — старая дѣва, кухарка и горничная, да черная лохматая собака, съ тупымъ, какъ у сома, рыломъ. И собака тоже старая…
„Пожалуй, и впрямь надо жениться“… — вздохнувъ, подумалъ Ѳома.
Но ему стало неловко и даже смѣшно при мысли о томъ, какъ легко ему жениться. Можно завтра же сказать крестному, чтобъ онъ сваталъ невѣсту, и — мѣсяца не пройдетъ, какъ уже въ домѣ вмѣстѣ съ нимъ будетъ жить женщина. И день и ночь будетъ около него. Скажетъ онъ ей: „Пойдемъ гулять!“ — и она пойдетъ…
Скажетъ: „Пойдемъ спать!“ — и тоже пойдетъ… Захочется ей цѣловать его — и она будетъ цѣловать, если бы онъ и не хотѣлъ этого. А сказать ей — не хочу, уйди! — она обидится… О чемъ съ ней можно будетъ говорить? И что она сможетъ сказать ему?… Онъ думалъ и представлялъ себѣ знакомыхъ барышень, дочерей купцовъ. Нѣкоторыя изъ нихъ были очень красивы, и онъ зналъ, что любая охотно пойдетъ за него. Но ни одну изъ нихъ онъ не хотѣлъ бы видѣть около себя женой своей… Какъ это должно быть стыдно и неловко, когда дѣвушка становится женой… И что говорятъ другъ другу молодые, послѣ вѣнца, въ спальнѣ? Ѳома попробовалъ подумать надъ тѣмъ, что бы онъ сказалъ въ этомъ случаѣ, и сконфуженно засмѣялся, не находя никакихъ удобныхъ словъ… Потомъ ему вспомнилась Люба Маякина. Эта, навѣрное, сама бы первая заговорила, какими-нибудь чужими ей и безтолковыми словами… Ему казалось почему-то, что всѣ слова у нея чужія и что она не то говоритъ, что должна говорить дѣвушка ея лѣтъ, наружности и происхожденія…
И тутъ его мысль остановилась на жалобахъ Любови. Онъ пошелъ тише, пораженный тѣмъ, что всѣ люди, съ которыми онъ близокъ и помногу говоритъ, — говорятъ съ нимъ всегда о жизни. И отецъ, и тётка, крестный, Любовь, Софья Павловна, — всѣ они или учатъ его понимать жизнь, или жалуются на нее. Ему вспомнились слова о судьбѣ, сказанныя старикомъ на пароходѣ, и много другихъ замѣчаній о жизни, упрековъ ей и горькихъ жалобъ на нее, которыя онъ мелькомъ слышалъ отъ разныхъ людей.
„Что это значитъ? — думалось ему, — что такое жизнь, если это не люди? А люди всегда говорятъ такъ, какъ будто это не они, а есть еще что-то кромѣ людей, и оно мѣшаетъ имъ жить. Можетъ, это дьяволъ?“
Жуткое чувство страха охватило парня; онъ вздрогнулъ и быстро оглянулся вокругъ. На улицѣ было пустынно и тихо; темныя окна домовъ тускло смотрѣли въ сумракъ ночи, и по стѣнамъ, по заборамъ слѣдомъ за Ѳомой двигалась его тѣнь.
— Извозчикъ! громко закричалъ онъ, ускоряя шаги. Тѣнь встрепенулась и пугливо поползла за нимъ, безмолвная и черная. Ѳомѣ казалось, что на него сзади дышатъ холодомъ и что-то огромное, невидимое, но страшное настигаетъ его. Въ испугѣ онъ почти побѣжалъ навстрѣчу пролеткѣ, съ грохотомъ явившейся откуда-то изъ тьмы, а когда сѣлъ въ пролетку, то не могъ оглянуться назадъ, хотя и желалъ этого…
ѴІІ.
Прошло съ недѣлю времени послѣ разговора съ Медынской. И дни и ночи образъ ея неотступно стоялъ предъ Ѳомой, вызывая въ сердцѣ его ноющее чувство тоски. Ему хотѣлось пойти къ ней, и онъ болѣлъ о ней такъ, что даже кости его ломило отъ желанія сердца снова быть около нея. Но онъ угрюмо молчалъ, хмурился и не хотѣлъ уступить этому желанію, усердно занимаясь дѣлами и возбуждая въ себѣ злобу противъ женщины. Онъ чувствовалъ, что если онъ пойдетъ къ ней, то увидитъ ее не такой уже, какой оставилъ, въ ней что-то должно измѣниться послѣ разговора съ нимъ, и уже не встрѣтитъ она его такъ ласково, какъ раньше встрѣчала, не улыбнется ему ясной улыбкой, возбуждавшей въ немъ какія-то особенныя думы и надежды. Боясь, что этого не будетъ, а должно быть что-то другое, онъ все удерживалъ себя и мучился…
Работа и тоска о женщинѣ не мѣшали ему думать и о жизни. Онъ не разсуждалъ объ этой загадкѣ, уже вызывавшей въ сердцѣ его тревожное чувство; онъ не умѣлъ разсуждать, но сталъ чутко прислушиваться ко всему, что люди говорили о жизни, и старался запоминать эти рѣчи. Онѣ ничего не выясняли ему, а лишь увеличивали его недоумѣніе и порождали въ немъ подозрительное чувство къ нимъ. Они были ловки, хитры и умны — онъ это видѣлъ; въ дѣлахъ съ ними всегда нужно было держаться осторожно; онъ зналъ уже, что въ важныхъ случаяхъ никто изъ нихъ не говоритъ того, что думаетъ. И, внимательно слѣдя за ними, онъ чувствовалъ, что вздохи ихъ и жалобы на жизнь вызываютъ въ немъ недовѣріе. Молча, подозрительнымъ взглядомъ онъ присматривался ко всѣмъ, и тонкая морщина разрѣзала его лобъ…
Однажды утромъ, на биржѣ, крестный сказалъ ему:
— Ананій пріѣхалъ… Зоветъ тебя… Ты вечеркомъ сходи къ нему, да смотри языкъ-то свой попридержи… Ананій будетъ его раскачивать, чтобъ ты о дѣлахъ позвонилъ… Хитрый, старый чортъ… Преподобная лиса… возведетъ очи въ небеса, а лапу тебѣ за пазуху запуститъ да кошель-то и вытащитъ… Поостерегись…
— Должны мы ему? — спросилъ Ѳома.
— А какъ же! За баржу не заплачено… да дровъ взято пятериковъ полсотни недавно… Ежели будетъ всѣ сразу просить — не давай… Рубль — штука клейкая: чѣмъ больше въ твоихъ рукахъ повертится, тѣмъ больше копеекъ къ нему пристанетъ… Рубль — онъ, какъ хорошій голубь — полетаетъ въ воздухѣ, глядишь — цѣлую стаю въ голубятню приведетъ…
— Да вѣдь какъ же ему не отдать, если онъ потребуетъ?
— А пускай онъ плачетъ — проситъ, ты же реви — да не давай…
— Я пойду ужо… — сказалъ Ѳома.
Ананій Саввичъ Щуровъ былъ крупный торговецъ лѣсомъ, имѣлъ огромную лѣсопилку, строилъ баржи, гонялъ плоты… Онъ велъ дѣла съ Игнатомъ, и Ѳома не разъ видѣлъ этого высокаго и прямого, какъ сосна, старика съ огромной бѣлой бородой и длинными руками. Его большая и красивая фигура съ открытымъ лицомъ и яснымъ взглядомъ вызывала у Ѳомы чувство уваженія къ Щурову, хотя онъ слышалъ отъ людей, что этотъ „лѣсовикъ“ разбогатѣлъ не отъ честнаго труда и нехорошо живетъ у себя дома, въ глухомъ селѣ лѣсного уѣзда. И отецъ разсказывалъ Ѳомѣ, что Щуровъ, въ молодости, когда еще былъ бѣднымъ мужикомъ, пріютилъ у себя въ огородѣ, въ банѣ, каторжника, и каторжникъ работалъ для него фальшивыя деньги. Съ той поры и началъ Ананій богатѣть. Однажды баня у него сгорѣла, и въ пеплѣ ея нашли обугленный трупъ человѣка съ расколотымъ черепомъ. Говорили на селѣ, что Щуровъ самъ убилъ работника своего, — убилъ и сжегъ потомъ. Подобное случалось не однажды у благообразнаго старика; но такія рѣчи говорились о многихъ богачахъ города, — всѣ они, будто бы, скопили свои милліоны путемъ грабежей, убійствъ и — главное — сбытомъ фальшивыхъ денегъ. Ѳома съ дѣтства прислушивался къ подобнымъ разсказамъ и никогда раньше не думалъ о томъ, вѣрны они или нѣтъ.
Зналъ онъ также о Щуровѣ, что старикъ изжилъ двухъ женъ, — одна изъ нихъ умерла въ первую ночь послѣ свадьбы въ объятіяхъ Ананія. Затѣмъ онъ отбилъ жену у сына своего, а сынъ съ горя запилъ и чуть не погибъ въ пьянствѣ, но во-время опомнился и ушелъ спасаться въ скиты, на Иргизъ. А когда померла сноха-любовница, Щуровъ взялъ въ домъ себѣ нѣмую дѣвочку — нищую, по сей день живетъ съ ней, и она недавно родила ему мертваго ребенка… Идя къ Ананію въ гостиницу, гдѣ онъ остановился, Ѳома невольно вспоминалъ все, что слышалъ о старикѣ отъ отца и другихъ людей, и чувствовалъ, что Щуровъ сталъ странно интересенъ для него.
Когда Ѳома, отворивъ дверь, почтительно остановился на порогѣ маленькаго номера съ однимъ окномъ, изъ котораго видна была только ржавая крыша сосѣдняго дома, — онъ увидалъ, что старый Щуровъ только что проснулся, сидитъ на кровати, упершись въ нее руками, и смотритъ въ полъ, согнувшись такъ, что длинная и бѣлая борода его лежитъ на колѣняхъ. Но, и согнувшись, онъ былъ великъ..
— Кто вошелъ? — не поднимая головы, спросилъ Ананій сиплымъ и сердитымъ голосомъ.
— Я. Здравствуйте, Ананій Саввичъ…
Старикъ медленно поднялъ голову и, прищуривъ большіе глаза, взглянулъ на Ѳому.
— Игнатовъ сынъ, что ли?
— Онъ самый…
— Ну, иди сюда… садись вонъ къ окну… поглядимъ, каковъ ты сталъ… Чаемъ, что ли, попоить?
— Я бы выпилъ…
— Коридорный! — крикнулъ старикъ, напрягая грудь, и, забравъ бороду въ горсть, сталъ молча разсматривать Ѳому. Ѳома тоже исподлобья смотрѣлъ на него.
Высокій лобъ старика былъ весь изрѣзанъ морщинами, и кожа на немъ была темная. Сѣдыя, курчавыя пряди волосъ покрывалъ его виски и острыя уши; голубые, спокойные глаза придавали верхней части лица его выраженіе мудрое, благообразное. Но щеки и губы у него были толсты, красны и казались чужими на его лицѣ. Длинный, тонкій носъ, загнутый книзу, точно спрятаться хотѣлъ въ бѣлыхъ усахъ; старикъ шевелилъ губами, изъ-подъ нихъ сверкали желтые, мелкіе зубы. На немъ была надѣта розовая рубаха изъ ситца, подпоясанная шелковымъ пояскомъ, и черныя шаровары, заправленныя въ сапоги. Ѳома смотрѣлъ на его губы и думалъ, что навѣрное старикъ таковъ и есть, какъ говорятъ о немъ…
— А мальчишкой-то ты больше на отца былъ похожъ… — вдругъ сказалъ Щуровъ и вздохнулъ. Потомъ, помолчавъ, спросилъ: — Помнишь отца-то? Молишься за него?
— Надо, надо молиться! — продолжалъ онъ, выслушавъ краткій отвѣтъ Ѳомы. — Великій грѣшникъ былъ Игнатъ… и умеръ безъ покаянья… въ одночасье… великій грѣшникъ!
— Не грѣшнѣе, чай, другихъ-то, — хмуро отвѣтилъ Ѳома, обидѣвшись за отца.
— Кого — къ примѣру? — строго спросилъ Щуровъ.
— Мало ли грѣшниковъ!
— Грѣшнѣе Игната-покойника одинъ есть человѣкъ на землѣ — окаянный фармазонъ, твой крестный Яшка… — отчеканилъ старикъ.
— Вы это вѣрно знаете? — освѣдомился Ѳома, усмѣхаясь.
— Я? Я знаю! — увѣренно сказалъ Щуровъ, качнувъ головой, и глаза его потемнѣли. — Я самъ тоже предстану предъ Господомъ… не налегкѣ… Понесу съ собой ношу тяжелую предъ святое лицо Его… Я самъ тоже тѣшилъ дьявола… только я въ милость Господню вѣрую, а Яшка не вѣритъ ни въ чохъ, ни въ сонъ, ни въ птичій грай.. Яшка въ Бога не вѣритъ… это я знаю! И за то, что не вѣритъ, — на землѣ еще будетъ наказанъ!
— И это вы знаете? — спросилъ Ѳома.
— И это… Ты не думай — я вѣдь и то знаю, что смѣшно тебѣ слушать меня… Какой-де прозорливецъ! Но человѣкъ, который много согрѣшилъ, — всегда уменъ… Грѣхъ — учитъ… Оттого Маякинъ Яшка и уменъ на рѣдкость…
Слушая сиплый и увѣренный голосъ старика, Ѳома подумалъ:
„Смерть, видно, чуетъ…“
Коридорный, маленькій человѣкъ съ блѣднымъ, точно стертымъ лицомъ, внесъ самоваръ и быстро, мелкими шагами убѣжалъ изъ номера. Старикъ разбиралъ на подоконникѣ какіе-то узелки и говорилъ, не глядя на Ѳому:
— Дерзокъ ты… И взглядъ у тебѣ — темный… Раньше свѣтлоглазыхъ людей больше было… оттого, что раньше души свѣтлѣе были… Раньше все было проще — и люди и грѣхи… а теперь пошло все мудреное… эхе-хе!
Онъ заварилъ чай, сѣлъ противъ Ѳомы и снова началъ:
— Въ твои годы отецъ твой… — водоливомъ тогда былъ онъ и около нашего села съ караваномъ стоялъ… въ твои годы Игнатъ ясенъ былъ мнѣ, какъ стекло… Взглянулъ на него и — сразу видишь, что за человѣкъ. А на тебя гляжу — не вижу — что ты? Кто ты такой? И самъ ты, парень, этого не знаешь… оттого и пропадешь… Всѣ теперешніе люди — пропасть должны, потому — не знаютъ себя… А жизнь — буреломъ, и нужно умѣть найти въ ней свою дорогу… гдѣ она? И всѣ плутаютъ… а дьяволъ — радъ… Женился ли ты?
— Нѣтъ еще, — сказалъ Ѳома.
— Вотъ и это… не женатъ, а ужъ, чай, давно поганъ… Ну, а работаешь въ дѣлѣ твоемъ много?
— Приходится… я съ крестнымъ пока…
— Какая теперь у васъ работа? — качая головой, говорилъ старикъ, и глаза его все играли, то темнѣя, то снова проясняясь. — Нѣтъ у васъ труда! Раньше купецъ по дѣлу на лошадяхъ ѣздилъ… въ мятель, ночью… ѣдетъ! Разбойники ждали его на дорогѣ и убивали… умиралъ онъ мученикомъ, кровью омывши грѣхи свои… Теперь въ вагонѣ ѣдутъ… депеши разсылаютъ… а то вонъ, слышь, такъ выдумали, что въ конторѣ у себя говоритъ человѣкъ, и за пять верстъ его слышно… тутъ уже не безъ дьяволова ума!… Сидитъ человѣкъ… не двигается… и грѣшитъ оттого, что скучно ему, дѣлать нечего: машина за него дѣлаетъ все… Труда ему нѣтъ… а безъ труда — гибель человѣку! Онъ обзавелся машинами и думаетъ — хорошо! Анъ она, машина-то, — дьяволовъ капканъ тебѣ. Ею тебя онъ и ловитъ… Въ трудѣ для грѣха нѣтъ время, а при машинѣ — свободно! Отъ свободы — погибнетъ человѣкъ, какъ червь, житель нѣдръ земныхъ, гибнетъ на солнцѣ… Отъ свободы человѣкъ погибнетъ!
И, произнося раздѣльно и утвердительно слова свои, старикъ Ананій четырежды стукнулъ пальцемъ по столу. Лицо его сіяло злымъ торжествомъ, грудь высоко вздымалась, и серебристые волосы бороды беззвучно шевелились на ней. Ѳомѣ жутко стало смотрѣть на него и слушать его рѣчи, ибо въ нихъ звучала непоколебимая вѣра, и сила вѣры этой смущала Ѳому. Онъ уже забылъ все то, что зналъ о старикѣ и во что еще недавно вѣрилъ, какъ въ правду.
— Кто даетъ свободу тѣлу — губитъ душу! — говорилъ Ананій и смотрѣлъ на Ѳому такъ странно, какъ будто видѣлъ за нимъ еще кого-то, кому больно и страшно было слышать его слова, и чей страхъ и боль радовали его… — И всѣ вы, теперешніе, погибнете отъ свободы… Дьяволъ поймалъ васъ… онъ отнялъ у васъ трудъ, подсунувъ вамъ свои машины и депеши… И ужъ жретъ свобода души людей… Ну-ка, скажи, отчего дѣти хуже отцовъ? Отъ свободы, да! Оттого и пьютъ, и развратничаютъ съ бабами… и здоровья у нихъ меньше оттого, что работы меньше… и веселаго духа нѣтъ оттого, что заботъ нѣтъ… Веселье во время отдыха приходитъ, а теперь никто не устаетъ…
— Ну, — тихо сказалъ Ѳома, — развратничали и пьянствовали и прежде не меньше, чай…
— Ты знаешь? Молчалъ бы! — крикнулъ Ананій, сурово сверкая глазами. — Тогда и силы у человѣка больше было… по силѣ и грѣхи были… А у васъ, теперешнихъ, силы-то меньше, а грѣховъ больше… и грѣхи гаже… Тогда люди — какъ дубы были… И судъ имъ отъ Господа будетъ по силамъ ихъ… Тѣла ихъ будутъ взвѣшены, и измѣрятъ ангелы кровь ихъ… и увидятъ ангелы Божіи, что не превыситъ грѣхъ тяжестью своей вѣса крови и тѣла… понимаешь? Волка не осудитъ Господь, если волкъ овцу пожретъ… но если крыса мерзкая повинна въ овцѣ — крысу осудитъ Онъ!
— Откуда людямъ знать, какъ Богъ осудитъ человѣка? — задумчиво спросилъ Ѳома. — Видимый судъ нуженъ…
— Пошто — видимый?
— Чтобы понимать людямъ…
— А кто, кромѣ Бога, судья мнѣ?
Ѳома взглянулъ на старика и замолчалъ, опустивъ голову. Ему снова вспомнился бѣглый каторжникъ, убитый и сожженный Щуровымъ, и онъ снова вѣрилъ, что это такъ и было. И женщинъ — женъ и любовницъ — этотъ старикъ навѣрное вогналъ въ гробъ тяжелыми ласками своими, раздавилъ ихъ своей костистой грудью, выпилъ сокъ жизни изъ нихъ этими толстыми губами, и теперь еще красными, точно на нихъ не обсохла кровь женщинъ, умиравшихъ въ объятіяхъ его длинныхъ и жилистыхъ рукъ. И вотъ теперь онъ, ожидая смерти, которая уже гдѣ-нибудь близко отъ него, считаетъ грѣхи свои, судитъ людей и себя судитъ, должно быть… и говоритъ: кто, кромѣ Бога, судья мнѣ?
„Боится онъ или нѣтъ?“ — спросилъ себя Ѳома и задумался, исподлобья разсматривая старика.
— Да, парень! Думай… — покачивая головой, говорилъ Щуровъ, — думай, какъ жить тебѣ… Капиталы въ сердцѣ малые, а замашки большія… не обанкротиться бы тебѣ предъ собой-то! хо-хо-хо!
— Почемъ вы знаете, сколько чего я имѣю въ сердцѣ? — угрюмо сказалъ Ѳома, обиженный его смѣхомъ.
— Ужъ я вижу! Я все знаю… потому — живу я давно! О-о-хо-хо! какъ я давно живу! Деревья выросли и срублены и дома уже построили изъ нихъ… и обветшали даже дома… а я все это видѣлъ и все живу… И какъ вспомню порой жизнь свою, то подумаю: неужто одинъ человѣкъ столько сдѣлать могъ? Неужто я все это изжилъ?… — Старикъ сурово взглянулъ на Ѳому, покачалъ головой и умолкъ…
Стало тихо. За окномъ, на крышѣ дома что-то негромко трещало; шумъ колесъ и глухой говоръ людей несся снизу, съ улицы. Самоваръ на столѣ пѣлъ унылую пѣсню. Щуровъ пристально смотрѣлъ въ стаканъ съ чаемъ, поглаживалъ бороду, и слышно было, что въ груди у него хрипитъ, будто тамъ тяжесть какая-то ворочается…
— Трудно тебѣ жить безъ отца-то? — раздался его голосъ.
— Привыкаю… — отвѣтилъ Ѳома.
— Богатъ ты… а Яковъ умретъ — еще богаче будешь… все тебѣ откажетъ…
— Не надо мнѣ.
— А куда же? Одна дочь у него… и дочь тебѣ же бы надо взять… Что она тебѣ крестовая и молочная — не бѣда! Можно устроить… И женился бы… а то что такъ жить? Чай, таскаешься по дѣвкамъ все?
— Нѣтъ.
— Говори! Э-эхе-хе… помираетъ купецъ… Сказывалъ мнѣ одинъ лѣсничій, — вретъ ли, нѣтъ ли, — что-де раньше всѣ собаки волками были… и выродились въ собакъ… Такъ вотъ и наше званіе — тоже скоро всѣ собаками будемъ… Науки изучимъ, модныя шляпы на башки воткнемъ, и все, тамъ, что надо, сдѣлаемъ для того, чтобы свое обличье потерять… И ничѣмъ насъ отъ другихъ людей не отличишь… Завели такой порядокъ, чтобы всѣхъ дѣтей въ гимназисты отдавать… И купцовъ, и дворянъ, и мѣщанъ — всѣхъ подъ одинъ колеръ подгоняютъ… одѣнутъ ихъ въ сѣрое и учатъ всѣхъ одной наукѣ… растятъ человѣка, какъ дерево… Зачѣмъ это? — никому неизвѣстно… И полѣно одно отъ другого хоть сучкомъ да отличается… а тутъ хотятъ людей такъ обстрогать, чтобы всѣ на одно лицо были… Скоро намъ, старикамъ, крышка… да-а! Можетъ никто ужъ и не повѣритъ черезъ пятьдесятъ, этакъ, лѣтъ, что на свѣтѣ я жилъ… Ананій, Саввинъ сынъ, по прозвищу Щуровъ… такъ-то! И что я, Ананій, окромя Бога, никого не боялся… И что былъ я въ молодости мужикъ, а земли имѣлъ двѣ съ четвертью десятины, а подъ старость накопилъ одиннадцать тысячъ десятинъ и всѣ подъ лѣсомъ… да денегъ, можетъ, два милліона.
— Вотъ все говорятъ — деньги? — сказалъ Ѳома съ неудовольствіемъ. — А какая отъ нихъ радость человѣку?
— Мм… — промычалъ Щуровъ. — Плохой изъ тебя купецъ будетъ, коли ты силы денегъ не понимаешь…
— Кто ее понимаетъ? — спросилъ Ѳома…
— Я! — увѣренно сказалъ Щуровъ. — И всякій умный человѣкъ… Яшка понимаетъ… Деньги? Это, парень, много! Ты разложи ихъ предъ собой и подумай — что онѣ содержатъ въ себѣ? Тогда поймешь, что все это — сила человѣческая, все это — умъ людской… Тысячи людей въ деньги твои жизнь вложили и вложатъ тысячи… А ты можешь всѣ ихъ, деньги-то, въ печь бросить и смотри, какъ онѣ горѣть будутъ… И будешь ты, въ ту пору, владыкой себя считать…
— Этого не дѣлаютъ…
— Оттого, что у дураковъ денегъ не бываетъ… Деньги пускаютъ въ дѣло… около дѣла народъ кормится… а ты надо всѣмъ тѣмъ народомъ — хозяинъ… Богъ человѣка зачѣмъ создалъ? А чтобы человѣкъ Ему молился… Онъ одинъ былъ и было Ему одному-то скучно… ну, и захотѣлось власти… А какъ человѣкъ созданъ по образу, сказано, и по подобію Его, то человѣкъ власти хочетъ… А что, кромѣ денегъ, власть даетъ?… Такъ-то… Ну, а ты — деньги принесъ мнѣ?
— Нѣтъ… — отвѣтилъ Ѳома. Отъ рѣчей старика въ головѣ у него было тяжело и мутно, и онъ былъ доволенъ, что разговоръ перешелъ наконецъ на дѣловую почву.
— Это напрасно! — сказалъ Щуровъ, строго нахмуривъ брови. — Срокъ прошелъ — надо платить…
— Получите завтра половину…
— Зачѣмъ половину? Всѣ давай!
— Ужъ очень намъ теперь нужны деньги-то…
— А ихъ нѣтъ? Однако и мнѣ нужны…
— Подождите!
— Э, братъ, ждать не буду! Ты не отецъ… вашъ братъ, молокососъ, народъ ненадежный… въ мѣсяцъ можешь ты все дѣло спутать… а я отъ того убытокъ понесу… Ты мнѣ завтра всѣ подай, а то векселя протестую… У меня это живо!
Ѳома смотрѣлъ на Щурова и удивлялся. Это былъ совсѣмъ не тотъ старикъ, что недавно еще говорилъ съ видомъ прозорливца рѣчи о дьяволѣ… И лицо, и глаза у него тогда другіе были, — а теперь онъ смотрѣлъ жестоко, губы его улыбались безжалостно, и на щекахъ, около ноздрей, жадно вздрагивали какія-то жилки. Ѳома видѣлъ, что если не заплатить ему въ срокъ — онъ дѣйствительно не пожалѣетъ и тотчасъ же опорочитъ фирму протестомъ векселей…
— Что, видно плохи дѣла-то? — усмѣхнулся Щуровъ. — Ну, говори начисто — гдѣ отцовы деньги разсыпалъ?
Ѳомѣ захотѣлось испытать старика:
— Дѣла не очень веселыя… — сказалъ онъ, хмурясь, — поставокъ нѣтъ… задатковъ не получили… ну, и трудновато.
— Та-акъ!… Пособить, что ли?
— Сдѣлайте милость… отсрочьте платежи-то, — попросилъ Ѳома, скромно опустивъ глаза.
— Мм… али изъ дружбы къ отцу пособить? Пожалуй, пособлю…
— А на сколько времени отсрочите? — освѣдомился Ѳома.
— Ужъ на полгода…
— Покорно благодарю…
— Неначемъ… Одиннадцать тысячъ шестьсотъ за тобой… Ты вотъ что: перепиши мнѣ векселя на пятнадцать, уплати проценты съ этой суммы впередъ… а въ обезпеченіе я съ тебя закладную на обѣ твои баржи возьму…
Ѳома всталъ со стула и, усмѣхаясь, проговорилъ:
— Завтра пришлите векселя… я ихъ вамъ оплачу полностью…
Щуровъ тоже грузно поднялся со стула и, не спуская глазъ подъ насмѣшливымъ взглядомъ Ѳомы, спокойно почесывая грудь, сказалъ:
— И такъ хорошо…
— Спасибо… за ласку…
— Что тамъ! Не даешься ты… а то я бы тебя приласкалъ! — лѣниво проговорилъ старикъ, оскаливая зубы.
— Н-да! Попадешь вамъ въ руки…
— Тепло будетъ…
— Нагрѣете, что говорить…
— Ну, однако, паренекъ, будетъ! — сурово сказалъ Щуровъ. — Хоть ты и думаешь про себя, что не глупъ… только рано это… Сыгралъ въ ничью, да ужъ и хвастаться сталъ!… А ты у меня выиграй… тогда и пляши отъ радости… Прощай-ка… Да денежки завтра припаси…
— Не безпокойтесь… Прощайте!
— Съ Богомъ!
Выйдя за дверь номера, Ѳома услыхалъ, какъ старикъ зѣвнулъ протяжно и громко, а потомъ запѣлъ сиповатымъ басомъ:
— Ми-ило-осердія двери отверзи намъ… бла-осло-венная Бо-городице…
Ѳома унесъ съ собой отъ старика двойственное чувство: Щуровъ и нравился ему и, въ то же время, былъ противенъ…
Онъ вспоминалъ рѣчи старика о грѣхѣ, думалъ о силѣ вѣры его въ милосердіе Бога, и — старикъ возбуждалъ въ немъ чувство, близкое къ уваженію.
„И этотъ тоже про жизнь говоритъ… и вотъ — грѣхи свои знаетъ, а не плачется, не жалуется… Согрѣшилъ — подержу отвѣтъ… Н-да. А та?…“ — Онъ вспомнилъ о Медынской, и сердце его сжималось тоской.
„А та — кается… не поймешь у ней — нарочно она, чтобы отъ суда скрыться, или въ самомъ дѣлѣ у нея сердце болитъ… Кто, говоритъ, кромѣ Бога, судья? Ишь ты…“
Ѳомѣ казалось, что онъ завидуетъ Ананію, и парень поспѣшилъ напомнить себѣ попытки Щурова обобрать его. Это вызывало въ немъ отвращеніе къ старику, онъ не могъ примирить своихъ чувствъ и, недоумѣвая, усмѣхался.
— Н-ну, былъ я у Щурова!… — сказалъ онъ, придя къ Маякину и усаживаясь за столъ.
Маякинъ въ засаленномъ халатикѣ и со счетами въ рукахъ нетерпѣливо заёрзалъ въ своемъ кожаномъ креслѣ и оживленно заговорилъ:
— Наливай ему чаю, Любава! Разсказывай, Ѳома… Мнѣ къ девяти въ думу надо, разсказывай скорѣй.
Ѳома, посмѣиваясь, разсказалъ о томъ, какъ Щуровъ предложилъ ему переписать векселя.
— Э-эхъ! — съ сожалѣніемъ, тряхнувъ головой, воскликнулъ Яковъ Тарасовичъ. — Всю обѣдню испортилъ ты, братъ, мнѣ! Развѣ можно такъ прямо вести дѣла съ человѣкомъ? Тьфу! Дернула меня нелегкая послать тебя! Мнѣ самому бы пойти… Я бы его вокругъ пальца обернулъ!
— Ну, едва ли! Онъ говоритъ — я дубъ…
— Дубъ? А я — пила… Дубъ! Дубъ — дерево хорошее, да плоды его только свиньямъ годны… И выходитъ, что дубъ — просто глупъ…
— Да вѣдь, все равно, платить надо…
— Съ этимъ не торопятся… умные люди. А ты — готовъ бѣгомъ бѣжать, чтобы деньги отдать… купецъ!
Яковъ Тарасовичъ былъ рѣшительно недоволенъ крестникомъ. Онъ морщился и сердито приказывалъ дочери, молча разливавшей чай:
— Сахаръ подвинь мнѣ… видишь — не достану…
Лицо Любови было блѣдно, глаза мутны, и руки у нея двигались вяло, неловко… Ѳома посмотрѣлъ на нее и подумалъ:
„Смирная какая при отцѣ-то“…
— О чемъ онъ говорилъ съ тобой? — спросилъ его Маякинъ.
— Насчетъ грѣховъ…
— Ну, конечно! Всякому человѣку свое дѣло дорого… а онъ — фабрикантъ грѣховъ… Давно о немъ и на каторгѣ, и въ аду плачутъ — тоскуютъ, ждутъ — не дождутся…
— Увѣсисто говоритъ онъ, — задумчиво сказалъ Ѳома, помѣшивая чай въ стаканѣ.
— Меня ругалъ? — освѣдомился Маякинъ, ехидно искрививъ лицо.
— Было…
— А ты что?
— А я… слушалъ…
— Мм… что же слышалъ?
— Сильному, говоритъ, простится, — а слабому нѣтъ прощенія…
— Премудрость, подумаешь!… Это и блохи знаютъ…
Презрительное отношеніе крестнаго къ Щурову почему-то раздражало Ѳому, и, глядя въ лицо старика, онъ съ усмѣшкой сказалъ:
— А васъ онъ не любитъ…
— Меня, братъ, никто не любитъ! — съ гордостью сказалъ Маякинъ. — И любить меня не за что, я не дѣвка… Но зато уважаютъ меня… А уважаютъ только тѣхъ, кого побаиваются…
И старикъ хвастливо подмигнулъ крестнику…
— Говоритъ онъ увѣсисто… — повторилъ Ѳома. — Жалуется… Вымираетъ, говоритъ, настоящій купецъ… Всѣхъ, говоритъ, людей одной наукѣ учатъ… чтобы всѣ были одинаковы… на одно лицо…
— Считаетъ такъ, что не годится это?
— Видать — считаетъ…
— Ду-уракъ! — презрительно протянулъ Маякинъ.
— А почему? Развѣ это хорошо, скажите? — спросилъ Ѳома, недовѣрчиво поглядывая на крестнаго.
— Что хорошо — намъ неизвѣстно, а что умно — мы можемъ видѣть… Ежели видимъ мы, что, взявъ разныхъ людей, сгоняютъ ихъ въ одно мѣсто и внушаютъ всѣмъ имъ тамъ одно мнѣніе — должны мы признать, что это умно… Потому — что такое человѣкъ въ государствѣ? Ни больше, какъ простой кирпичъ, а всѣ кирпичи должны быть одной мѣры… понялъ? И людей, которые всѣ одинаковой высоты и вѣса, — какъ я хочу, такъ и положу…
— Кому же пріятно кирпичомъ-то быть, — хмуро сказалъ Ѳома.
— Рѣчь не о пріятномъ, а о дѣлѣ… Ежели ты изъ твердаго матеріала, тебя не обтешешь… Не всякому человѣку можно рожу стереть… но ежели иного побить молотомъ, можетъ онъ будетъ золотомъ… А башка лопнетъ — что подѣлаешь? слаба, значитъ, была…
— Говорилъ онъ также насчетъ труда… все, говоритъ, машины работаютъ, а люди отъ этого балуются…
— Поѣхала кума, невѣдомо куда! — пренебрежительно махнулъ рукой Маякинъ. — Удивительно мнѣ — какой у тебя аппетитъ на всякую пустяковину! Съ чего это?
— И это невѣрно? — спросилъ Ѳома, угрюмо засмѣявшись.
— Что вѣрнаго можетъ онъ знать? Машина! Онъ бы, старый пень, подумалъ — какая она, машина-то? Желѣзная! — стало быть, ея не жалко, завелъ — она и куетъ тебѣ рубли… безъ всякихъ словъ, безъ хлопотъ… пустилъ, она и вертится. А человѣкъ — онъ безпокойный и жалкій… онъ очень даже жалокъ порой бываетъ… Воетъ, ноетъ, плачетъ, проситъ… пьянъ напивается… въ немъ лишняго для меня — ахъ, какъ много! А въ машинѣ, какъ въ аршинѣ, — ровно столько содержанія, сколько требуется для дѣла… Ну, я пойду одѣваться… пора.
Онъ всталъ и ушелъ, громко шаркая туфлями по полу. Ѳома посмотрѣлъ вслѣдъ ему и вполголоса сказалъ, хмуря брови:
— Лѣшій развѣ разберетъ все это… одинъ говоритъ такъ, другой — этакъ…
— Вотъ и въ книгахъ тоже, — тихо сказала Любовь.
Ѳома взглянулъ на нее, добродушно улыбаясь. И она отвѣтила ему неясной улыбкой. Глаза у нея смотрѣли устало, печально…
— Все читаешь? — спросилъ Ѳома.
— Да-а… — уныло отвѣтила дѣвушка.
— И тоскуешь все?
— Тошно… Одна потому что… Слова не съ кѣмъ сказать…
— Плохо твое дѣло…
Она ничего не сказала на это, а лишь опустила голову и стала медленно перебирать пальцами кружево полотенца.
— Шла бы замужъ… — сказалъ Ѳома, чувствуя, что ему жалко ее…
— Отстань, пожалуйста… — некрасиво наморщивъ лобъ, отвѣтила Любовь.
— Чего отстань? Вѣдь пойдешь же…
— Вотъ! — Со вздохомъ и тихо воскликнула дѣвушка. — Вотъ я и думаю — надо… то-есть придется пойти… А какъ пойдешь? Ты знаешь ли — я такое чувствую теперь… какъ будто между много и людьми туманъ стоитъ… густой, густой туманъ!
— Отъ книгъ, — увѣренно вставилъ Ѳома.
— Подожди! И я перестаю понимать, что дѣлается… Все мнѣ не нравится… все чужое стало… Все не такъ, какъ надо, все не то… Я вижу… понимаю это, а сказать, что не такъ и почему — не могу…
— Не такъ, не такъ.. — забормоталъ Ѳома. — Это у тебя отъ книгъ… да… Хоть я и самъ тоже чувствую, что не такъ… Это можетъ и оттого, что еще молоды мы… отъ глупости…
— Мнѣ сначала казалось, — не слушая его, говорила Любовь, — что я въ книгахъ все понимаю… А теперь…
— Бро-ось ты ихъ! — посовѣтовалъ Ѳома пренебрежительно.
— Ахъ, по́лно! Развѣ это можно бросить? Ты знаешь — сколько разныхъ мыслей на свѣтѣ! О, Господи! И есть такія, что голову жгутъ… Въ одной книгѣ сказано, что все существующее на землѣ разумно…
— Все? — спросилъ Ѳома.
— Все! А въ другой — напротивъ.
— Погоди! Развѣ это не чепуха?
— О чемъ разговоръ? — спросилъ Маякинъ, являясь въ дверяхъ одѣтый въ длинный сюртукъ и съ какими-то медалями на шеѣ и груди…
— Такъ… — хмуро сказала Любовь.
— Насчетъ книгъ, — добавилъ Ѳома.
— Какихъ книгъ?
— Да вотъ она читаетъ… прочитала, что все на землѣ — разумно…
— Ну!
— Ну, а я говорю — враки!
— Н-да… — Яковъ Тарасовичъ задумался, пощипывая бородку и прищуривъ глаза…
— Это что за книга? — спросилъ онъ у дочери, помолчавъ.
— Маленькая такая… желтая… — неохотно сказала Любовь…
— Ты ее положи-ка на столъ мнѣ… Это не спроста тоже сказано — все на землѣ разумно! Ишь… догадался какой-то… Н-да… это очень даже ловко выражено… И кабы не дураки — то совсѣмъ бы это вѣрно было… Но какъ дураки всегда не на своемъ мѣстѣ находятся, — нельзя сказать, что все на землѣ разумно… А книжку я посмотрю… можетъ въ ней и есть умъ… Прощай, Ѳома! Посидишь, али подвезти?…
— Посижу еще…
— Ну, ладно…
Любовь и Ѳома снова остались вдвоемъ.
— Какой онъ у тебя, — кивнувъ головой вслѣдъ крестному, сказалъ Ѳома.
— Какой?
— На все откликается, все своимъ словомъ покрыть хочетъ…
— Да-а… умный… А вотъ не понимаетъ, какъ тяжело мнѣ жить… — печально сказала Любовь…
— Я тоже не понимаю… выдумываешь ты много…
— Что я выдумываю? — раздраженно крикнула дѣвушка.
— Да… все это… не твои вѣдь мысли-то… чужія…
— Чужія… чужія…
Она хотѣла сказать что-то рѣзкое, но оборвалась и замолчала. Ѳома смотрѣлъ на нее и, поставивъ рядомъ съ нею Медынскую, грустно подумалъ:
„Какое все разное… и люди, и женщины… и чувствуешь всегда разное“…
Они оба сидѣли другъ противъ друга, оба были задумчивы и не смотрѣли другъ на друга.
На улицѣ темнѣло, а въ комнатѣ уже было совсѣмъ темно. Вѣтеръ качалъ липы, сучья ихъ царапались о стѣны дома, точно холодно имъ было, и они просились въ комнаты…
— Люба! — тихо сказалъ Ѳома.
Она подняла голову и посмотрѣла на него.
— Знаешь… я вѣдь по… поссорился съ Медынской-то…
— Изъ-за чего? — оживляясь, спросила Любовь.
— А… такъ ужъ… вышло такъ, что она обидѣла меня… обидѣла.
— Ну, это хорошо, что поссорился, — одобрительно сказала дѣвушка, — а то бы она тебя завертѣла… она — дрянь, кокетка… она хуже… ухъ, какія я про нее вещи знаю!
— Совсѣмъ она не дрянь, — угрюмо сказалъ Ѳома. — И ничего ты не знаешь… всѣ вы врете!
— Ну ужъ извини!
— Нѣтъ… вотъ что, Люба, — тихо и просительно сказалъ Ѳома, — ты не говори мнѣ про нее худо… не надо… Я все знаю… ей Богу! Она сама сказала…
— Са-ама!? — удивленно воскликнула Люба. — Ну… ужъ какая… странная! Что же она сказала?…
— Виновата… — съ усиліемъ выговорилъ Ѳома и криво усмѣхнулся.
— Только? — въ вопросѣ дѣвушки звучало разочарованіе; Ѳома услышалъ его и съ надеждой спросилъ:
— Мало развѣ?…
— Что же будетъ теперь?
— Вотъ и я думаю…
— Очень… ты любишь ее?
Ѳома молчалъ, посмотрѣлъ въ окно и смущенно отвѣтилъ:
— Не знаю… А кажется… что теперь ужъ больше, чѣмъ прежде…
— До ссоры?
— Да…
— Удивляюсь я, какъ можно любить такую? — пожавъ плечами, спросила дѣвушка.
— Такую-то? Еще какъ можно! — воскликнулъ Ѳома.
— Не понимаю… Нѣтъ, это только потому ты привязался къ ней, что лучше ея не видалъ..
— Не видалъ! — согласился Ѳома и, помолчавъ, нерѣшительно сказалъ: — Можетъ лучше и нѣтъ…
— Среди нашихъ… — вставила Любовь…
— Она для меня… очень нужна! Потому, видишь ты, что мнѣ предъ ней — стыдно…
— Чего это?
— А вообще… Боюсь я ее… то-есть не хочу я, чтобы она обо мнѣ плохо думала… какъ о другихъ. Иной разъ — тошно мнѣ! Подумаешь — кутнуть развѣ, чтобы всѣ жилы зазвенѣли? А вспомнишь про нее и — не рѣшишься… И во всемъ такъ — подумаешь о ней: а какъ она узнаетъ? И побоишься сдѣлать…
— Да-а, — задумчиво протянула дѣвушка, — значитъ ты ее любишь… Я бы тоже… если бъ любила, то думала бы о немъ… что онъ скажетъ?
— И все у нея… особенное, — тихо разсказывалъ Ѳома. — Говоритъ она по-своему… красива какъ, Господи! И такая маленькая… какъ ребенокъ…
— Что же у васъ вышло? — спросила Любовь.
Ѳома вмѣстѣ со стуломъ подвинулся къ ней и, наклонившись, зачѣмъ-то понизивъ голосъ, сталъ разсказывать. Онъ говорилъ, и по мѣрѣ того, какъ вспоминалъ слова, сказанныя имъ Медынской, у него воскресали и чувства, вызывавшія эти слова.
— Я ей — эхъ ты! Играла ты со мной — зачѣмъ? — гнѣвно и съ упрекомъ говорилъ онъ. А Люба, съ румянцемъ оживленія на щекахъ, одобрительно кивая головой, поощряла его:
— Такъ! Вотъ — хорошо! Ну, а она?
— Молчитъ! — тоскливо сказалъ Ѳома, передергивая плечами. — То-есть, она говорила… разное… да что въ томъ?
Онъ махнулъ рукой и замолчалъ. Люба, играя своей косой, тоже молчала. И самоваръ потухъ уже. А тьма въ комнатѣ все сгущалась, въ окна смотрѣло что-то мутное, и черные сучья липъ задумчиво качались тамъ, за окнами.
— Зажгла бы ты огонь… — продолжалъ Ѳома.
— Какіе мы съ тобой оба несчастные… — сказала Люба и вздохнула.
Ѳомѣ не понравилось это.
— Я — не несчастный… — твердымъ голосомъ возразилъ онъ. — Я просто… не привыкъ еще жить…
— Человѣкъ, который не знаетъ, что онъ сдѣлаетъ завтра, — несчастный! — съ грустью говорила Люба. — И я не знаю. И ты тоже… И куда намъ идти? А нужно идти… Отчего-то у меня сердце никогда не бываетъ спокойно… все дрожитъ въ немъ какое-то желаніе…
— Это и у меня есть, — сказалъ Ѳома. — Думать я сталъ… а о чемъ? — Не умѣю себѣ объяснить… и тоже сердце щемитъ… Эхъ!… Надо, однако, идти въ клубъ…
— Не уходи… — попросила Люба.
— Надо… тамъ ждетъ меня одинъ… Пойду… Прощай!
— До свиданья! — она протянула ему руку и печально посмотрѣла въ глаза его.
— Спать ляжешь? — спросилъ Ѳома, крѣпко пожимая ея руку.
— Почитаю немножко…
— Ты къ этому, какъ пьяница къ водкѣ… — съ сожалѣніемъ сказалъ парень.
— Что же есть лучше?
Идя по улицѣ, онъ взглянулъ на окна дома и въ одномъ изъ нихъ увидалъ лицо Любы. Оно было такъ же неясно, какъ и все, что говорила ему дѣвушка, какъ и ея желанія. Ѳома кивнулъ ей головой и съ чувствомъ сознанія своего превосходства надъ нею подумалъ:
„Тоже заплуталась… какъ и та…“
При этомъ воспоминаніи онъ тряхнулъ головой, какъ бы желая спугнуть мысль о Медынской, и ускорилъ шаги.
Ночь наступала, и было свѣжо. Холодный, бодрящій вѣтеръ порывисто метался въ улицѣ, гоняя по тротуарамъ соръ и бросая пыль въ лицо прохожихъ. Было темно, и во тьмѣ торопливо шагали какіе-то люди. Ѳома морщился отъ пыли, щурилъ глаза и думалъ:
„Ежели теперь встрѣтится мнѣ женщина — значитъ Софья Павловна встрѣтитъ меня ласково, по-старому… Завтра пойду къ ней… А ежели мужчина — не пойду завтра… погожу еще…“
Встрѣтилась ему собака, и это такъ раздражило его, что ему захотѣлось ткнуть палкой собаку…
А въ буфетѣ клуба его встрѣтилъ веселый Ухтищевъ. Онъ, стоя около двери, бесѣдовалъ съ какимъ-то толстымъ и усатымъ человѣкомъ, но, увидавъ Гордѣева, пошелъ къ нему навстрѣчу, улыбаясь и говоря:
— Здравствуйте, скромный милліонщикъ!
Онъ нравился Ѳомѣ за свой веселый нравъ, и Ѳома всегда встрѣчалъ его съ удовольствіемъ. Добродушно и крѣпко пожимая руку Ухтищева, Ѳома спросилъ его:
— А почему вы знаете, что я скромный?
— Онъ спрашиваетъ! Человѣкъ, который живетъ, какъ отшельникъ, не пьетъ, не играетъ, не любитъ женщинъ… ахъ, да! Вы знаете, Ѳома Игнатьевичъ? Наша несравненная патронесса завтра уѣзжаетъ за границу на все лѣто.
— Софья Павловна? — медленно спросилъ Ѳома.
— Ну, да! Заходитъ солнце моей жизни… а, можетъ быть, и вашей?
Ухтищевъ состроилъ комически-коварную гримасу и заглянулъ въ лицо Ѳомы.
А тотъ стоялъ предъ нимъ и чувствовалъ, что голова у него спускается на грудь, и онъ не можетъ помѣшать этому…
— Да, лучезарная Аврора…
— Уѣзжаетъ Медынская? — раздался жирный басовой голосъ. — Славно! Я ра-адъ…
— Позвольте — почему? — воскликнулъ Ухтищевъ.
Ѳома глуповато улыбался и растерянно смотрѣлъ на усатаго человѣка — собесѣдника Ухтищева. Тотъ важнымъ жестомъ разглаживалъ усы свои, и изъ-подъ нихъ лились на Ѳому тяжелыя, жирныя, противныя слова.
— А по-отому, видите, что въ городѣ одной ко-ко-ткой будетъ меньше…
— Фи, Мартынъ Никитичъ! — укоризненно сказалъ Ухтищевъ, наморщивая брови.
— Почему вы знаете, что она кокетка? — угрюмо спросилъ Ѳома, подвигаясь къ усатому господину. Тотъ окинулъ его пренебрежительнымъ взглядомъ, отворотился въ сторону и, дрыгнувъ ляжкой, протянулъ:
— Я не сказалъ — ко-окетка…
— Нельзя, Мартынъ Никитичъ, говорить такъ о женщинѣ, которая… — заговорилъ Ухтищевъ убѣдительнымъ голосомъ, но Ѳома перебилъ его:
— Позвольте! Я желаю спросить господина, что такое… какое онъ слово сказалъ?
И проговоривъ это твердо и спокойно, Ѳома сунулъ руки глубоко въ карманы брюкъ, а грудь выпятилъ впередъ, отчего вся его фигура сразу приняла явно вызывающій видъ… Усатый господинъ вновь оглянулъ его и насмѣшливо улыбнулся…
— Господа! — тихо воскликнулъ Ухтищевъ.
— Я сказалъ — ко-ко-тка… — произнесъ усатый человѣкъ, такъ двигая губами, точно онъ смаковалъ слово. — А если вы не понимаете этого — мо-огу пояснить…
— Да ужъ, — глубоко вздыхая, сказалъ Ѳома, не сводя съ него глазъ, — вы объясните…
Ухтищевъ всплеснулъ руками и сунулся куда-то въ сторону отъ нихъ…
— Кокотка, если вамъ угодно знать, — продажная женщина… — вполголоса сказалъ усатый, приближая къ Ѳомѣ свое большое, толстое лицо.
Ѳома тихо зарычалъ и, прежде, чѣмъ тотъ успѣлъ отшатнуться отъ него, правой рукой вцѣпился въ курчавые съ просѣдью волосы усатаго человѣка. Судорожнымъ движеніемъ руки онъ началъ раскачивать его голову и все большое, грузное тѣло, а лѣвую руку поднялъ вверхъ и глухимъ голосомъ приговаривалъ въ тактъ трёпки:
— За глаза… не ругайся… а ругайся… въ глаза прямо… въ глаза… прямо въ глаза..
Онъ испытывалъ жгучее наслажденіе, видя, какъ смѣшно размахиваютъ въ воздухѣ толстыя руки, и какъ ноги человѣка, котораго онъ трепалъ, подкашиваются подъ нимъ, шаркаютъ по полу. Золотые часы выскочили изъ кармана и катались по круглому животу, болтаясь на цѣпочкѣ. Опьяненный своей силой и униженіемъ этого солиднаго человѣка, полный кипучаго чувства злорадства, весь вздрагивая отъ счастья мстить, Ѳома возилъ его по полу и глухо, злобно рычалъ въ дикой радости. Онъ въ эти минуты переживалъ огромное чувство — чувство освобожденія отъ скучной тяжести, давно уже стѣснявшей грудь его тоскою и недомоганьемъ. Онъ чувствовалъ, что его схватили сзади за талію и плечи, схватили за руку и гнутъ ее, ломаютъ, что кто-то давитъ ему пальцы на ногѣ, но онъ ничего не видалъ, слѣдя налитыми кровью глазами за темной и тяжелой массой, стонавшей, извиваясь, подъ его рукой… Наконецъ его оторвали, навалились на него, и, какъ сквозь красноватый дымъ, онъ увидѣлъ предъ собой, на полу, у ногъ своихъ, избитаго имъ человѣка. Растрепанный, взъерошенный, онъ двигалъ по полу ногами, пытаясь встать; какіе-то двое черныхъ людей держали его подмышки, руки его висѣли въ воздухѣ, какъ надломленныя крылья, и онъ, клокочущимъ отъ рыданія голосомъ, кричалъ Ѳомѣ:
— Меня бить… нельзя! Нельзя! Я имѣю орденъ… подлецъ! О, подлецъ! У меня дѣти… меня всѣ знаютъ! Мер-рзавецъ!… Дикарь… о-о-о! Дуэль тебѣ!
А Ухтищевъ звонко говорилъ прямо въ ухо Ѳомѣ:
— Пойдемте! Голубчикъ, Бога ради…
— Погоди, я дамъ ему въ рожу пинка… — попросилъ Ѳома. Но его потащили куда-то. Въ ушахъ его звенѣло, сердце билось быстро, но онъ чувствовалъ себя легко и хорошо. И на подъѣздѣ клуба, глубоко и свободно вздохнувъ, онъ сказалъ Ухтищеву, добродушно улыбаясь:
— Здорово я ему задалъ, а?
— Слушайте! — возмущенно воскликнулъ веселый секретарь. — Это, извините, дико! Это чортъ возьми… я первый разъ вижу!
— Милый человѣкъ! — ласково сказалъ Ѳома. — Аль онъ не стоитъ трёпки-то? Не подлецъ онъ? Какъ можно за глаза сказать такое? Нѣтъ, ты къ ней поди и ей скажи… самой ей, прямо…
— Позвольте… дьяволъ васъ возьми! Да вѣдь не за нее же только вы его отдули?
— То-есть, какъ не за нее? А за кого? — удивился Ѳома.
— За кого? Я не знаю… очевидно у васъ были счеты! Фу, Господи! Вотъ сцена! Вовѣки не забуду!
— Онъ, этотъ самый, кто такой? — спросилъ Ѳома и вдругъ засмѣялся. — Какъ онъ кричалъ… дуракъ!
Ухтищевъ пристально взглянулъ въ лицо и спросилъ его:
— Скажите — вы въ самомъ дѣлѣ не знаете, кого били? И дѣйствительно, за Софью Павловну только?
— Вотъ ей Богу! — побожился Ѳома.
— Такъ… Чортъ знаетъ что такое!… — Онъ остановился, съ недоумѣніемъ пожалъ плечами и, махнувъ рукой, вновь зашагалъ по тротуару, искоса поглядывая на Ѳому. — Вы за это поплатитесь, Ѳома Игнатьевичъ…
— Къ мировому онъ меня?…
— Дай Боже, чтобы такъ… Онъ вице-губернатора зять…
— Н-ну-у!? — протянулъ Ѳома, и лицо у него вытянулось…
— Н-да-съ. Говоря по совѣсти, онъ и мерзавецъ, и мошенникъ… Исходя изъ этого факта, слѣдуетъ признать, что трёпки онъ стоитъ… Но принимая во вниманіе, что дама, на защиту коей вы выступили, тоже…
— Баринъ! — твердо сказалъ Ѳома, кладя руку на плечо Ухтищева. — Ты мнѣ всегда очень нравился… и вотъ идешь со мной теперь… Я это понимаю и могу цѣнить… Но только про нее не говори мнѣ худо… Какая бы она по-вашему ни была, — по-моему… мнѣ она дорога… для меня она — лучшая. Такъ я прямо говорю… ужъ если со мной ты пошелъ — и ее не тронь… Считаю я ее хорошей — стало быть, хороша она…
Ухтищевъ услыхалъ въ голосѣ Ѳомы большое волненіе, взглянулъ на него и задумчиво сказалъ:
— Любопытный вы человѣкъ… надо сознаться…
— Я человѣкъ простой… дикій… Побилъ вотъ и — мнѣ весело… А тамъ будь, что будетъ…
— Боюсь — нехорошо будетъ… Знаете, — откровенность за откровенность — и вы мнѣ нравитесь… хотя — гмъ! опасно съ вами… Найдетъ этакій… рыцарскій стихъ, и получишь отъ васъ выволочку…
— Ну ужъ! Чай, я еще первый разъ это… не каждый день бить людей буду… — сконфуженно сказалъ Ѳома. Его спутникъ засмѣялся.
— Экое вы… чудовище! Вотъ что — драться дико… скверно, извините меня… Но, скажу вамъ, — въ данномъ случаѣ вы выбрали удачно… Вы побили развратника, циника, паразита… и человѣка, который, ограбивъ своихъ племянниковъ, остался безнаказаннымъ.
— Вотъ и слава Богу! — съ удовольствіемъ выговорилъ Ѳома. — Вотъ я его и наказалъ немножко…
— Немножко? Ну, хорошо, положимъ, что это немножко… Только вотъ что, дитя мое… позвольте мнѣ дать вамъ совѣтъ… я человѣкъ судейскій… Онъ, этотъ Князевъ, подлецъ, да! Но и подлеца нельзя бить, ибо и онъ есть существо соціальное, находящееся подъ отеческой охраной закона. Нельзя его трогать до поры, пока онъ не преступитъ границы уложенія о наказаніяхъ… Но и тогда не вы, а мы, судьи, будемъ ему воздавать… Вы же — ужъ, пожалуйста, потерпите…
— А скоро онъ вамъ попадется въ руки-то? — наивно спросилъ Ѳома.
— Н-неизвѣстно.. Такъ какъ онъ малый не глупый, то, вѣроятно, никогда не попадется… И будетъ по вся дни живота его сосуществовать со мною и вами на одной и той же ступени равенства предъ закономъ… О, Боже, что я говорю! — комически вздохнулъ Ухтищевъ.
— Секреты выдаешь? — усмѣхнулся Ѳома.
— Не то, чтобы секреты, а… не надлежитъ мнѣ быть легкомысленнымъ… Ч-чортъ! А вѣдь… меня эта исторія оживила… Право же, Немезида даже и тогда вѣрна себѣ, когда она просто лягается, какъ лошадь…
Ѳома вдругъ остановился, точно встрѣтилъ какое-то препятствіе на пути своемъ.
— Немезида — богиня справедливости… — болталъ Ухтищевъ, — Вы что?
— А началось это вѣдь съ того — медленно и глухо договорилъ Ѳома, — что вы сказали — уѣзжаетъ она…
— Кто?
— Софья Павловна…
— Да, уѣзжаетъ… Ну-съ?
Онъ стоялъ противъ Ѳомы и съ улыбкой въ глазахъ смотрѣлъ на него. Гордѣевъ молчалъ, опустивъ голову и тыкая палкой въ камень тротуара.
— Идемте… — сказалъ Ухтищевъ.
Ѳома пошелъ, равнодушно говоря:
— Ну, и пусть уѣзжаетъ… А я одинъ…
Ухтищевъ, помахивая тросточкой, сталъ насвистывать, поглядывая на своего спутника.
— Не проживу я безъ нея? — спросилъ Ѳома, глядя куда-то предъ собой, и, помолчавъ, отвѣтилъ тихо и неувѣренно: — Еще какъ…
— Слушайте! — воскликнулъ Ухтищевъ, — я дамъ вамъ хорошій совѣтъ… человѣкъ долженъ быть самимъ собой… а вы… Вы человѣкъ эпическій, такъ сказать, и лирика къ вамъ не идетъ. Это не вашъ жанръ…
— Ты, баринъ, говори со мной попроще какъ-нибудь, — сказалъ Ѳома, внимательно прослушавъ его рѣчь.
— Попроще? Хорошо… Я хочу сказать — бросьте вы думать объ этой дамочкѣ… Она для васъ — пища ядовитая…
— Вотъ и она говорила то же… — угрюмо вставилъ Ѳома.
— Говорила?… — переспросилъ Ухтищевъ и задумался. — Гмъ… Вотъ что… А не пойти ли намъ поужинать?
— Пойдемъ, — согласился Ѳома, и вдругъ ожесточенно зарычалъ, сжавъ кулаки и взмахивая ими:
— Пойдемъ, такъ пойдемъ! И такъ я завинчу… такъ я, послѣ всего этого, раскачаюсь… держись!
— Ну, зачѣмъ же? Мы — скромненько…
— Нѣтъ, погоди! — тоскливо сказалъ Ѳома, взявъ его за плечо. — Что такое? Хуже я людей? Всѣ живутъ себѣ… вертятся, суетятся, имѣютъ каждый свой пунктъ… А мнѣ — скучно… Всѣ довольны собой… а что они жалуются — врутъ, сволочи! Это такъ они… притворяются для красы… Мнѣ притворяться нечего — я дуракъ… Я, братъ, ничего не понимаю… я, просто, жить хочу! Я думать не умѣю… мнѣ тошно… одинъ говоритъ то, другой другое… Тьфу! А она… эхъ! Зналъ бы ты… я вѣдь на нее надѣялся… я отъ нея ждалъ… чего я ждалъ… — не знаю!… Но она — самая лучшая… И я такъ вѣрилъ — скажетъ она мнѣ однажды такія свои слова… особенныя… глаза, братъ, у нея больно хороши! Господи!… Смотрѣть въ нихъ стыдно… Такъ, говорю — скажетъ она мнѣ слова… все мнѣ и объяснится… Вѣдь я не то, что съ любовью къ ней, — я къ ней со всей душой… Я искалъ… я думалъ, что коли она такая красавица, значитъ… стало быть, около нея я и стану человѣкомъ!
Ухтищевъ смотрѣлъ, какъ рвется изъ устъ его спутника тяжелая, безсвязная рѣчь, видѣлъ, какъ подергиваются мускулы его лица отъ усилія выразить мысли, и чувствовалъ за этой сумятицей словъ большое, серьезное горе. Было что-то глубоко-трогательное въ безсиліи этого здороваго и дикаго парня, который вдругъ началъ шагать по тротуару широкими, но неровными шагами. Подпрыгивая за нимъ на коротенькихъ ножкахъ, Ухтищевъ чувствовалъ себя обязаннымъ чѣмъ-нибудь успокоить Ѳому. Все, что Ѳома сказалъ и сдѣлалъ въ этотъ вечеръ, возбудило у веселаго секретаря большое любопытство къ Ѳомѣ, а потомъ онъ чувствовалъ себя польщеннымъ откровенностью молодого богача. Откровенность эта смяла его своей темной силой, онъ растерялся подъ ея напоромъ, и хотя у него, несмотря на молодость, уже были готовыя слова на всѣ случаи жизни, — онъ не скоро нашелъ ихъ.
— Мнѣ темно и тѣсно… — говорилъ Гордѣевъ, — чувствую я — валится на плечи мнѣ ноша, а что она? — понять я не могу… Стѣсняетъ… и не имѣю я отъ этого настоящаго ходу по жизни… Прислушаешься — всѣ говорятъ разно… а она — могла бы сказать…
— Э, батенька! — перебилъ Ухтищевъ Ѳому, ласково взявъ его подъ руку. — Такъ нельзя! Только что вступили вы въ жизнь и — ужъ философствуете! Нѣтъ, такъ нельзя! Жизнь — для жизни намъ дана! Значитъ — живи и жить давай другимъ… Вотъ философія! А женщина эта… ба! Да развѣ въ ней весь свѣтъ ужъ такъ и сошелся клиномъ? Я васъ, если хотите, познакомлю съ такой ядовитой штукой, что сразу отъ вашей философіи не останется въ душѣ у васъ ни пылинки! О, за-а-мѣчательный бабецъ! И какъ она умѣетъ пользоваться жизнью! Тоже, знаете, нѣчто эпическое. И красива… Фрина, могу сказать! И какъ она будетъ вамъ подъ пару! Ахъ, чортъ! Право же это блестящая идея… я васъ познакомлю! Надо клинъ клиномъ вышибать…
— Мнѣ совѣстно… — угрюмо и тоскливо сказалъ Ѳома. — Пока она жива — я на бабъ смотрѣть не могу даже…
— Такой здоровый, свѣжій человѣкъ — хо-хо! — воскликнулъ Ухтищевъ и тономъ учителя началъ убѣждать Ѳому въ необходимости для него дать исходъ его чувству въ хорошемъ кутежѣ съ участіемъ женщинъ.
— Это будетъ великолѣпно и это необходимо вамъ — повѣрьте! А совѣсть… вы меня извините! Вы нѣсколько невѣрно опредѣляете… это не совѣсть мѣшаетъ вамъ, а… робость, я думаю… Вы живете внѣ общества… застѣнчивы… и неловки. Вы смутно чувствуете все это… и вотъ это-то чувствованіе принимаете за совѣсть. О ней же въ данномъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи, — при чемъ тутъ совѣсть, когда веселиться для человѣка такъ естественно, когда это его потребность и право?
Ѳома шелъ, соразмѣряя шаги свои съ шагами спутника, и смотрѣлъ вдоль дороги. Она тянулась между двухъ рядовъ зданій, походила на огромную канаву и была полна тьмы. Казалось — ей конца нѣтъ, и по ней медленно течетъ вдаль что-то темное, неизсякаемое, мѣшающее дышать. Убѣдительно ласковый голосъ Ухтищева однотонно звучалъ въ ушахъ Ѳомы, и хотя онъ не вслушивался въ слова рѣчи, но чувствовалъ, что они какія-то клейкія, пристаютъ къ нему, и онъ невольно запоминаетъ ихъ. Несмотря на то, что рядомъ съ нимъ шелъ человѣкъ, онъ чувствовалъ себя одинокимъ, потерявшимся во тьмѣ. Она обнимала его и медленно влекла за собою, а онъ ощущалъ, какъ его тянетъ куда-то, и не имѣлъ желанія остановить себя. Какая-то усталость мѣшала ему думать, въ немъ не было желанія сопротивляться увѣщаніямъ спутника — и чего ради сопротивлялся бы онъ?…
— Не всякому полезно разсуждать, — говорилъ Ухтищевъ, помахивая въ воздухѣ тростью и нѣсколько упиваясь своей мудростью. — И если всѣ бы стали разсуждать — кто жъ будетъ жить? А живутъ всего однажды… И не мѣшаетъ поэтому торопиться жить… ей Богу, такъ! Да что тутъ говорить — вы разрѣшите мнѣ встряхнуть васъ? Поѣдемте сейчасъ въ одинъ веселый домъ… живутъ тамъ двѣ сестрицы… ахъ какъ онѣ живутъ! Рѣшайте!
— Что жъ? Я поѣду… — сказалъ Ѳома спокойно и зѣвнулъ. — Не поздно ли? — спросилъ онъ, взглянувъ на небо, покрытое тучами.
— Къ нимъ никогда не поздно! — весело воскликнулъ Ухтищевъ.
ѴІІІ.
На третій день послѣ сцены въ клубѣ, Ѳома очутился въ семи верстахъ отъ города на лѣсной пристани купца Званцева, въ компаніи сына этого купца, Ухтищева, какого-то солиднаго барина въ бакенбардахъ, съ лысой головой и краснымъ носомъ, и четырехъ дамъ… Молодой Званцевъ носилъ пенснэ, былъ худъ, блѣденъ, и когда онъ стоялъ, то икры на ногахъ у него все вздрагивали, точно имъ противно было поддерживать хилое тѣло, одѣтое въ длинное, клѣтчатое пальто съ капюшономъ, въ складкахъ котораго смѣшно болталась маленькая головка въ жокейскомъ картузѣ. Господинъ съ бакенбардами называлъ его Жаномъ и произносилъ это имя такъ, точно страдалъ застарѣлымъ насморкомъ. Дамой Жана была высокая полная женщина съ пышной грудью. Голова ея была сжата съ боковъ, низкій лобъ опрокинулся назадъ, острый и длинный носъ придавалъ ея лицу что-то птичье. И это некрасивое лицо было совершенно неподвижно, и лишь глаза на немъ — маленькіе, круглые, холодные — постоянно улыбались проницательной и хитрой улыбкой. Даму Ухтищева звали Вѣрой; это была высокая женщина, блѣдная съ рыжими волосами. Ихъ было такъ много, что, казалось, женщина надѣла на голову себѣ огромную шапку, и она съѣзжаетъ ей на уши, щёки и высокій лобъ, изъ-подъ котораго спокойно и лѣниво смотрѣли ея большіе голубые глаза.
Господинъ съ бакенбардами сидѣлъ рядомъ съ молоденькой дѣвушкой, полной, свѣжей и, не умолкая, звонко хохотавшей надъ тѣмъ, что онъ, склонясь къ плечу ея, шепталъ ей въ ухо.
А дама Ѳомы была стройная брюнетка, одѣтая во все черное. Смуглолицая съ волнистыми волосами, она держала голову такъ прямо и высоко и такъ снисходительно-гордо смотрѣла на все вокругъ нея, что было сразу видно — она себя считала первой здѣсь.
Компанія расположилась на крайнемъ звенѣ плота, выдвинутаго далеко въ пустынную гладь рѣки. На плоту были настланы доски, а посреди плота стоялъ грубо сколоченный столъ и всюду были разбросаны пустыя бутылки, корзины съ провизіей, бумажки отъ конфетъ, корки апельсинъ… Въ углу плота была насыпана груда земли, на ней горѣлъ костеръ, и какой-то мужикъ въ полушубкѣ, сидя на корточкахъ, грѣлъ руки надъ огнемъ и искоса поглядывалъ въ сторону господъ, сидѣвшихъ вокругъ стола. Господа только что съѣли стерляжью уху, и теперь на столѣ предъ ними стояли вина и фрукты.
Утомленная двухдневнымъ кутежомъ и только что оконченнымъ обѣдомъ компанія была настроена скучно. Всѣ смотрѣли на рѣку, бесѣдовали, но разговоръ то и дѣло прерывался длинными паузами. День былъ ясенъ и, по-вешнему, бодро-молодъ. Холодно-ясное небо величаво простерлось надъ мутной водою богатырски-широко разливавшейся рѣки, спокойной какъ небо и необъятной какъ море. Далекій горный берегъ былъ ласково окутанъ синеватой дымкой мглы, и въ ней, тамъ, на вершинѣ горъ, блестѣли, какъ большія звѣзды, кресты церквей. У горнаго берега рѣка была оживлена — сновали пароходы, и шумъ ихъ доносился тяжкимъ вздохомъ къ плотамъ, въ луга, гдѣ тихое теченіе волнъ наполняло воздухъ звуками, робкими и мягкими. Огромныя баржи тянулись тамъ одна за другой противъ теченія, точно свиньи чудовищныхъ объемовъ взрывали гладь рѣки. Черный дымъ тяжелыми порывами лѣзъ изъ трубъ пароходовъ и медленно таялъ въ свѣжемъ воздухѣ, полномъ яркаго свѣта солнца. Порой гудѣлъ свистокъ — какъ будто злилось и ревѣло большое животное, ожесточенное трудомъ. А въ лугахъ около плотовъ было тихо и спокойно. Одинокія деревья, затопленныя разливомъ, уже покрывались ярко-зелеными блестками листвы. Скрывая собою ихъ корни и отразивъ вершины, вода сдѣлала ихъ шарообразными, и — казалось, что при малѣйшемъ дуновеньѣ вѣтра они поплывутъ, причудливо красивыя, по зеркальному лону рѣки…
Рыжая женщина, задумчиво глядя вдаль, тихо и грустно запѣла:
Брюнетка, презрительно прищуривъ свои большіе, строгіе глаза, сказала, не глядя на нее:
— Намъ и безъ этого скучно…
— Не тронь ея… пусть поетъ! — добродушно попросилъ Ѳома, заглядывая въ лицо своей дамы. Онъ былъ блѣденъ, въ глазахъ его вспыхивали какія-то искорки, и по губамъ блуждала улыбка, неясная и лѣнивая.
— Давайте хоромъ пѣть!… — предложилъ господинъ съ бакенбардами.
— Нѣтъ, пускай вотъ онѣ двѣ споютъ! — оживленно воскликнулъ. Ухтищевъ. — Вѣра, спой эту… знаешь? „На зарѣ пойду“… какъ это? Павлинька, спойте!
Хохотунья взглянула на брюнетку и почтительно спросила ее:
— Можно спѣть, Саша?
— Я сама буду пѣть… — заявила подруга Ѳомы и, обратившись къ дамѣ съ птичьимъ лицомъ, приказала ей:
— Васса, пой со мной!
Та тотчасъ же оборвала свой разговоръ со Званцевымъ, погладила рукой горло и уставилась круглыми глазами въ лицо своей сестры. Саша встала на ноги, оперлась рукой о столъ и, гордо поднявъ голову, сильнымъ, почти мужскимъ голосомъ пѣвуче заговорила:
Ея сестра качнула головой и протяжно, жалобно, высокимъ контральто застонала:
Сверкая глазами на сестру, Саша низкими нотами крикнула:
Два голоса обнялись и поплыли надъ водой красивымъ, сочнымъ, дрожащимъ отъ избытка силы, звукомъ. Одинъ жаловался на нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядомъ жалобы своей, — рыдалъ съ унылой и безсильной скорбью, рыдалъ, слезами заливая огонь своихъ мученій. Другой — болѣе низкій и мужественный — могуче текъ въ воздухѣ, полный чувства кровной обиды и готовности мстить. Ясно выговаривая слова, онъ рвался изъ груди густою струей, и отъ каждаго слова пахло кипящей кровью, возмущенной оскорбленіемъ, отравленной обидой и мощно требовавшей мести.
жалобно пѣла Васса, закрывъ глаза.
увѣренно и грозно обѣщала Саша, бросая въ воздухъ крѣпкіе, сильные звуки, похожіе на удары… И вдругъ она, измѣнивъ темпъ пѣсни и повысивъ голосъ, запѣла такъ же протяжно, какъ и сестра, сладострастныя и ликующія угрозы:
Ѳома, облокотясь на столъ, склонилъ голову и, нахмуривъ брови, смотрѣлъ въ лицо женщины, въ черные, полузакрытые глаза ея. Устремленные куда-то вдаль, они сверкали такъ злорадно и ярко, что отъ блеска ихъ и бархатистый голосъ, изливавшійся изъ груди женщины, ему казался чернымъ и блестящимъ, какъ ея глаза. Онъ вспомнилъ ея ласки и думалъ:
„И откуда она, такая? Даже боязно съ ней…“
Ухтищевъ, прижавшись къ своей дамѣ, съ блаженнымъ лицомъ, слушалъ пѣсню и весь сіялъ отъ удовольствія. Господинъ въ бакенбардахъ и Званцевъ пили вино и тихо шептались о чемъ-то, наклонясь другъ къ другу. Рыжая женщина задумчиво разсматривала ладонь руки Ухтищева, держа ее въ своихъ рукахъ, а веселая дѣвушка стала грустной, наклонила низко голову и слушала пѣсню, не шевелясь, какъ очарованная ею. Отъ костра шелъ мужикъ. Онъ ступалъ по доскамъ осторожно, становясь на носки сапогъ, руки его были заложены за спину, а широкое бородатое лицо все преобразилось въ улыбку удивленія и какой-то наивной радости.
тоскливо просила Васса, покачивая головой. А сестра ея торжествующими и могучими нотами, выгибая грудь впередъ и еще выше вскидывая голову, закончила пѣсню:
Кончивъ пѣть, она гордо посмотрѣла вокругъ и, опустившись рядомъ съ Ѳомой, обняла его за шею сильной и твердой рукой.
— Что, хороша пѣсня?…
— Славная! — вздохнулъ Ѳома, улыбаясь ей.
Пѣсня влила ему въ сердце жажду ласки, и оно вздрагивало, еще полное красивыхъ звуковъ, но отъ прикосновенія ея руки ему стало неловко и стыдно предъ людьми.
— Браво-о! Браво, Александра Савельевна! — кричалъ Ухтищевъ, а всѣ остальные били въ ладони. Но она не обращала на нихъ вниманія и, властно обнимая Ѳому, говорила:
— Вотъ ты мнѣ и подари что-нибудь за пѣсню…
— Ладно, я подарю… — согласился Ѳома.
— Что?
— Ты скажи…
— Скажу въ городѣ… И если подаришь, что я хочу, — о, какъ я тебя любить буду!
— За подарокъ-то? — спросилъ Ѳома, недовѣрчиво усмѣхаясь. — А ты бы просто…
Она спокойно взглянула на него и, секунду подумавъ, рѣшительно сказала:
— Просто — рано… Я лгать не буду, для чего съ тобой лгать!… Я прямо говорю — люблю за деньги, за подарки… Потому что — кромѣ денегъ у мужчинъ нѣтъ ничего… Ничего они не могутъ дать больше денегъ… ничего стоющаго… Я вѣдь ужъ знаю… Можно и такъ любить… да. Ты подожди, — я присмотрюсь къ тебѣ и, можетъ, полюблю безплатно… А пока — не обезсудь… мнѣ, по моей жизни, много денегъ надо…
Ѳома слушалъ ее, улыбался и вздрагивалъ отъ близости ея крѣпкаго, стройнаго тѣла. Въ уши ему лѣзъ какой-то кислый, надтреснутый и скучный голосъ Званцева:
— Я не люблю… я не могу понять красотъ этой прославленной русской пѣсни… Что въ ней звучитъ? э? Волчій вой… голодное что-то, дикое… Э — это собачьи немощи… скотство вообще… Нѣтъ веселаго… нѣтъ шика… живыхъ и живительныхъ звуковъ… Нѣтъ, вы послушайте, что и какъ поетъ мужикъ-французъ… а! Или — итальянецъ…
— Позвольте, Иванъ Николаевичъ… — возмущенно кричалъ Ухтищевъ.
— Я долженъ съ этимъ согласиться — русская пѣсня однообразна и тускла… въ ней нѣтъ, знаете, этого блеска культуры… — прихлебывая вино изъ стакана, съ грустью говорилъ человѣкъ съ бакенбардами.
— Зато въ ней всегда живое сердце есть… — вставила рыжая дама, очищая апельсинъ.
Заходило солнце. Опускаясь гдѣ-то далеко за лѣсомъ, въ луговой сторонѣ, оно окрасило весь лѣсъ въ пурпуровыя краски и бросило на темную, холодную воду розоватыя и золотыя пятна. Ѳома смотрѣлъ туда, на эту игру солнечныхъ лучей, слѣдилъ, какъ трепетно они переливались по тихой и пустынной равнинѣ водъ, и, ловя ухомъ отрывки разговора, представлялъ себѣ слова роемъ темныхъ мотыльковъ, суетливо носившихся въ воздухѣ. Саша, положивъ голову на плечо ему, тихо говорила прямо въ ухо его рѣчь, отъ которой онъ краснѣлъ и смущался, чувствуя, что она возбуждаетъ въ немъ желаніе крѣпко обнять эту женщину и цѣловать ее безъ счета и устали. Кромѣ нея — никто не интересовалъ его изъ людей, собравшихся тутъ. Званцевъ же и баринъ были прямо противны ему…
— Ты чего глазѣешь, а? — услышалъ онъ шутливо-строгій возгласъ Ухтищева.
Ухтищевъ закричалъ на мужика. Тотъ сдернулъ съ головы картузъ, хлопнулъ имъ себя по колѣну и улыбаясь отвѣчалъ:
— Я — барыню послушать подошелъ…
— Что, хорошо поетъ?
— Ужъ что и говорить! — съ восхищеніемъ въ глазахъ, оглядывая Сашу, сказалъ мужикъ.
— То-то! — воскликнулъ Ухтищевъ.
— Бо-ольшая сила голосу въ грудяхъ у нихъ, — сказалъ мужикъ, покачивая головой…
Его слова вызвали смѣхъ дамъ, а у мужчинъ двусмысленныя рѣчи по адресу Саши.
Спокойно выслушавъ ихъ и ни словомъ не отвѣтивъ имъ, она спросила мужика:
— Ты поешь?
— Какъ мы поемъ! — махнулъ онъ рукой.
— Какія пѣсни знаешь?…
— Да всякія… я пѣть люблю…
И онъ виновато усмѣхнулся.
— Давай, споемъ со мной.
— Куда намъ! Развѣ вы мнѣ пара?
— Ну, запѣвай!
— А сѣсть мнѣ можно?
— Иди сюда, къ столу…
— Какъ это весело! — воскликнулъ Званцевъ, сморщивъ лицо.
— Если вамъ скучно — утопитесь… — сказала ему Саша, сердито сверкнувъ на него глазами.
— Нѣтъ, холодна вода… — отвѣтилъ Званцевъ, ёжась подъ ея взглядомъ.
— Какъ хотите! — пожала плечами женщина. — А ужъ пора вамъ… и воды много теперь, не всю бы вы испортили ее гнилымъ вашимъ тѣломъ…
— Фи, какъ остроумно! — прошипѣлъ юноша, отвертываясь отъ нея, и съ презрѣніемъ сказалъ: — Въ Россіи даже кокотки грубы…
Онъ обращался къ своему сосѣду, но тотъ отвѣтилъ ему лишь пьяной улыбкой. Ухтищевъ тоже былъ пьянъ. Посоловѣвшими глазами глядя въ лицо своей дамы, онъ что-то бормоталъ и не слышалъ ничего. Дама съ птичьимъ лицомъ клевала конфеты, держа коробку подъ самымъ носомъ у себя. Павлинька ушла на край плота и, стоя тамъ, кидала въ воду корки апельсина.
— Никогда я не участвовалъ въ такой нелѣпой прогулкѣ и… компаніи, — жалобно говорилъ Званцевъ сосѣду.
А Ѳома съ усмѣшкой слѣдилъ за нимъ и былъ доволенъ тѣмъ, что этотъ хилый и некрасивый человѣкъ скучаетъ, и тѣмъ, что Саша обидѣла его. Онъ ласково и одобрительно поглядывалъ на свою подругу, — нравилось ему то, что она говоритъ со всѣми такъ прямо я держится гордо, какъ настоящая барыня.
Мужикъ усѣлся на доски у ногъ ея, обнялъ колѣни свои руками, поднялъ къ ней лицо и серьезно слушалъ ея рѣчь.
— Ты поднимай голосъ выше, когда я понижаю… понялъ?
— Понялъ… только… барыня? Ты бы поднесла мнѣ для ради храбрости?!
— Ѳома, поднеси ему стаканъ!
И когда мужикъ, выпивъ, вкусно крякнулъ, облизалъ губы и сказалъ: „Могу теперь“… она скомандовала, нахмуривъ брови:
— Начинай…
Скосивъ ротъ на сторону и поднявъ глаза вверхъ, къ лицу ея, мужикъ высокимъ теноромъ затянулъ:
Вздрогнувъ всѣмъ тѣломъ, женщина трепетно и съ ужасающей тоской зарыдала:
Мужикъ сладко улыбнулся, заболталъ головой и, закрывъ глаза, пролилъ въ воздухъ дрожащую струю высокихъ нотъ:
А женщина, вздрагивая и изгибаясь, застонала и заплакала:
Понижая голосъ и раскачиваясь, мужикъ съ изумительной силой выраженія скорби пропѣлъ-сказалъ:
Когда два голоса, рыдая и тоскуя, влились въ тишину и свѣжесть вечера — вокругъ стало какъ будто теплѣе и лучше; все какъ бы улыбнулось скорбной улыбкой состраданія горю человѣка, котораго темная сила рветъ изъ родного гнѣзда въ чужую сторону, на тяжкій трудъ и униженія. Точно не звуки, не пѣсня, а тѣ горячія слезы человѣческаго сердца, на которыхъ выкипѣла эта жалоба, — сами слезы увлажили воздухъ. Безумная тоска и боль отъ язвъ души и тѣла, измученныхъ въ борьбѣ съ суровой жизнью, глубокія страданія отъ ранъ, нанесенныхъ человѣку желѣзной рукой нужды, — все это было вложено въ простыя, грубыя слова и передавалось невыразимо тоскливыми звуками далекому пустому небу, въ которомъ никому и ничему нѣтъ эха.
Отшатнувшись отъ пѣвцовъ, Ѳома смотрѣлъ на нихъ съ чувствомъ, близкимъ къ испугу, а пѣсня кипящей волной вливалась ему въ грудь, и бѣшеная сила тоски, вложенная въ нее, до боли сжимала ему сердце. Онъ чувствовалъ, что сейчасъ изъ груди у него хлынутъ слезы, въ горлѣ у него щипало и лицо вздрагивало. Онъ смутно видѣлъ черные глаза Саши — неподвижные и мрачно блестѣвшіе, они казались ему огромными и становились все больше. И ему казалось, что поютъ не двое людей — все вокругъ ноетъ и рыдаетъ, дрожитъ и трепещетъ въ мукахъ скорби, безумно рвется куда-то, брызжетъ горячими слезами, и все живое обнялось однимъ крѣпкимъ объятіемъ отчаянія. Онъ самъ поетъ вмѣстѣ со всѣми — съ людьми, рѣкой и съ дальнимъ берегомъ, откуда долетаютъ тяжелые вздохи и сливаются съ пѣсней.
Вотъ мужикъ сталъ на колѣни и, глядя на Сашу, взмахиваетъ руками, а она наклонилась къ нему и качаетъ головой въ тактъ взмахамъ его рукъ. Оба они поютъ безъ словъ, одними звуками, и Ѳомѣ все не вѣрится, что только двѣ груди съ такой могучей силой льютъ въ воздухъ эти стоны и рыданья.
Когда они кончили пѣть, онъ, вздрагивая отъ возбужденія, съ мокрымъ отъ слезъ лицомъ, смотрѣлъ на нихъ и жалко улыбался.
— Что — тронуло? — спросила Саша. Блѣдная отъ усталости, она дышала тяжело и быстро. Ѳома взглянулъ на мужика. Тотъ вытиралъ свой потный лобъ и оглядывался вокругъ себя такими растерянными глазами, какъ будто не понималъ — что случилось.
Было тихо. Всѣ сидѣли неподвижно и молчали.
— Ахъ, Господи! — вздохнулъ Ѳома, поднимаясь на ноги. — Эхъ, Саша! Мужикъ! Кто ты такой? — почти крикнулъ онъ.
— А я — Степанъ… — смущенно улыбаясь сказалъ мужикъ и тоже поднялся. — Степанъ я… какъ же!
— Какъ ты поешь! а! — съ изумленіемъ восклицалъ Ѳома, тревожно переминаясь на одномъ мѣстѣ.
— Э-эхъ, ваше степенство! — вздохнулъ мужикъ, и тихо, убѣдительно сказалъ: — Горе заставитъ — быкъ соловьемъ запоетъ… А вотъ барыня съ чего поетъ, такъ… это ужъ Богу одному извѣстно… а поетъ она — всѣми жилами… то-есть, прямо — ложись и помирай съ тоски! Н-ну, барыня…
— Спѣт-то очень хорошо! — сказалъ Ухтищевъ пьянымъ голосомъ.
— Нѣтъ, это… чортъ знаетъ что! — раздраженно и почти со слезами закричалъ вдругъ Званцевъ, вскакивая изъ-за стола. — Я пріѣхалъ гулять… я хочу веселиться, а меня отпѣваютъ!… Что за безобразіе! Я не хочу больше… я уѣзжаю!
— Жанъ! Я тоже уѣзжаю… и мнѣ скучно… — заявилъ господинъ съ бакенбардами.
— Васса! — кричалъ Званцевъ на свою даму. — Одѣвайся!…
— Да, пора ѣхать, — спокойно сказала Ухтищеву его рыжая дама. — Холодно… и скоро уже будетъ темно…
— Степанъ! собирай все, — командовала Васса.
Всѣ засуетились, всѣ заговорили о чемъ-то; Ѳома смотрѣлъ на нихъ недоумѣвающими глазами и все вздрагивалъ. Люди, покачиваясь на ногахъ, ходили по плотамъ, блѣдные, утомленные и говорили другъ другу что-то нелѣпое, безсвязное. Саша безцеремонно толкала ихъ, собирая свои вещи.
— Степанъ! Крикни лошадей…
— А я-а… выпью еще коньяку… кто хочетъ еще коньяку со мной? — тянулъ блаженнымъ голосомъ господинъ съ бакенбардами, держа въ рукахъ бутылку.
Васса укутывала шею Званцева шарфомъ. Онъ стоялъ передъ нею, капризно выпятивъ губы, сморщенный, недовольный, и икры его вздрагивали. Ѳомѣ стало противно смотрѣть на нихъ, и онъ отошелъ на другой плотъ. Его удивляло то, что всѣ эти люди ведутъ себя такъ, точно они и не слышали пѣсни. Въ его груди она жила и вызывала въ ней къ жизни безпокойное желаніе что-то сдѣлать, о чемъ-то говорить. Но говорить ему было не съ кѣмъ.
Уже солнце зашло, и даль окуталась синимъ туманомъ. Ѳома посмотрѣлъ туда и отвернулся въ сторону. Ему не хотѣлось ѣхать въ городъ съ этими людьми и оставаться съ ними здѣсь онъ не хотѣлъ. А они все расхаживали по плоту неровными шагами, качаясь изъ стороны въ сторону и бормоча безсвязныя слова. Женщины были трезвѣе мужчинъ, лишь рыжая долго не могла подняться со скамьи и, наконецъ, поднявшись, объявила:
— Ну, я пьяна…
Ѳома сѣлъ на обрубокъ дерева и, поднявъ топоръ, которымъ мужикъ рубилъ дрова для костра, сталъ играть имъ, подбрасывая его въ воздухъ и ловя.
— Ахъ, Боже мой… какъ это пошло! — раздался капризный возгласъ Званцева.
Ѳома почувствовалъ, что ненавидитъ его… и его, и всѣхъ, кромѣ Саши, возбуждавшей въ немъ какое-то смутное чувство, въ которомъ было и удивленіе предъ нею, и боязнь, что она можетъ сдѣлать что-то неожиданное и страшное.
— С-скотина! — визгливо крикнулъ Званцевъ, и Ѳома увидѣлъ, что онъ толкнулъ въ грудь мужика, послѣ чего мужикъ снялъ виновато шапку и отошелъ въ сторону…
— Ду-уракъ! — шагая за нимъ и взмахивая рукой, кричалъ Званцевъ.
Ѳома вскочилъ на ноги и громко, угрожающе сказалъ:
— Ты! Не тронь его!
— Что-о? — обернулся Званцевъ къ нему.
— Степанъ, поди сюда! — позвалъ Ѳома.
— Мужикъ! — презрительно кинулъ Званцевъ, глядя на Ѳому.
Ѳома приподнялъ плечи, шагнулъ къ нему… И вдругъ въ головѣ его ярко вспыхнула одна мысль! Онъ злорадно усмѣхнулся и тихо спросилъ Степана:
— Въ трехъ мѣстахъ звено счалено?
— Въ трехъ, какъ же!
— Руби связи…
— А они?…
— Молчи! Руби…
— Да вѣдь…
— Руби! Тише… чтобы не замѣтили.
Мужикъ взялъ въ руки топоръ, не торопясь подошелъ къ тому мѣсту, гдѣ звено плотно было связано съ другимъ звеномъ, и нѣсколько разъ стукнувъ топоромъ, воротился къ Ѳомѣ.
— Я, ваше степенство, не въ отвѣтѣ, — сказалъ онъ.
— Не бойся…
— Поѣхали… — прошепталъ мужикъ со страхомъ и торопливо перекрестился. А Ѳома смотрѣлъ, тихонько посмѣиваясь, и испытывалъ жуткое чувство, остро и жгуче щекотавшее ему сердце какой-то странной, пріятной и сладкой боязнью.
Люди на плоту все еще расхаживали, двигаясь медленно, сталкиваясь другъ съ другомъ, помогая одѣваться дамамъ, смѣясь и разговаривая, а плотъ тихонько, нерѣшительно повертывался на водѣ.
— Ежели ихъ на караванъ снесетъ, — шепталъ мужикъ, — на пыжи ткнутся — разобьетъ вдрызгъ…
— Молчи…
— Утопнутъ…
— Лодку подашь, догонишь…
— Вотъ!… Спасибо… А то что такъ-то? Все-таки люди вѣдь… И за нихъ отвѣчать надо… — Довольный, радостно усмѣхаясь, мужикъ прыжками бросился по плотамъ къ берегу. А Ѳома стоялъ надъ водой, и ему страстно хотѣлось крикнуть что-нибудь, но онъ удерживался, желая, чтобы плотъ отплылъ подальше, и эти пьяные люди не могли перепрыгнуть съ него на причаленныя звенья. Онъ ощущалъ пріятное, ласкавшее его чувство, видя, какъ плотъ тихо колеблется на водѣ и уходитъ отъ него съ каждой секундой все дальше. Вмѣстѣ съ людьми на плоту и изъ груди его какъ бы уплывало все то тяжелое и темное, чѣмъ онъ наполнилъ ее за это время. Онъ спокойно вдыхалъ свѣжій воздухъ и вмѣстѣ съ нимъ что-то здоровое, отрезвляющее его голову. На самомъ краю уплывавшаго плота стояла спиной къ Ѳомѣ Саша; онъ смотрѣлъ на ея красивую фигуру и невольно вспоминалъ о Медынской. Та была меньше ростомъ… Вспоминаніе о ней укололо его, и онъ громкимъ насмѣшливымъ голосомъ крикнулъ:
— Эй вы! Прощайте… ха-ха-ха!…
Темныя фигуры людей вдругъ и всѣ сразу двинулись къ нему и сбились въ кучу, на срединѣ плота. Но уже между ними и Ѳомой холодно блестѣла полоса воды шириною почти въ сажень. Нѣсколько секундъ длилось молчаніе…
И вдругъ на Ѳому полетѣлъ цѣлый ураганъ звуковъ визгливыхъ, полныхъ животнаго страха, противно-жалобныхъ, а выше всѣхъ и всѣхъ противнѣй рѣзалъ ухо тонкій, дребезжащій крикъ Званцева:
— Спа-асите…
Кто-то — должно быть, солидный господинъ съ бакенбардами — ревѣлъ басомъ:
— Топятъ… топятъ людей…
— Развѣ вы люди?! — зло крикнулъ Ѳома, раздраженный криками, которые точно кусали его.
А люди въ безуміи страха метались по плоту; онъ колебался подъ ихъ ногами, отъ этого плылъ быстрѣе, и было слышно, какъ возмущенная вода плещетъ на него и хлюпаетъ подъ нимъ. Крики рвали воздухъ, люди прыгали, взмахивали руками, и лишь стройная фигура Саши неподвижно и безмолвно стояла на краю плота.
— Кланяйтесь ракамъ! — кричалъ Ѳома. — Ему все легче и веселѣе становилось по мѣрѣ того, какъ плотъ уходилъ дальше.
— Ѳома Игнатьевичъ! — нетвердымъ, но трезвымъ голосомъ заговорилъ Ухтищевъ, — смотрите, это опасная шутка… Я буду жаловаться…
— Когда утонешь? Жалуйся! — весело отвѣтилъ Ѳома.
— Ты убійца… — рыдая, вскричалъ Званцевъ. Но въ это время раздался звучный плескъ воды, точно она ахнула отъ испуга или удивленія. Ѳома вздрогнулъ и замеръ. Потомъ раздался опьяняющій, дикій вой женщинъ, полные ужаса возгласы мужчинъ, и всѣ фигуры на плоту замерли, кто какъ стоялъ. И Ѳома, глядя на воду, чувствовалъ себя окаменѣвшимъ. А по водѣ къ нему плыло что-то черное, окружая себя брызгами…
Скорѣе инстинктивно, а не сознательно, Ѳома бросился грудью на брёвна плота и протянулъ руки впередъ, свѣсивъ надъ водой голову. Прошло нѣсколько невѣроятно долгихъ секундъ… Холодныя, мокрыя руки охватили его шею и темные глаза блеснули передъ нимъ… Тогда онъ понялъ — это была Саша.
Тупой страхъ, овладѣвшій имъ вдругъ, исчезъ, смѣнившись дикой мятежной радостью. Онъ схватилъ женщину за талію, вырвавъ ее изъ воды, прижалъ къ груди и съ удивленіемъ, не зная, что сказать ей, смотрѣлъ въ ея глаза. Они ласково улыбнулись ему…
— Холодно мнѣ… — сказала Саша тихо и вздрогнула всѣмъ тѣломъ.
Ѳома счастливо засмѣялся при звукѣ ея голоса, вскинулъ ее на руки и быстро, почти бѣгомъ, бросился по плотамъ къ берегу. Она была мокрая и холодная, какъ рыба, но ея дыханіе было горячо, оно жгло щеку Ѳомы и наполняло грудь его буйной радостью.
— Ты утопить меня хотѣлъ? — говорила она, крѣпко прижимаясь къ нему. — Рано еще… погоди…
— Какъ это ты хорошо сдѣлала, — бормоталъ Ѳома на бѣгу. — Молодчина!
— Ну, и ты не худо выдумалъ… хоть съ виду ты такой… смирный…
— А тѣ — все еще орутъ, ха-ха!
— Чортъ съ ними! Утонутъ — мы съ тобой въ Сибирь пойдемъ… — сказала женщина такъ, точно она хотѣла этими словами утѣшить и ободрить его. Она начала дрожать, и дрожь ея тѣла, ощущаемая Ѳомой, заставила его ускорить свой бѣгъ.
Съ рѣки вслѣдъ имъ неслись вопли и крики о помощи. Тамъ, по спокойной водѣ, удаляясь отъ берега къ струѣ главнаго теченія рѣки, плылъ въ сумракѣ маленькій островъ, и на немъ метались темныя человѣческія фигуры.
Ночь надвигалась на нихъ.
IX.
Однажды въ полдень, въ воскресенье, Яковъ Тарасовичъ Маякинъ пилъ чай у себя въ саду и разговаривалъ съ дочерью. Разстегнувъ воротъ рубахи и обмотавъ шею полотенцемъ, онъ сидѣлъ на скамьѣ подъ навѣсомъ зелени вишенъ, размахивалъ руками въ воздухѣ, отирая потъ съ лица, и немолчно разсыпалъ въ воздухѣ быструю рѣчь.
— И дуракъ, и подлецъ тотъ человѣкъ, который позволяетъ брюху имѣть власть надъ собой! Али лучше питья да жратвы нѣтъ ничего на свѣтѣ? Чѣмъ ты передъ людьми погордишься, ежели ты — какъ свинья?
Глаза старика блестѣли раздраженно и злобно, губы презрительно кривились, и морщины его темнаго лица вздрагивали.
— Былъ бы Ѳомка сынъ мой родной — я бъ его вышколилъ!
Играя вѣткой акаціи, Любовь молча слушала рѣчь отца, внимательно и пытливо поглядывая на его возмущенное, дрожащее лицо. Становясь старше, она незамѣтно для себя измѣняла недовѣрчивое и холодное отношеніе къ старику. Въ его словахъ ей все чаще слышался тотъ же смыслъ, который былъ и въ книжкахъ, и это подкупало ее въ пользу отца, невольно наставляя дѣвушку предпочитать его живую рѣчь холоднымъ буквамъ книги. Всегда кипѣвшій въ дѣлахъ, всегда бойкій и умный, онъ одиноко шелъ по своему пути, а она видѣла его одиночество, знала, какъ тяжело оно, и ея отношенія къ отцу становились теплѣе. Уже порой она вступала въ споры со старикомъ; онъ всегда относился къ ея возраженіямъ пренебрежительно и насмѣшливо, но съ каждымъ разомъ все внимательнѣй и мягче.
— Если бъ да покойникъ Игнатъ прочиталъ въ газетѣ о безобразной жизни своего сына — убилъ бы онъ Ѳомку! — говорилъ Маякинъ, ударяя кулакомъ по столу. — Вѣдь какъ расписали? Срамъ!
— За дѣло! — сказала Любовь.
— Я не говорю — зря! Облаяли, какъ и слѣдовало… И кто это разошелся?
— Не все ли вамъ равно? — спросила дѣвушка.
— Любопытно… Бойко, жуликъ, изобразилъ онъ Ѳомкино поведеніе… Видимо — самъ съ нимъ гулялъ и всему его безобразію свидѣтелемъ былъ…
— Н-ну, онъ не станетъ съ Ѳомой гулять! — убѣжденно сказала Любовь и густо покраснѣла подъ пытливымъ взглядомъ отца.
— Ишь ты! Ха-арошія знакомства у тебя, Любка! — юмористически-ядовито сказалъ Маякинъ. — Ну, кто это писалъ?
— Зачѣмъ вамъ, папаша?
— Чай, скажи!
Ей не хотѣлось говорить, но отецъ настаивалъ, и голосъ его становился все суше и сердитѣй. Тогда она безпокойно спросила его:
— А вы ему ничего не сдѣлаете?
— Я? Я ему… голову откушу! Ду-реха! Что я могу сдѣлать? Они, эти писатели, неглупый народъ и потому — тоже сила… сила, черти! А я не губернаторъ… да и тотъ ни руку вывихнуть, ни языка связать не можетъ… Они, какъ мыши, грызутъ насъ помаленьку… и травить ихъ приходится не спичками, а рублями… н-да! Ну, такъ кто же это?
— А помните, когда я училась, гимназистъ ходилъ къ намъ, Ежовъ? черненькій такой…
— Мм… Видалъ, какъ же! Знаю… Такъ это онъ?
— Онъ…
— Мышенокъ!… И въ ту пору видно уже было, что выйдетъ изъ него… непутевое… И въ ту пору помѣхой людямъ былъ… Шустрый мальчишка… Надо бы мнѣ тогда заняться имъ… можетъ, человѣкомъ вышелъ бы…
Любовь непріязненно усмѣхнулась, взглянувъ на отца, и съ задоромъ спросила:
— А развѣ тотъ, кто въ газетахъ пишетъ, не человѣкъ?
Старикъ долго не отвѣчалъ дочери, задумчиво барабаня пальцами по столу и разсматривая свое лицо, отраженное въ ярко начищенной мѣди самовара. Потомъ, поднявъ голову, онъ прищурилъ глаза и внушительно, съ азартомъ сказалъ:
— Это не люди, а — нарывы! Смѣшалась кровь въ людяхъ русскихъ, смѣшалась, испортилась, и отъ дурной крови явились въ ней всѣ эти книжники-газетчики, лютые фарисеи… Нарвало ихъ вездѣ и все больше нарываетъ… Порча крови — отчего? Отъ медленности движенія… Комары, напримѣръ, откуда? Отъ болота… Въ стоячей водѣ всякая нечисть заводится… И въ неустроенной жизни то же самое…
— Вы не то говорите, папаша! — мягко сказала Любовь.
— Это какъ же — не то?
— Писатели — люди самые безкорыстные… это — свѣтлыя личности! Имъ вѣдь ничего не надо — имъ только справедливости… только правды!… Они не комары…
Любовь волновалась, расхваливая возлюбленныхъ ею людей; ея лицо вспыхнуло румянцемъ, и глаза смотрѣли на отца съ такимъ чувствомъ, точно она просила вѣрить ей, будучи не въ состояніи убѣдить.
— Э-эхъ ты! — со вздохомъ сказалъ старикъ, перебивая ее. — Начиталась! Отравилась! Ты мнѣ скажи — кто они? Неизвѣстно! Ежовъ вотъ… что онъ такое? Нашему Богу — бя! Только правды имъ надо, — скажете?! Ишь скромники какіе?! А если она, правда-то, самое дорогое и есть?… Ежели ее, можетъ быть, каждый молча ищетъ? Ты мнѣ повѣрь — безкорыстнымъ человѣкъ не можетъ быть… за чужое онъ не станетъ биться… а ежели бьется — дуракъ ему имя, и толку отъ него никому не будетъ! Нужно, чтобъ человѣкъ за себя встать умѣлъ… за свое кровное… тогда онъ — добьется! Во-отъ! Правда! Я почти сорокъ лѣтъ одну и ту же газету читаю и хорошо вижу… вотъ предъ тобой моя рожа, а предо мной — на самоварѣ вонъ — тоже моя, но другая… Вотъ газеты эти самоварную рожу всему и придаютъ, а настоящей не видятъ… А ты имъ вѣришь… А я знаю — въ самоварѣ моя рожа испорчена. Настоящей правды никому нельзя сказать: у человѣка для этого — глотка тонка… да и невѣдома она никому, настоящая-то правда…
— Папаша! — тоскливо воскликнула Любовь. — Но вѣдь въ книгахъ и газетахъ защищаютъ общіе интересы, всѣхъ людей.
— А въ какой газетѣ написано про то, что тебѣ жить скучно и давно ужъ замужъ пора? Вотъ-те и не защищаютъ твоего интересу! эхъ ты! Да и моего не защищаютъ… кто знаетъ, чего я хочу? кто, кромѣ меня, интересы мои понимаетъ?
— Нѣтъ, папаша, это все не то, не то! Я не умѣю возразить вамъ, но я чувствую — это не такъ! — говорила Любовь почти съ отчаяніемъ.
— То самое! — твердо говорилъ ей старикъ. — Смутилась Россія, и нѣтъ въ ней ничего стойкаго: все пошатнулось! Всѣ набекрень живутъ, на одинъ бокъ ходятъ, никакой стройности въ жизни нѣтъ… Орутъ только всѣ на разные голоса. А кому чего надо — никто того не понимаетъ! Туманъ на всемъ… туманомъ всѣ дышатъ, оттого и кровь протухла у людей… оттого и нарывы… Дана людямъ большая свобода умствовать, а дѣлать ничего не позволено — отъ этого человѣкъ не живетъ, а гніетъ и воняетъ…
— Что же надо дѣлать? — спросила Любовь, облокачиваясь на столъ и наклоняясь къ отцу.
— Все! — азартно крикнулъ старикъ. — Все дѣлай!… Валяй, кто во что гораздъ! А для того — надо дать волю людямъ… полную свободу! Ужъ коли настало такое время, что всякій шибздикъ полагаетъ про себя, будто онъ — все можетъ и сотворенъ для полнаго распоряженія жизнью — дать ему, стервецу, свободу! На, сукинъ сынъ, живи! Ну-ка, живи! А-а! Тогда воспослѣдуетъ такая комедія: почуявъ, что узда съ него снята, — зарвется человѣкъ выше своихъ ушей и перомъ полетитъ и туда и сюда… Чудотворцемъ себя возомнитъ и начнетъ онъ тогда духъ свой испущать…
Старикъ сдѣлалъ паузу и съ ехидной улыбкой, понизивъ голосъ, продолжалъ:
— А духа этого самаго строительнаго со-овсѣмъ въ немъ малая толика! Попыжится это онъ день-другой, потопорщится во всѣ стороны и — въ скорости ослабнетъ, бѣдненькій! Сердцевина-то гнилая въ немъ… хе-хе-хе! Ту-утъ его, — хе-хе-хе! — голубчика, и поймаютъ настоящіе, достойные люди, тѣ настоящіе люди, которые могутъ… дѣйствительными штатскими хозяевами жизни быть… которые будутъ жизнью править не палкой, не перомъ, а пальцемъ да умомъ. Что, скажутъ, устали, господа? Что, скажутъ, не терпитъ селезенка настоящаго-то жару? Та-акъ-съ… — И, повысивъ голосъ, властнымъ тономъ старикъ закончилъ свою рѣчь:
— Ну, такъ теперь вы, такіе-сякіе, — молчать и не пищать! А то, какъ червей съ дерева, стряхнемъ васъ съ земли! Цыцъ, голубчики! Хе-хе-хе! Вотъ оно какъ произойдетъ, Любавка! Хе-хе-хе!
Старику было весело. Его морщины играли, и, упиваясь своей рѣчью, онъ весь вздрагивалъ, закрывалъ глаза и чмокалъ губами, какъ бы смакуя свою мудрость…
— Ну и тогда-то вотъ тѣ, которые верхъ въ сумятицѣ возьмутъ, — жизнь на свой ладъ, по-умному и устроятъ… Не шаля-валя пойдетъ дѣло, а какъ по нотамъ! Не доживешь до этого, жаль!…
На Любовь слова отца падали одно за другимъ, какъ петли большой крѣпкой сѣти, — падали, опутывая ее, и дѣвушка, не умѣя освободиться изъ нихъ, молчала, оглушенная рѣчами отца. Глядя въ лицо его напряженнымъ взглядомъ, она искала опоры для себя въ словахъ его и слышала въ нихъ что-то общее съ тѣмъ, о чемъ она читала въ книгахъ и что казалось ей настоящей правдой. Но злорадный, торжествующій смѣхъ отца царапалъ ей сердце, и эти морщины, что ползали по лицу его какъ маленькія, темныя змѣйки, внушали ей какую-то боязнь за себя предъ нимъ. Она чувствовала, что онъ поворачиваетъ ее куда-то въ сторону отъ того, что въ мечтахъ казалось ей такимъ простымъ и свѣтлымъ.
— Папаша! — вдругъ спросила она старика, повинуясь внезапно вспыхнувшей мысли и желанію. — Папаша! А кто… а кто, по-вашему, Тарасъ?
Маякинъ вздрогнулъ. Брови у него сердито зашевелились, онъ пристально уставился острыми глазками въ лицо дочери и сухо спросилъ ее:
— Это что за разговоръ?
— Развѣ нельзя говорить про него? — тихо и смущенно сказала Любовь.
— Не хочу я о немъ говорить… И тебѣ не совѣтую! — старикъ погрозилъ дочери пальцемъ и, сурово нахмурившись, опустилъ голову. Но, сказавъ, что не хочетъ говорить о сынѣ, онъ, должно быть, не вѣрно понялъ себя, ибо черезъ минуту молчанія заговорилъ хмуро и сердито:
— Тараска — тоже нарывъ… Дышитъ жизнь на васъ, молокососовъ, а вы настоящихъ ея запаховъ разобрать не можете и глотаете всякую дрянь, и оттого у васъ — муть въ башкахъ… И оттого неспособны вы ни къ чему и несчастны отъ неспособности… Тараска… да-а!.. Лѣтъ подъ сорокъ ему теперь… пропалъ онъ для меня!… Каторжникъ… это мой-то сынъ? Тупорылый поросенокъ… не хотѣлъ съ отцомъ говорить и — запнулся…
— Что онъ сдѣлалъ? — спросила Любовь, жадно вслушиваясь въ рѣчь старика…
— А кто это знаетъ? Онъ самъ, поди, теперь понять себя не можетъ… ежели уменъ сталъ… А должно — сталъ-таки умникомъ… не глупаго отца сынъ… и потерпѣлъ немало… Балуютъ ихъ, нигилистовъ… Мнѣ бы ихъ… я бы имъ указалъ дѣло… Въ пустыни! Въ пустынныя мѣста — шагомъ маршъ!… Ну-ка вы, умники, устройте-ка здѣсь жизнь по своему характеру! Ну-ка! А въ начальники надъ ними поставилъ бы крѣпкихъ мужичковъ… Ну-те-ка, честные господа, васъ поили, кормили, учили — чему вы научились? Пожалуйте должокъ… Н-да, я бы ломанаго гроша на нихъ не истратилъ, а весь сокъ изъ нихъ выжалъ бы — отдай! Человѣкомъ пренебрегать нельзя… въ тюрьму его посадить — мало! Ты преступилъ законъ, да и баринъ? Нѣтъ, ты мнѣ поработай… Отъ зерна одного колосъ цѣлый родится, а чтобы человѣкъ безъ пользы пропадалъ — нельзя этого допускать!… Расчетливый столяръ каждой щепочкѣ мѣсто въ дѣлѣ найдетъ — такъ и каждый человѣкъ долженъ быть израсходованъ съ пользой для дѣла и весь, до послѣдней своей жилки. Всякая дрянь въ жизни мѣсто имѣетъ, а человѣкъ никогда не дрянь… Эхъ! плохо, когда сила живетъ безъ ума, да нехорошо, когда и умъ безъ силы. Вотъ теперь Ѳомка… Кто это тамъ лѣзетъ, взгляни-ка…
Обернувшись, Любовь увидала, что по дорожкѣ сада, почтительно снявъ картузъ и кланяясь ей, идетъ Ефимъ, капитанъ „Ермака“. Лицо у него было безнадежно-виноватое и весь онъ какой-то пришибленный. Яковъ Тарасовичъ узналъ его и, сразу обезпокоившись, крикнулъ:
— Откуда? Что случилось?
— Такъ что — я къ вамъ! — сказалъ Ефимъ, съ низкимъ поклономъ остановившись у стола.
— Ну, вижу, ко мнѣ… Въ чемъ дѣло? Гдѣ пароходъ?
— Пароходъ — тамъ! — Ефимъ сунулъ рукой куда-то въ воздухъ и тяжело переступилъ съ ноги на ногу.
— Гдѣ, чортъ? Говори связно — что случилось? — гнѣвнымъ крикомъ закричалъ старикъ.
— Такъ что — несчастье, Яковъ…
— Поломались?
— Нѣтъ, Богъ спасъ…
— Сгорѣли? Ну, тяни скорѣе…
Ефимъ вобралъ въ грудь много воздуха и медленно проговорилъ:
— Баржу № 9-й утопили… разбили. Человѣку спину перешибли… а одного совсѣмъ нѣтъ, такъ что, пожалуй, утопъ… Еще человѣкъ пять убились, ну, только не такъ, чтобы ужъ очень… а все-таки, однако, нѣкоторыхъ поисзпортило…
— Та-акъ! — зловѣще измѣряя глазами капитана, протянулъ Маякинъ. — Н-ну, Ефимушка, сдеру же я съ тебя шкуру…
— Это не я! — быстро сказалъ Ефимъ.
— Не ты? — крикнулъ старикъ и весь затрясся. — Кто?
— Сами хозяинъ…
— Ѳомка?! А ты… ты что?
— Я — въ люкѣ лежалъ…
— А-а! Ты ле-ежалъ…
— Я связанный…
— Что-о? — взвизгнулъ старикъ тонкимъ голосомъ.
— Позвольте по порядку… Такъ что они были выпимши и кричатъ: ступай прочь! Я самъ буду командовать! Я говорю — не могу! Какъ я капитанъ… Связать, говорятъ, его! И, связавши, спустили меня въ люкъ, къ матросамъ… А какъ сами были выпимши, то и захотѣли пошутить… Встрѣчу намъ шелъ возъ… шесть порожнихъ баржъ подъ „Черногорцемъ“. Ѳома Игнатьичъ и загородили имъ путь… Свистали тѣ… не разъ… надо говорить правду — свистали!
— Н-ну?
— Ну, и не справились… двѣ переднія навалило на насъ… какъ онѣ вдарили въ бортъ нашей девятой… мы и вдребезги… И онѣ обѣ разбились… но намъ куда горше пришлось…
Маякинъ всталъ со стула и засмѣялся дребезжащимъ, злымъ смѣхомъ. А Ефимъ вздыхалъ, разводилъ руками и говорилъ:
— Характеръ у нихъ очень ужъ крупный… Тверезые они больше все молчатъ и въ задумчивости ходятъ, а вотъ подмочатъ виномъ свои пружины — и взовьются… Такъ что въ ту пору они и себѣ, и дѣлу не хозяинъ, а лютый врагъ — извините! И я хочу уйти, Яковъ Тарасовичъ! Мнѣ безъ хозяина — не обычно, не могу я безъ хозяина жить…
— Молчать! — сурово сказалъ Маякинъ. — Гдѣ Ѳома?
— Тамъ, на мѣстѣ… Они, тотчасъ, опосля этого случая пришли въ себя и тутъ же послали за рабочими… Поднимать будутъ баржу… чай ужъ и начали…
— Одинъ онъ тамъ? — спросилъ Маякинъ, опуская голову.
— Не… совсѣмъ… — тихо отвѣтилъ Ефимъ, искоса посмотрѣвъ на Любовь.
— Ну?
— Барыня при нихъ… черная такая…
— Такъ…
— Вродѣ какъ не въ своемъ умѣ женщина… — вздыхая сказалъ Ефимъ. — Все поетъ… очень хорошо поетъ… соблазнъ большой.
— Я тебя про нее не спрашиваю! — злобно закричалъ Маякинъ. Морщины лица его болѣзненно сморщились, и Любови показалось, что отецъ заплачетъ сейчасъ…
— Успокойтесь, папаша! — ласково попросила она. — Можетъ быть, убытокъ не великъ…
— Не великъ? — звонко крикнулъ Яковъ Тарасовичъ. — Что ты, дура, понимаешь! Развѣ баржа разбилась!? Эхъ ты! Человѣкъ разбился! Вотъ оно что! А вѣдь онъ — нуженъ мнѣ! Нуженъ онъ мнѣ, черти вы тупые!
Старикъ гнѣвно затрясъ головой и быстрыми шагами пошелъ по дорожкѣ сада къ дому…
… А Ѳома въ это время былъ верстъ за четыреста отъ крестнаго въ деревенской избѣ, на берегу Волги. Онъ только что проснулся и, лежа на полу среди избы, въ постели изъ свѣжаго сѣна, смотрѣлъ угрюмыми глазами въ окно, на небо, покрытое сѣрыми, лохматыми тучами.
Вѣтеръ рвалъ ихъ и гналъ куда-то; тяжелыя и скучныя, онѣ неслись по небу огромнымъ стадомъ, перегоняли одна другую, сливались въ сплошную массу, снова рвались на куски, въ безмолвномъ, смятеніи опускались низко къ землѣ и опять поднимались вверхъ, поглощая одна другую.
Не двигая тяжелой съ похмелья головой, Ѳома долго смотрѣлъ на нихъ и наконецъ сталъ чувствовать, что въ груди у него тоже какъ будто безмолвныя тучи ходятъ, — ходятъ, вѣютъ на сердце сырымъ холодомъ и тѣснятъ его. Въ движеніи тучъ по небу было что-то безсильное и боязливое… и въ себѣ онъ чувствовалъ такое же… Не думая, онъ представлялъ себѣ все пережитое за послѣдніе мѣсяцы.
Ему казалось, что онъ упалъ въ мутный, горячій потокъ, и вотъ его охватили темныя волны, похожія на эти тучи въ небѣ, охватили и несутъ куда-то, какъ вѣтеръ тучи… Во тьмѣ и въ шумѣ, окружавшемъ его, онъ смутно видѣлъ, что вмѣстѣ съ нимъ несутся еще какіе-то люди… сегодня не тѣ, что вчера, каждый день новые, но всѣ одинаковые и одинаково жалкіе, противные. Пьяные, шумные, жадные, они вертѣлись вокругъ него, какъ въ вихрѣ, кутили на его деньги, ругали его, дрались между собой, кричали, даже плакали не разъ. И онъ билъ ихъ. Онъ помнитъ, что однажды кого-то ударилъ по лицу, съ кого-то сорвалъ сюртукъ и бросилъ его въ воду и кто-то цѣловалъ ему руки мокрыми, холодными губами, гадкими, какъ лягушки… Цѣловалъ и съ плачемъ просилъ не убивать… Какія-то лица мелькали въ его памяти, звуки и слова звучали въ ней… Женщина, въ желтой шелковой кофтѣ, разстегнутой на груди, громкимъ, рыдающимъ голосомъ пѣла:
… Всѣ эти люди, какъ и онъ, охвачены тою же темной волной и несутся съ нею, какъ мусоръ, одичавшіе, озвѣрѣвшіе отъ чего-то… Всѣмъ имъ, какъ и ему, боязно, должно быть, заглянуть впередъ, чтобы видѣть, куда же несетъ ихъ эта бѣшено-сильная волна. И, заливая виномъ свой страхъ, они рвутся впередъ по теченію, барахтаются, орутъ, дѣлаютъ что-то нелѣпое, дурачатся, шумятъ, шумятъ, и никогда имъ не бываетъ весело. Онъ тоже все это дѣлалъ, вертясь среди нихъ… И теперь ему казалось, что дѣлалъ онъ все это изъ боязни предъ собой, для того, чтобы скорѣе миновать эту полосу жизни, или для того, чтобы не думать, что будетъ дальше?…
Среди кипучей сутолоки кутежей, въ толпѣ людей, охваченныхъ разгуломъ, смятенныхъ буйными страстями, полубезумныхъ въ стремленіи забыть себя — лишь одна Саша всегда была спокойна и ровна. Она не напивалась, она всегда говорила съ людьми твердымъ, властнымъ голосомъ, и всѣ ея движенія были одинаково увѣренны, точно этотъ потокъ не овладѣвалъ ею, а она сама управляла его бурнымъ теченіемъ. Она казалась Ѳомѣ самой умной изъ всѣхъ окружавшихъ его и самой жадной на шумъ и кутежъ; она всѣми командовала и постоянно выдумывала что-нибудь новое и со всѣми людьми говорила одинаково: съ извозчикомъ, лакеемъ и матросомъ тѣмъ же тономъ и такими же словами, какъ и съ подругами своими, и съ Ѳомой. Она была красивѣе и моложе Пелагеи, но ласки ея были какія-то молчаливыя, холодныя… Ѳомѣ думалось, что она глубоко въ сердцѣ своемъ прячетъ отъ всѣхъ что-то страшное, что никогда никого она не полюбитъ и не откроетъ всю себя. Это скрытое въ женщинѣ привлекало его къ ней чувствомъ боязливаго любопытства, огромнаго, напряженнаго интереса къ спокойной и холодной душѣ ея, темной, какъ ея глаза.
Какъ-то разъ Ѳома сказалъ ей:
— Однако, сколько мы съ тобой денегъ-то посѣяли!
Она взглянула на него и спросила:
— А куда же ихъ беречь?
— Куда, въ самомъ дѣлѣ? — подумалъ Ѳома, удивленный тѣмъ, что она такъ просто разсуждаетъ.
— Ты кто такая? — спросилъ онъ ее въ другой разъ.
— Развѣ забылъ, какъ меня зовутъ?
— Ну, вотъ еще!…
— Такъ чего жъ тебѣ надо?
— Я насчетъ происхожденія спрашиваю…
— А! Ну, ярославская я… изъ Углича, мѣщанка… Арфистка.. Что же, — слаще я для тебя буду, когда ты узналъ, кто я?
— Развѣ я узналъ? — усмѣхаясь, спросилъ Ѳома.
— Мало тебѣ! А больше — я ничего не скажу… На что? всѣ изъ одного мѣста родомъ… и люди и скоты… И что можно сказать про себя… зачѣмъ? Пустяки всѣ эти разговоры-то…Ты вотъ давай подумаемъ, какъ намъ жить сегодня?
Въ этотъ день они катались на пароходѣ съ оркестромъ музыки, пили шампанское и всѣ страшно напились. Саша пѣла какую-то особенную удивительно грустную пѣсню, и Ѳома плакалъ, какъ ребенокъ, растроганный пѣніемъ. Потомъ онъ плясалъ съ ней „русскую“, и наконецъ, вспотѣвшій и усталый, бросился въ одеждѣ за бортъ, и едва не утонулъ.
Теперь, вспоминая все это и многое другое, онъ чувствовалъ стыдъ за себя и недовольство Сашей. Онъ смотрѣлъ на ея стройную фигуру, слушалъ ровное дыханіе ея и чувствовалъ, что не любитъ эту женщину и не нужна ему она. Въ его похмельной головѣ медленно зарождались какія-то сѣрыя, тягучія мысли. Какъ будто все, что онъ пережилъ за это время, скрутилось въ немъ въ клубокъ тяжелый и сырой, и вотъ теперь клубокъ этотъ катается въ груди его, потихоньку разматывается, и его вяжутъ тонкія сѣрыя бечевки…
„Что это со мной происходитъ? — думалъ онъ. — Вотъ началъ я кутить… съ чего? Жить не умѣю… себя не понимаю… Кто я такой?“
Его поразилъ этотъ вопросъ, и онъ остановился надъ нимъ, пытаясь додуматься, почему это онъ не можетъ жить твердо и увѣренно, какъ другіе живутъ. Ему стало еще болѣе совѣстно и безпокойно отъ этой мысли, онъ завозился на сѣнѣ и съ раздраженіемъ толкнулъ локтемъ Сашу.
— Тише!… — сквозь сонъ сказала она.
— Ну, ладно… не велика барыня! — пробормоталъ Ѳома.
— Что ты?
— Ничего…
Она повернулась спиной къ нему и, сладко зѣвнувъ, заговорила лѣниво:
— Видѣла во снѣ, будто я опять арфисткой стала. Пою, будто, соло, а противъ меня стоитъ большущая, грязная собака, оскалила зубы и ждетъ, когда я кончу… А мнѣ — страшно ея… и знаю я, что она сожретъ меня, какъ только я перестану пѣть… и вотъ я все пою, пою… и вдругъ будто не хватаетъ у меня голосу… Страшно! А она — щелкаетъ зубами… Господи, помилуй!… Къ чему это?…
— Погоди болтать! — угрюмо остановилъ ее Ѳома. — Ты вотъ что скажи: что ты про меня знаешь?
— А вотъ знаю, что проснулся ты, — не поворачиваясь къ нему, отвѣтила она.
— Проснулся? Это вѣрно — проснулся я, — задумчиво молвилъ Ѳома и, закинувъ руки за голову, продолжалъ: — Оттого тебя и спрашиваю — какой я, по-твоему, человѣкъ?
— Похмельный, — зѣвнувъ отвѣтила Саша.
— Александра! — просительно воскликнулъ Ѳома, — не балуй! Ты скажи, по совѣсти, что ты обо мнѣ думаешь?
— Ничего не думаю! — сухо отвѣтила она. — Что ты пристаешь съ пустяками?
— Развѣ это пустяки? — тоскливо сказалъ Ѳома. — Эхъ вы… черти! Это самое коренное… самое нужное мнѣ.
Онъ тяжело вздохнулъ и замолчалъ. Полежавъ съ минуту тоже молча, Саша заговорила обычнымъ своимъ, равнодушнымъ голосомъ:
— Скажи ему — кто онъ такой, да почему онъ такой? Ишь ты!… Подобаетъ ли нашу сестру спрашивать про это? И съ какой это стати стану я думать о всякомъ? Мнѣ о себѣ подумать и то… некогда… а, можетъ, и не хочется…
Ѳома сухо засмѣялся и сказалъ:
— Мнѣ бы такъ-то вотъ… не хотѣть бы ничего…
Тогда женщина подняла голову съ подушки, заглянула въ лицо Ѳомы и снова легла, говоря:
— Мудришь ты… Смотри — добра отъ этого тебѣ не будетъ… Ничего я не могу сказать про тебя… Ничего нельзя вѣрнаго сказать про человѣка… кто можетъ понять его? Онъ самъ себя не знаетъ. Ну, вотъ, скажу я тебѣ — другихъ ты лучше… Что же изъ этого будетъ?
— А почему лучше? — задумчиво спросилъ Ѳома.
— Да… такъ! Пѣсню хорошую поютъ — плачешь ты… подлость человѣкъ дѣлаетъ — бьешь его… Съ женщинами — простъ, не охальничаешь надъ ними… смиренъ… ну, и удалымъ можешь быть…
Все это не удовлетворяло Ѳому.
— Не то ты говоришь! — тихо сказалъ онъ.
— Ну, я не знаю, чего тебѣ надо… А вотъ что: баржу поднимутъ — что мы будемъ дѣлать?
— Что мы можемъ дѣлать? — спросилъ Ѳома.
— Въ Нижній поѣдемъ или въ Казань?
— А зачѣмъ?
— Кутнемъ…
— Не хочу я больше кутить…
— Что же ты будешь дѣлать?
— Что? Ничего…
— Та-акъ…
И оба они долго молчали, не глядя другъ на друга.
— Тяжелый у тебя характеръ, — заговорила Саша. — Скучный характеръ…
— А все-таки я пьянствовать больше не буду! — твердо и увѣренно сказалъ Ѳома.
— Врешь! — возразила Саша спокойно.
— Вотъ увидишь! Ты что думаешь — хорошо такъ жить?
— Увижу.
— Нѣтъ, ты скажи — хорошо?
— А что лучше?
Ѳома посмотрѣлъ на нее сбоку и съ раздраженіемъ сказалъ:
— Экія у тебя слова… противныя…
— Ну, и тутъ не угодила! — усмѣхнувшись молвила Саша.
— Нар-родъ! — говорилъ Ѳома, болѣзненно сморщивъ лицо. — Какъ дерево… Живутъ тоже… а какъ? Никто не понимаетъ. Лѣзутъ куда-то… и ничего ни себѣ, ни другому сказать не могутъ… Тараканъ ползаетъ — и то онъ знаетъ, куда и зачѣмъ ему надо… а ты что? Ты куда…
— Погоди! — остановила его Саша, и спокойно спросила: — Тебѣ до меня какое дѣло? Ты отъ меня берешь, чего хочешь, а въ душу мнѣ не лѣзь!
— Въ ду-ушу! — презрительно протянулъ Ѳома. — Въ какую душу? Х-хе!
Она стала ходить по комнатѣ, собирая повсюду разбросанную одежду. Ѳома наблюдалъ за ней и былъ недоволенъ тѣмъ, что она не разсердилась на него за слова о душѣ. Лицо у нея было равнодушно и спокойно, какъ всегда, а ему хотѣлось видѣть ее злой или обиженной, хотѣлось чего-то человѣческаго отъ женщины.
— Душа! — воскликнулъ онъ, добиваясь своего. — Развѣ человѣку съ душой можно жить такъ, какъ ты живешь? Въ душѣ — огонь горитъ… стыдъ въ ней…
Она въ это время, сидя на лавкѣ, надѣвала чулки, но при его словахъ подняла голову и уставилась въ лицо ему строгими глазами.
— Что смотришь? — спросилъ Ѳома.
— Ты это зачѣмъ говоришь? — отвѣтила она ему, не спуская съ него глазъ.
— Такъ… надо мнѣ…
— Смотри — надо ли?
Въ ея вопросѣ было что-то угрожающее. Ѳома почувствовалъ робость предъ ней и уже безъ задора въ голосѣ сказалъ:
— Какъ же не говорить?
— Э-эхъ ты! — вздохнула Саша и снова принялась одѣваться.
— А что я?
— Да такъ… Ровно ты отъ двухъ отцовъ родился… Знаешь ты, что я замѣтила за людьми?
— Ну?
— Который человѣкъ самъ за себя отвѣчать не можетъ, значитъ — боится онъ себя, значитъ грошъ ему цѣна!
— Это ты про меня? — спросилъ Ѳома, помолчавъ.
— И про тебя…
Она накинула на плечи широкій розовый капотъ и, стоя среди комнаты, протянула руку къ Ѳомѣ, лежавшему у ногъ ея, говоря ему низкимъ, глухимъ голосомъ:
— О душѣ моей ты не смѣешь говорить… Нѣтъ тебѣ до нея дѣла! И потому — молчи! Я — могу говорить! Я бы, захотѣвши, сказала всѣмъ вамъ… эхъ какъ! Только — кто посмѣетъ слушать меня, если я да заговорю во весь голосъ? А есть-таки у меня слова про васъ… какъ молотки! Такъ бы по башкамъ застукала я васъ… съ ума бы вы посходили… Но хоть и мерзавцы вы всѣ — словами васъ не вылѣчишь… Васъ на огнѣ жечь надо бы… вотъ какъ сковороды въ чистый понедѣльникъ выжигаютъ…
Вскинувъ руки къ головѣ, она порывисто распустила волосы, и когда они тяжелыми черными прядями разсыпались по плечамъ ея — женщина гордо тряхнула головой и съ презрѣніемъ сказала:
— Не смотри, что я гулящая! Бываетъ — и въ грязи человѣкъ живетъ, да чище того, кто въ шелкахъ гуляетъ… Зналъ бы ты, что я про васъ, кобелей, думаю, какую злобу я имѣю противъ васъ! Отъ злобы и молчу… потому — боюсь, что если пропою вамъ ее — пусто въ душѣ будетъ… жить мнѣ нечѣмъ будетъ…
Ѳома смотрѣлъ на нее, и теперь она нравилась ему. Въ словахъ ея было что-то родственное его настроенію. Онъ, усмѣхнувшись, съ удовольствіемъ въ голосѣ и на лицѣ сказалъ ей:
— И я тоже чувствую — растетъ у меня въ душѣ что-то… Эхъ, заговорю и я своими словами, придетъ время.
— Противъ кого это? — небрежно спросила Саша.
— Я — противъ всѣхъ! — воскликнулъ Ѳома, вскакивая на ноги. — Противъ фальши… Я спрошу…
— Спроси-ка: самоваръ готовъ? — равнодушно приказала ему Саша.
Ѳома взглянулъ на нее и съ сердцемъ крикнулъ:
— Пошла ты къ чорту! Спрашивай сама…
— Ну я спрошу… Чего жъ ты лаешь?
И она ушла изъ избы…
… Вѣтеръ рѣзкими порывами леталъ надъ рѣкой, билъ въ грудь ея, и покрытая возмущенными, бурыми волнами рѣка судорожно рвалась навстрѣчу вѣтра съ шумнымъ плескомъ и вся въ пѣнѣ гнѣва. Кусты прибрежнаго ивняка низко склонялись къ землѣ, — дрожащіе, они не то хотѣли лечь на землю, не то испуганно рвались отъ нея вдаль, гонимые ударами вѣтра. Въ воздухѣ носился свистъ, вой и густой, охающій звукъ, вырывавшійся изъ десятковъ людскихъ грудей:
— Идетъ-идетъ-идетъ!
Возгласъ этотъ, краткій, какъ ударъ, и тяжелый, какъ воздухъ огромной груди, задыхающейся отъ напряженія, носился надъ рѣкой, падалъ на волны, какъ бы поощряя ихъ буйную игру съ вѣтромъ, и онѣ мощно метались на берега.
У горнаго берега стояли на якоряхъ двѣ порожнія баржи, и высокія мачты ихъ, поднявшись въ небо, тревожно покачивались изъ стороны въ сторону, какъ бы выписывая въ воздухѣ невидимый узоръ. Обѣ палубы баржъ были загромождены лѣсами, выстроенными изъ толстыхъ коричневыхъ бревенъ; повсюду висѣли огромные блоки; цѣпи и канаты спускались отъ нихъ, качаясь въ воздухѣ; звенья цѣпей слабо брякали… Толпа мужиковъ въ синихъ и красныхъ рубахахъ волокла по палубѣ большое бревно и, тяжело топая ногами, охала во всю грудь:
— Идетъ-идетъ-идетъ!
Всюду къ лѣсамъ прилѣпились большіе синіе и красные комья человѣческихъ тѣлъ; вѣтеръ, раздувая рубахи и порты, придавалъ людямъ странныя формы, дѣлая ихъ то горбатыми, то круглыми и надутыми, какъ пузыри. Люди на лѣсахъ и палубахъ баржъ что-то вязали, рубили, пилили, вбивали гвозди, и всюду мелькали большія руки, съ засученными по локти рукавами рубахъ. Вѣтеръ разносилъ въ воздухѣ щепки и разнообразный живой, бодрый шумъ: пила грызла дерево, захлебываясь отъ злой радости; сухо охали и кряхтѣли брёвна, раненыя топорами; болѣзненно трещали доски, раскалываясь подъ ударами о нихъ; ехидно взвизгивалъ рубанокъ. Желѣзный лязгъ цѣпей и стонущій скрипъ блоковъ сливались съ гнѣвнымъ шумомъ волнъ, а вѣтеръ гулко вылъ, разбрасывая надъ рѣкой шумъ работы, и гналъ по небу тучи.
— Мишка-а! Пострѣли-те горо-ой… — звонко кричали откуда-то сверху лѣсовъ. А съ палубы огромный мужикъ, закинувъ голову кверху, отвѣчалъ:
— Что-о? — и вѣтеръ, играя его длинной русой бородой, бросалъ ее въ лицо ему.
— По-одай конецъ…
Чей-то гулкій басъ оралъ точно въ рупоръ:
— Ты какъ, слѣпой чортъ, пришилъ тесину?! Не видишь? Я те протру зенки-то!
— Ре-ебя-а-тушки, бе-еремъ, давай!
— Разуда-алый ещо-о разокъ!… просительно выводилъ кто-то высокимъ голосомъ…
Ѳома, красивый и стройный, въ короткомъ драповомъ пиджакѣ и въ высокихъ сапогахъ, стоялъ, прислонясь спиной къ мачтѣ, и, дрожащей рукой пощипывая бородку, любовался бойкой работой мужиковъ. Шумъ, носившійся вокругъ него, вызывалъ въ немъ настойчивое желаніе кричать, возиться вмѣстѣ съ мужиками, рубить дерево, таскать тяжести, командовать — заставить всѣхъ обратить на себя вниманіе и показать всѣмъ свою силу, ловкость, живую душу въ себѣ. Но онъ сдерживался и стоялъ молча, неподвижно: ему было стыдно и боязно чего-то. Его стѣсняло то, что онъ хозяинъ тутъ надъ всѣми, и что если онъ примется работать самъ — никто не повѣритъ, пожалуй, что онъ работаетъ просто изъ охоты, а не для того, чтобъ подогнать ихъ, показать имъ примѣръ. И еще, пожалуй, насмѣются надъ нимъ мужики…
Русый и кудрявый парень съ разстегнутымъ воротомъ рубахи то и дѣло пробѣгалъ мимо него то съ доской на плечѣ, то съ топоромъ въ рукѣ: онъ подпрыгивалъ, какъ разыгравшійся козелъ, разсыпалъ вокругъ себя веселый, звонкій смѣхъ, шутки, крѣпкую ругань и работалъ безъ устали, помогая то одному, то другому, быстро и ловко бѣгая по палубѣ, заваленной щепами и деревомъ. Ѳома упорно слѣдилъ за нимъ и чувствовалъ зависть къ этому веселому парню, отъ котораго такъ и вѣяло чѣмъ-то здоровымъ, возбуждающимъ.
„Счастливый, должно быть…“ — думалъ Ѳома, и эта мысль вызывала въ немъ острое, колющее желаніе какъ-нибудь оборвать парня, сконфузить его. Всѣ вокругъ были охвачены пыломъ спѣшной работы, всѣ дружно и споро укрѣпляли лѣса, устраивали блоки, готовясь поднять со дна рѣки затонувшую баржу; всѣ были бодро веселы и — жили. Онъ же стоялъ въ сторонѣ отъ нихъ, не зная, что ему дѣлать, ничего не умѣя, чувствуя себя ненужнымъ въ этомъ большомъ трудѣ. Обидно было ему чувствовать себя лишнимъ среди людей, и чѣмъ больше онъ присматривался къ нимъ, тѣмъ болѣе крѣпла въ немъ эта обида. И всего больше его колола та мысль, что вѣдь вотъ — для него все это дѣлается, а однако онъ тутъ не при чемъ…
„Гдѣ же мое мѣсто? — угрюмо думалось ему. — Гдѣ мое дѣло?… Али я уродъ какой? У меня силы не меньше, чѣмъ у любого… На что же она мнѣ?“
Цѣпи звенѣли, стонали блоки, гулко раздавались надъ рѣкой удары топоровъ, и баржи покачивались подъ ударами волнъ… а Ѳомѣ казалось, что онъ качается не потому, что палуба колеблется у него подъ ногами, а потому, что не умѣетъ онъ ни на чемъ твердо стоять, не суждено ему это…
Подрядчикъ, маленькій мужичокъ съ острой сѣденькой бородкой и узенькими глазками на сѣромъ сморщенномъ лицѣ, подошелъ къ нему и сказалъ не громко, но съ какой-то особенной ясностью въ словахъ:
— Все изготовили, Ѳома Игнатьичъ, все теперь какъ слѣдоваитъ… Благословясь, начать бы…
— Ну, начинай… — кротко сказалъ Ѳома, отвертываясь въ сторону отъ проницательнаго взгляда узкихъ глазъ мужика.
— Вотъ и слава Тебѣ, Господи! — сказалъ подрядчикъ, неторопливо застегивая поддевку и пріосаниваясь. Потомъ онъ, медленно поворачивая голову, оглядѣлъ лѣса на баржахъ, раздѣленныхъ полосой воды саженъ въ пять шириной, и вдругъ звонко крикнулъ:
— По-о мѣстамъ, ребятушки!
Мужики разсыпались по баржамъ, живо столпились въ отдѣльныя плотныя группы у воротовъ, по бортамъ, и говоръ ихъ умолкъ. Нѣкоторые ловко взобрались на лѣса и молча смотрѣли оттуда, держась за веревки.
— Смотри, ребята! — раздавался звонкій и спокойный голосъ подрядчика. — Все ли какъ быть надо? Придетъ пора бабѣ родить — рубахъ ей тогда не коли шить… Ну… молись Богу!
И, бросивъ картузъ на палубу, подрядчикъ поднялъ лицо къ небу и сталъ истово креститься. И всѣ мужики, поднявъ головы къ тучамъ, тоже начали широко размахивать руками, осѣняя груди свои знаменіемъ креста. Иные молились вслухъ, и глухой, подавленный ропотъ примѣшался къ шуму волнъ:
— Господи, благослови!… Пресвятая Богородица… Никола угодникъ…
Ѳома слушалъ эти возгласы, и они ложились на душу ему, какъ тяжесть. У всѣхъ головы были обнажены, лишь одинъ онъ забылъ снять картузъ, и подрядчикъ, кончивъ молиться, внушительно посовѣтовалъ ему:
— Попросить бы и вамъ Господа-то…
— А ты знай свое дѣло… меня не учи! — сердито взглянувъ на него, отвѣтилъ Ѳома. Чѣмъ дальше шло дѣло — тѣмъ тяжелѣй и обиднѣй было ему видѣть себя лишнимъ среди этихъ спокойно увѣренныхъ въ своей силѣ людей, готовыхъ поднять для него нѣсколько десятковъ тысячъ пудовъ со дна рѣки. Ему хотѣлось, чтобъ ихъ постигла неудача, чтобы всѣ они сконфузились предъ нимъ, и въ головѣ его мелькала злая мысль:
„Можетъ, еще цѣпи порвутся…“
— Ребята! Слушай! — кричалъ подрядчикъ. — Начинай всѣ въ разъ… Господи, благослови! — И вдругъ, всплеснувъ руками въ воздухѣ, онъ пронзительно закричалъ:
— По-о-оше-о-олъ!
Рабочіе подхватили его крикъ, и всѣ въ голосъ возбужденно и съ напряженіемъ закричали:
— По-оше-олъ! Иде-отъ…
Блоки визжали и скрипѣли, гремѣли цѣпи, напрягаясь подъ тяжестью, вдругъ повисшей на нихъ, и рабочіе, упершись грудями въ ручки ворота, рычали и тяжело топали по палубѣ. Между баржъ съ шумомъ плескались волны, какъ бы не желая уступать людямъ свою добычу. Всюду вокругъ Ѳомы натягивались и дрожали въ напряженіи веревки, цѣпи и канаты, они куда-то ползли по палубѣ мимо его ногъ, какъ огромные сѣрые черви, поднимались вверхъ звено за звеномъ, съ лязгомъ падали оттуда, а оглушительный ревъ рабочихъ покрывалъ собой всѣ звуки.
— Ве-есь по-ошелъ, весь пошелъ, поше-олъ… — пѣли они стройно и торжествующе. А въ густую волну ихъ голосовъ, какъ ножъ въ хлѣбъ, вонзался и рѣзалъ ее звонкій голосъ подрядчика:
— Ребяту-ушки-и! Старайся… разо-омъ… разо-омъ…
Ѳомой овладѣло странное волненіе: ему страстно захотѣлось влиться въ этотъ возбужденный ревъ рабочихъ, широкій и могучій какъ рѣка, въ этотъ раздражающій скрипъ, визгъ, лязгъ желѣза и буйный плескъ волнъ. У него отъ силы желанія выступилъ потъ на лицѣ, и вдругъ, оторвавшись отъ мачты, онъ большими прыжками бросился къ вороту, блѣдный отъ возбужденія.
— Разо-омъ! разо-омъ… — кричалъ онъ дикимъ голосомъ. Добѣжавъ до ручки ворота, онъ съ размаха ткнулся объ нее грудью и, не чувствуя боли, съ ревомъ началъ ходить вокругъ ворота, мощно упираясь ногами въ палубу. Что-то могучее, горячее лилось въ грудь ему, заступая мѣсто тѣхъ усилій, которыя онъ тратилъ, ворочая рычагъ! Невыразимая радость бушевала въ немъ и рвалась наружу возбужденнымъ крикомъ. Ему казалось, что онъ одинъ, только своей силой ворочаетъ рычагъ, поднимая тяжесть, и что сила его все растетъ. Согнувшись и опустивъ голову, онъ какъ быкъ шелъ навстрѣчу силѣ тяжести, откидывавшей его назадъ, но уступавшей ему все-таки. Каждый шагъ впередъ все больше возбуждалъ его, каждое потраченное усиліе тотчасъ же замѣнялось въ немъ наплывомъ жгучей, буйной гордости. Голова у него кружилась, глаза налились кровью, онъ ничего не видѣлъ, и лишь чувствовалъ, что ему уступаютъ, что онъ одолѣетъ, что вотъ сейчасъ онъ опрокинетъ силой своей что-то огромное, заступающее ему путь, — опрокинетъ, побѣдитъ и тогда вздохнетъ легко и свободно, полный гордой радости. Первый разъ въ жизни онъ испытывалъ такое мощное, одухотворяющее чувство, и всей силой жадной, голодной души своей глоталъ его, пьянѣлъ отъ него и изливалъ свою радость въ громкихъ, ликующихъ крикахъ въ ладъ съ рабочими:
— Ве-есь по-ошелъ, весь пошолъ, поше-олъ…
— Сто-ой! Крѣпи! Стой, ребята!…
Ѳому толкнуло въ грудь и откинуло назадъ…
— Съ благополучнымъ окончаніемъ, Ѳома Игнатьичъ! — поздравлялъ его подрядчикъ, и морщины дрожали на лицѣ его радостными лучами. — Слава Тебѣ, Господи! Устали, чай?
Холодный вѣтеръ дулъ въ лицо Ѳомы. Довольный, хвастливый шумъ носился вокругъ него; ласково переругиваясь, веселые, съ улыбками на потныхъ лицахъ, мужики подходили къ нему и тѣсно окружали его. Онъ растерянно улыбался: возбужденіе еще не остыло въ немъ и не позволяло ему понять, что случилось и отчего всѣ вокругъ такъ радостны и довольны.
— Сто семьдесятъ тысячъ пудовъ ровно рѣдьку изъ грядки выдернули! — говорилъ кто-то.
— Надо бы съ хозяина-то на ведерко…
Ѳома, стоя на грудѣ каната, смотрѣлъ черезъ головы рабочихъ и видѣлъ: среди баржъ, бортъ о бортъ съ ними, явилась третья, черная, скользкая, разбитая, опутанная цѣпями. Всю ее покоробило, она точно вспухла отъ какой-то страшной болѣзни и, немощная, неуклюжая, повисла надъ водой между своихъ подругъ, опираясь на нихъ. Сломанная мачта печально торчала посреди нея; на палубѣ, покрытой пятнами ржавчины, текли красноватыя струи воды, похожей на кровь. Всюду на палубѣ лежали груды желѣза, черные, мокрые обломки дерева, веревки…
— Подняли? — спросилъ Ѳома, не зная, что ему сказать при видѣ этой безобразной, тяжелой массы, и снова чувствуя обиду при мысли, что лишь ради того, чтобы поднять изъ воды эту грязную, разбитую уродину, онъ такъ вскипѣлъ душой, такъ обрадовался…
— Что она… — неопредѣленно сказалъ Ѳома подрядчику.
— Она — ничего! Разгрузить скорѣе, да человѣчковъ двадцать артельку плотниковъ на нее спустить — они ее живо въ образъ приведутъ! — утѣшающимъ голосомъ говорилъ подрядчикъ.
А русый парень, широко и весело улыбаясь въ лицо Ѳомы, спрашивалъ:
— Водченка-то будетъ намъ?
— Успѣешь ты! — сурово сказалъ ему подрядчикъ. — Видишь — усталъ человѣкъ…
Тогда мужики заговорили:
— Какъ не устать!
— Легкое ли дѣло!
— Съ непривычки извѣстно устанешь…
— Съ непривычки и кашу ѣсть трудно…
— Не усталъ я… — хмуро сказалъ Ѳома, и снова раздались почтительные возгласы мужиковъ, все плотнѣе обступавшихъ его:
— Работа, ежели въ охоту кому, — дѣло пріятное.
— Та же игра…
— Вродѣ какъ съ бабой побаловаться…
Только русый парень твердо стоялъ на своемъ:
— Ваше степенство! На ведерочко бы, а? — говорилъ онъ, улыбаясь и вздыхая.
Ѳома смотрѣлъ на бородатыя лица предъ собой и чувствовалъ въ себѣ желаніе сказать имъ что-нибудь обидное. Но въ головѣ его все какъ-то спуталось, онъ не находилъ въ ней никакихъ мыслей и, наконецъ, не отдавая себѣ отчета въ словахъ, сказалъ съ сердцемъ:
— Вамъ бы все пьянствовать только! Вамъ все равно, что ни дѣлать! А вы бы подумали — зачѣмъ? къ чему?… Эхъ, вы!
На лицахъ людей, окружавшихъ его, выразилось недоумѣніе: синія и красныя бородатыя фигуры начали вздыхать, почесываться, переминаться съ ноги на ногу. Иные, безнадежно посмотрѣвъ на Ѳому, отворотились въ сторону.
— Н-да! — вздохнувъ, сказалъ подрядчикъ. — Это… не мѣшаетъ! То-есть — чтобы подумать, что для чего и какъ… Это слова… отъ ума…
Русый парень остался при особомъ мнѣніи; добродушно улыбаясь, онъ махнулъ рукой и заявилъ:
— Намъ думать надъ работой не приходится! Есть она — ломи ее! Наше дѣло просто: выломилъ рубль и — слава Те, Господу! Мы все можемъ сдѣлать…
— А ты знаешь, что надо дѣлать? — раздражаясь отъ противорѣчія, допрашивалъ Ѳома.
— А все надо… и то, и это…
— А толкъ какой?
— Толкъ во всемъ одинъ для нашего званія… на хлѣбъ, на подать выработалъ — живи! А ежели еще и выпить…
— Эхъ, ты! — презрительно воскликнулъ Ѳома. — Говоришь тоже!… Что ты понимаешь?
— Развѣ наше дѣло понимать? — сказалъ русый парень, тряхнувъ головой. Ему уже скучно стало говорить съ Ѳомой; онъ заподозрилъ его въ нежеланіи дать на водку и сердился немножко.
— Вотъ то-то! — поучительно сказалъ Ѳома, довольный тѣмъ, что парень уступилъ ему, и не замѣчая косыхъ, насмѣшливыхъ взглядовъ. — А кто понимаетъ… тотъ чувствуетъ, что нужно — вѣчную работу дѣлать!
— Для Бога, значитъ! — пояснилъ подрядчикъ, оглядывая мужиковъ, и, благочестиво вздохнувъ, добавилъ: — Это вѣрно… охъ и вѣрно это!
А Ѳома воодушевлялся желаніемъ говорить что-то правильное и вѣское, послѣ чего бы всѣ эти люди отнеслись къ нему какъ-нибудь иначе, ибо ему не нравилось, что всѣ они, кромѣ русаго, молчатъ и смотрятъ на него недружелюбно, исподлобья, такими скучными, угрюмыми глазами.
— Нужно такую работу дѣлать, — говорилъ онъ, двигая бровями, — такую… чтобы и тысячу лѣтъ спустя люди сказали: вотъ это богородскіе мужики сдѣлали… да!…
Русый парень съ удивленіемъ взглянулъ на Ѳому и спросилъ:
— Волгу, что ли, намъ выпить? — А потомъ фыркнулъ и, заболтавъ головой, заявилъ: — Не сможемъ мы этого… полопаемся всѣ!…
Ѳома сконфузился отъ его словъ и посмотрѣлъ вокругъ себя: мужики улыбались хмуро, пренебрежительно, ѣдко… И эти улыбки кололи его, какъ иглы.
Какой-то серьезный мужикъ съ большой сивой бородой, до этой поры не открывавшій рта, вдругъ открылъ его, подвинулся къ Ѳомѣ и медленно выговорилъ:
— А ежели намъ и Волгу досуха выпить, да еще вотъ этой горой закусить — и это забудется, ваше степенство. Все забудется… жизнь-то длинна… Такихъ дѣловъ, чтобы надо всѣмъ высоко торчали — не намъ надѣлать… Лѣса вотъ — можемъ мы поставить…
Сказалъ и, скептически сплюнувъ подъ ноги себѣ, равнодушно отошелъ отъ Ѳомы, войдя въ толпу, какъ клинъ въ дерево. Его рѣчь окончательно пришибла Ѳому; онъ чувствовалъ, что мужики считаютъ его глупымъ и смѣшнымъ. И чтобы спасти свое хозяйское значеніе въ ихъ глазахъ, чтобы снова привлечь къ себѣ уже утомленное вниманіе мужиковъ, онъ напыжился, смѣшно надулъ щеки и внушительнымъ голосомъ бухнулъ:
— Жертвую… на три ведра!
Краткія рѣчи всегда болѣе содержательны и всегда способны вызвать сильное впечатлѣніе. Мужики почтительно разступились передъ Ѳомой, низко кланяясь ему и съ веселыми, благодарными улыбками благодаря его за щедрость дружнымъ, одобрительнымъ гуломъ.
— Перемахните-ка меня на берегъ, — сказалъ Ѳома, чувствуя, что вновь возникающее въ немъ возбужденіе не долго продержится въ немъ. Какой-то червь сосалъ его сердце, и ему было скучно.
— Тошно мнѣ! — сказалъ онъ, придя въ избу, гдѣ Саша, въ нарядномъ розовомъ платьѣ, хлопотала около стола, разставляя на немъ вина и закуски. — Тошно мнѣ, Александра! Хоть бы ты что-нибудь сдѣлала со мной, что ли… а?
Она внимательно посмотрѣла на него и, сѣвши на лавку плечомъ къ плечу съ нимъ, сказала:
— Коли тошно — значитъ, хочется чего-нибудь… Чего тебѣ надо?
— Не знаю я! — грустно качнувъ головой, отвѣтилъ Ѳома.
— А ты подумай… поищи…
— Не умѣю я думать… Не выходитъ ничего отъ думъ…
— Эхъ ты… дитятко! — тихо и пренебрежительно сказала Саша, отодвигаясь отъ него. — Лишняя тебѣ голова-то…
Ѳома не уловилъ ея тона и не замѣтилъ движенія. Упираясь руками въ лавку, онъ наклонился впередъ и смотрѣлъ въ полъ, и говорилъ, качаясь всѣмъ корпусомъ:
— Иной разъ думаешь, думаешь… всю тебѣ душу мысли, какъ смолой, облѣпятъ… И вдругъ все исчезнетъ изъ тебя, точно провалится насквозь куда-то… Въ душѣ тогда — какъ въ погребѣ темно, сыро и совсѣмъ пусто… совсѣмъ ничего нѣтъ! Даже страшно… какъ будто ты не человѣкъ, а оврагъ бездонный… Чего мнѣ надо?
Саша искоса взглянула на него и вполголоса задумчиво запѣла:
— Кутить я не хочу… противно это! Вее одно и то же: и люди, и забавы, и вино… Злой я становлюсь — такъ бы всѣхъ и билъ… Не нравятся мнѣ люди… что они? Никакъ ихъ не поймешь — зачѣмъ больше живутъ? И когда правду говорятъ… кого слушать? Одинъ говоритъ — одно, другой — другое… А я — ничего не могу сказать…
— пѣла Саша, глядя въ стѣну предъ собой.
А Ѳома все качался и говорилъ:
— Бываетъ, чувствую я себя и виноватымъ предъ людьми… всѣ живутъ, шумятъ, а я пугаюсь и только глазами хлопаю… И ровно земли подъ собой не чувствую… Мать, что ли, это меня безчувственностью наградила? Крестный говоритъ — она какъ ледъ была… И все ее тянуло куда-то… Вотъ и меня тянетъ… къ людямъ тянетъ. Пошелъ бы и сказалъ: братцы, помогите! Научите! Жить не могу! А если виноватъ — простите! Оглянешься — некому сказать… Никому это не нужно… всѣ сволочи! И даже будто хуже они меня… я хоть вотъ… стыжусь жить, какъ живу… а они — ничего! Дѣйствуютъ…
Ѳома крѣпко, неприлично выругался и умолкъ. Саша оборвала пѣсню и отодвинулась еще подальше отъ него. За окномъ бушевалъ вѣтеръ, бросая пыль въ стекла оконъ. На печи тараканы шуршали, ползая по пучку лучины. Гдѣ-то на дворѣ жалобно мычалъ теленокъ.
Саша съ усмѣшкой взглянула на Ѳому и сказала:
— Вонъ еще одинъ несчастненькій мычитъ… Шелъ бы ты къ нему; можетъ, споетесь… — И, положивъ руку на его кудрявую голову, она шутливо толкнула ее въ бокъ…
— Подумалъ бы ты вотъ надъ чѣмъ — на что вы, такіе, нужны? Чего ты скрипишь? Гулять тошно — дѣломъ займись…
— Господи, — качнулъ головой Ѳома, — трудно говорить такъ, чтобы понимали тебя… трудно! — И съ раздраженіемъ онъ почти закричалъ: — Какое дѣло? Не тянетъ меня къ дѣлу! Что оно, дѣло? Только званіе одно — дѣло, а такъ ежели вглубь, въ корень посмотрѣть — безтолочь! Не понимаю, что ли, я этого? Все я понимаю, все вижу, все чувствую!… Только языкъ у меня… нѣмой… Какой прокъ въ дѣлахъ? Деньги? Много ихъ у меня!… Задушить могу ими до смерти, засыпать тебя съ головой… Обманъ одинъ дѣла эти всѣ… Вижу я дѣльцовъ — ну что же? Жадность у нихъ большая… а все-таки нарочно это они кружатся въ дѣлахъ, для того, чтобы самихъ себя не видать было… Прячутся, дьяволы… Ну-ка освободи ихъ отъ суеты этой, — что будетъ? Какъ слѣпые начнутъ соваться туда и сюда… всякій смыслъ потеряютъ… съ ума посходятъ! Я это знаю! А ты думаешь, есть дѣло — такъ и будетъ отъ него человѣку счастье? Нѣтъ, врешь — тутъ еще надо одно… тутъ — не все еще!… Рѣка течетъ, чтобы по ней ѣздили, дерево растетъ для пользы, собака — домъ стережетъ… всему на свѣтѣ можно найти оправданіе! А люди — какъ тараканы — совсѣмъ лишніе на землѣ… Все для нихъ, а они для чего? Ага?! Въ чемъ имъ оправданіе? Ха-ха!
Ѳома торжествовалъ. Ему показалось, что онъ нашелъ что-то хорошее для себя и сильное противъ людей. И чувствуя въ себѣ большую радость отъ этого, онъ громко смѣялся.
— Голова у тебя не болитъ? — заботливо спросила его Саша, испытующимъ взглядомъ глядя въ лицо ему.
— Душа у меня болитъ! — азартно воскликнулъ Ѳома. — И оттого болитъ, что… прямая она… на маломъ не мирится… Давай ей отвѣтъ, какъ жить? для чего? Вотъ — крестный… онъ съ умомъ! Онъ говоритъ — жизнь дѣлай! Одинъ онъ такой… Ну, я его спрошу, погоди! А всѣ говорятъ — заѣла насъ жизнь! Удушила насъ жизнь… И у нихъ спрошу… И какъ это жизнь дѣлать? Надо ее для того въ рукахъ держать… овладѣть ею надо… И горшка не сдѣлаешь, не взявши въ руки глины…
— Слушай! — серьезно сказала Саша, — по-моему, надо тебѣ жениться — вотъ и все!
— Зачѣмъ? — передернувъ плечами, спросилъ Ѳома.
— Хомутъ тебѣ надо…
— Ладно! Живу съ тобой… Чай, вѣдь всѣ вы одинаковы? Одна другой не слаще… До тебя была у меня одна… изъ такихъ же, какъ ты… Нѣтъ, та по своей охотѣ… понравился я ей, она и… согласилась… Хорошая была… а впрочемъ — все одно, то же самое, совсѣмъ какъ и у тебя, хоша ты ея краше… Но — барыня одна приглянулась мнѣ… настоящая барыня, дворянка! Говорили, гуляетъ… Но я до нея не достигъ… Н-да-а… Умная, образованная… въ красотѣ жила… Я, бывало, думалъ — вотъ гдѣ отвѣдаю настоящаго-то! Не достигъ… а, можетъ, если бы удалось… другой бы оборотъ все приняло… Тянуло меня къ ней… думалъ — не оторвусь… А теперь вотъ — запилъ, залилъ ее виномъ — забываю… И это тоже нехорошо… Эхъ ты, человѣкъ! Подлецъ ты, если по совѣсти сказать…
Ѳома замолчалъ и задумался. А Саша встала со скамьи и прошлась по избѣ, покусывая губы. Потомъ остановилась противъ него и, закинувъ руки на голову, сказала:
— Знаешь что? Уйду я отъ тебя…
— Куда? — спросилъ Ѳома, не поднимая головы.
— Не знаю… все равно!
— А зачѣмъ?
— Лишнее ты все говоришь… Скучно съ тобой… тоску наводишь…
Ѳома поднялъ голову, взглянулъ на нее и уныло засмѣялся:
— Ну-у? Неужто?
— Наводишь! Вотъ что: я если подумаю, такъ пойму, что ты говоритъ и отчего… Я вѣдь тоже изъ такихъ… тоже, придетъ мое время, задумаюсь… И тогда пропаду… Но теперь мнѣ еще рано… Нѣтъ, я еще поживу… а потомъ ужъ — будь, что будетъ!
— А я — тоже пропаду? — равнодушно спросилъ Ѳома, уже утомленный своими рѣчами.
— А какъ же! — спокойно и увѣренно отвѣтила Саша. — Такіе люди всѣ пропадутъ… У кого характеръ не ломкій, а ума нѣтъ — какая же тому жизнь? Это мы и есть…
— Нѣтъ у меня никакого характера… — сказалъ Ѳома, потягиваясь… Потомъ помолчалъ и добавилъ: — И ума нѣтъ…
Они съ минуту молчали, глядя въ глаза другъ другу.
— Что же будемъ дѣлать? — спросилъ Ѳома.
— Обѣдать надо.
— Нѣтъ, вообще? Потомъ?
— Потомъ?.. Н-не знаю…
— Такъ уходишь ты?
— Уйду… Давай еще покутимъ на прощанье. Поѣдемъ въ Казань, да тамъ съ дымомъ, съ полымемъ и кутнемъ. Отпою я тебя…
— Это можно! — согласился Ѳома. — На прощанье — слѣдуетъ… Эхъ ты… дьяволъ! Житье… веселое! А слушай, Сашка, про васъ, гулящихъ, говорятъ, что вы до денегъ жадныя и даже воровки…
— Пускай говорятъ… — спокойно сказала Саша.
— Развѣ тебѣ не обидно это? — съ любопытствомъ спросилъ Ѳома. — Вотъ ты — не жадная… выгодно тебѣ со мной… богатый я, а ты уходишь… значитъ — не жадная…
— Я-то? — Саша подумала и сказала, махнувъ рукой: — Можетъ, и не жадная — что въ томъ? Я вѣдь еще не совсѣмъ… низкая… такая, что по улицамъ ходятъ… А обижаться — на кого? Пускай говорятъ, что хотятъ… Люди же скажутъ, не быки замычатъ… а мнѣ людская святость да честность хорошо извѣстны… э-эхъ, какъ она мнѣ извѣстна! Выбрали бы меня въ судьи — только мертваго оправдала бы!.. И, засмѣявшись нехорошимъ смѣхомъ, Саша сказала: — Ну, будетъ пустяки говорить… садись за столъ!…
… На другой день утромъ Ѳома и Саша стояли рядомъ на трапѣ парохода, подходившаго къ пристани на Устьѣ. Огромная черная шляпа Саши привлекала общее вниманіе публики своими ухарски изогнутыми полями и бѣлыми перьями, и Ѳомѣ было неловко стоять рядомъ съ ней и чувствовать, какъ по его смущенному лицу точно ползаютъ любопытные взгляды. Пароходъ шипѣлъ и вздрагивалъ, подваливая бортомъ къ конторкѣ, усѣянной по-лѣтнему ярко одѣтой толпой народа, ожидавшей его, и Ѳомѣ казалось, что онъ видитъ среди разнообразныхъ лицъ и фигуръ какого-то знакомаго ему, кто какъ будто все прячется за спины другихъ, но не сводитъ съ него глазъ.
— Пойдемъ въ каюту! — безпокойно сказалъ онъ своей подругѣ.
— А ты не учись грѣхи отъ людей прятать, — усмѣхаясь отвѣтила Саша. — Знакомаго, что ли, увидалъ?…
— Мм… да-а… Кто-то караулитъ меня…
— Нянька съ соской? Ха, ха, ха!
— Ну, ты… заржала! — свирѣпо покосившись на нее, сказалъ Ѳома. — Думаешь — боюсь?
— Вижу ужъ я храбрость твою…
— Увидишь! Я противъ всякаго пойду… — зло сказалъ Ѳома, но, всмотрѣвшись въ толпу на пристани, вдругъ измѣнился въ лицѣ и тихо добавилъ:
— А, это крестный…
У самаго борта пристани, втиснувшись между двухъ грузныхъ женщинъ, стоялъ Яковъ Тарасовичъ Маякинъ и съ ехидной вѣжливостью помахивалъ въ воздухѣ картузомъ, поднявъ кверху свое иконописное лицо. Бородка у него вздрагивала, лысина блестѣла, и глазки сверлили Ѳому, какъ буравчики.
— Н-ну и ястребъ! — пробормоталъ Ѳома, тоже снявъ картузъ и кивая головой крестному.
Его поклонъ доставилъ Маякину, должно быть, большое удовольствіе, — старикъ какъ-то весь извился, затопалъ ногами, и лицо его точно освѣтилось отъ ядовитой улыбки.
— Видно, будетъ мальчику на орѣшки! — подзадоривала Саша Ѳому.
Ея слова вмѣстѣ съ улыбкой крестнаго точно угли въ груди Ѳомы разожгли.
— Поглядимъ, что будетъ… — сквозь зубы сказалъ онъ, и вдругъ оцѣпенѣлъ въ зломъ спокойствіи. Пароходъ присталъ, и люди хлынули волной на пристань. Затертый толпою Маякинъ на минуту скрылся изъ глазъ крестника и снова вынырнулъ, улыбаясь острой ехидно-торжествующей улыбкой. Ѳома, сдвинувъ брови, въ упоръ смотрѣлъ на него и подвигался навстрѣчу ему, медленно шагая по мосткамъ. Его толкали въ спину, навалились на него, тѣснили, — и все это еще болѣе возбуждало Ѳому. Вотъ онъ столкнулся грудь съ грудью со старикомъ, и тотъ встрѣтилъ его вѣжливенькимъ поклономъ и вопросомъ:
— Куда изволите путешествовать, Ѳома Игнатьичъ?
— По своимъ дѣламъ, — твердо отвѣтилъ Ѳома, не здороваясь съ крестнымъ.
— Похвально, сударь мой! — весь просіявъ отъ улыбочки, сказалъ Яковъ Тарасовичъ. — Барынька-то съ перьями какъ вамъ приходится?
— Любовница, — громко сказалъ Ѳома, не опуская глазъ подъ острымъ взглядомъ крестнаго.
Саша стояла сзади него и изъ-за плеча спокойно разглядывала маленькаго старичка, голова котораго была ниже подбородка Ѳомы. Публика, привлеченная громкимъ словомъ Ѳомы, посматривала на нихъ, чуя скандалъ. И Маякинъ тотчасъ же, почуявъ возможность скандала, сразу и вѣрно опредѣлилъ боевое настроеніе крестника. Онъ поигралъ морщинами, пожевалъ губами и мирно сказалъ Ѳомѣ:
— Надо мнѣ съ тобой побесѣдовать… Въ гостиницу пойдемъ со мной?…
— Могу… не надолго…
— Некогда, значитъ? Дѣло ясное — видно еще баржу разбить торопишься? — не стерпѣвъ, сказалъ старикъ.
— А что жъ ихъ не бить, если бьются? — задорно, но твердо возразилъ Ѳома.
— А конечно!… Не ты наживалъ… тебѣ ли жалѣть? Ну, пойдемъ… Да нельзя ли барыньку-то… хоть въ водѣ утопить на время? — тихо сказалъ Маякинъ.
— Поѣзжай, Саша, въ городъ, возьми номеръ въ Сибирскомъ подворьѣ… я скоро пріѣду! — сказалъ Ѳома, и, обратясь къ Маякину, съ удальствомъ объявилъ:
— Готовъ!… пойдемте…
До гостиницы они оба шли молча. Ѳома, видя, что крестный, чтобъ не отстать отъ него, подпрыгиваетъ на ходу, нарочно шагалъ шире, и то, что старикъ не можетъ идти въ ногу съ нимъ, поддерживало и усиливало въ немъ буйное чувство протеста, которое онъ и теперь уже едва сдерживалъ въ себѣ.
— Человѣчекъ! — ласково сказалъ Маякинъ, придя въ залъ гостиницы и направляясь въ отдаленный уголъ. — Подай-ка ты мнѣ клюквеннаго квасу бутылочку…
— А мнѣ — коньяку, — приказалъ Ѳома.
— Во-отъ… При плохихъ картахъ всегда съ послѣдняго козыря ходи! — насмѣшливо посовѣтовалъ ему Маякинъ.
— Вы моей игры не знаете! — сказалъ Ѳома, усаживаясь за столъ.
— Ну-у? Полно-ка! Многіе такъ играютъ…
— Какъ?
— Да вотъ какъ ты… храбро, да не умно…
— Я такъ играю, что — или башка вдребезги, или стѣна пополамъ! — горячо сказалъ Ѳома и пристукнулъ кулакомъ по столу…
— Не опохмелялся еще нынче? — спросилъ Маякинъ съ улыбочкой.
Ѳома усѣлся на стулѣ поплотнѣе и съ искаженнымъ отъ злого волненія лицомъ заговорилъ:
— Папаша крестный!… Вы умный человѣкъ… я уважаю васъ за умъ…
— Спасибо, сынокъ! — поклонился Маякинъ, привставъ и опершись руками о столъ.
— Неначемъ… Я хочу сказать, что мнѣ уже не двадцать лѣтъ… Я уже не маленькій.
— Еще бы-те! — согласился Маякинъ. — Не малъ вѣкъ ты прожилъ, что и говорить! Кабы комаръ столько время жилъ — съ курицу бы выросъ…
— Погоди шутки шутить!… — предупредилъ Ѳома, и сдѣлалъ это такъ спокойно, что Маякина даже повело всего, и морщины на его лицѣ тревожно задрожали.
— Вы зачѣмъ сюда пріѣхали? — спросилъ Ѳома.
— А… набезобразилъ ты тутъ… такъ я хочу посмотрѣть — много ли? Я, видишь ли, родственникомъ тебѣ довожусь… и одинъ я у тебя…
— Напрасно вы безпокоитесь… Вотъ что, папаша… Или вы дайте мнѣ полную волю, или все мое дѣло берите въ свои руки… все берите! Все до рубля!
Это предложеніе вырвалось у Ѳомы совершенно неожиданно для него; раньше онъ никогда не думалъ ничего подобнаго. Но теперь, сказавъ крестному такія слова, онъ вдругъ понялъ, что если бъ крестный взялъ у него все имущество — онъ сталъ бы совершенно свободнымъ человѣкомъ, могъ бы идти, куда хочется, дѣлать, что угодно… До этой минуты онъ былъ связанъ и опутанъ чѣмъ-то, но не зналъ своихъ путъ и не умѣлъ сорвать ихъ съ себя, а теперь вотъ они сами спадаютъ съ него такъ легко и просто. Въ груди его вспыхнула тревожная и радостная надежда, онъ точно увидалъ, что въ мутную жизнь его вдругъ откуда-то хлынулъ свѣтъ и предъ нимъ какъ бы легла широкая, просторная дорога… Какіе-то образы зарождались въ его мозгу и, съ изумленіемъ слѣдя за ихъ смѣной, онъ безсвязно бормоталъ:
— Вотъ… это всего лучше! Возьмите все и — шабашъ! А я — на всѣ четыре стороны!… Я этакъ жить не могу… точно гири на меня навѣшаны… Ровно связанъ весь я… Туда — нельзя, этого — нельзя… Я хочу жить свободно… чтобы самому все знать… я буду искать жизнь себѣ… А то что я? Арестантъ… Вы, пожалуйста, возьмите все это… къ чорту все! Освободите вы меня, пожалуйста! Какой я купецъ? Не люблю я ничего… А такъ — ушелъ бы я отъ людей… отъ всего… нашелъ бы себѣ мѣсто… работу какую-нибудь, работалъ бы… ей Богу! Папаша! отпустите меня на волю… А то вотъ — пью я… съ бабой связался…
Маякинъ смотрѣлъ на него, внимательно слушалъ его рѣчь, и лицо его было сурово, неподвижно, точно окаменѣло. Надъ ними носился трактирный, глухой шумъ, проходили мимо нихъ какіе-то люди, Маякину кланялись, но онъ ничего не видалъ, упорно разглядывая взволнованное лицо крестника, улыбавшееся растерянно, радостно и въ то же время жалобно…
— Э-эхъ, яжевика ты моя кисла ягода! — вздохнувъ, сказалъ онъ, перебивая рѣчь Ѳомы. — Заплутался ты, вижу я… И плетешь — несуразное… Надо понять — съ коньяку ты это или съ глупости?
— Папаша! — воскликнулъ Ѳома. — Вѣдь это можно! Вѣдь было такъ… бросали все имѣніе люди и тѣмъ спасались…
— Не при мнѣ было… не близкіе мнѣ люди! — сказалъ Маякинъ строго. — А то бы я имъ… показалъ!
— Многіе угодниками стали, какъ ушли…
— Мм… у меня не ушли бы!… Тутъ дѣло просто — шашки знаешь? Ходи съ мѣста на мѣсто, пока не съѣдятъ, — а не съѣдятъ — въ дамки! И тогда всѣ пути тебѣ открыты. Понялъ? И зачѣмъ я съ тобой серьезно говорю? Тьфу!..
— Папаша! Почему вы не хотите? — съ сердцемъ воскликнулъ Ѳома.
— Ты слушай! Если ты трубочистъ — лѣзь, сукинъ сынъ, на крышу!… Пожарный — стой на каланчѣ! И всякій родъ человѣка долженъ имѣть свой порядокъ жизни… Телятамъ же по-медвѣжьи не ревѣть! Живешь ты своей жизнью и — живи! И не лопочи, не лѣзь, куда не надо тебѣ… Дѣлай жизнь свою… въ своемъ родѣ. — И изъ темныхъ устъ старика забила трепетной, блестящей струей знакомая Ѳомѣ дребезжащая, но увѣренная и бойкая рѣчь. Онъ не слушалъ ея, охваченный думой о свободѣ, которая казалась ему такъ просто возможной. Эта дума впилась ему въ мозгъ, и въ груди его все крѣпло желаніе порвать связь свою съ этой мутной и скучной жизнью, съ крестнымъ, пароходами, баржей, кутежами, — со всѣмъ, среди чего ему было такъ душно и тѣсно жить.
Рѣчь старика долетала до него какъ бы издали: она сливалась со звономъ посуды, съ шарканьемъ ногъ лакеевъ по полу, съ чьимъ-то пьянымъ крикомъ. Недалеко отъ нихъ за столомъ сидѣли четверо купцовъ и громко спорили.
— Двѣ съ четью и — молись Богу!
— Лука Митричъ! Да развѣ это можно?
— Да-ай ты ему двѣ съ половиной!
— Вѣрно! Надо дать… пароходикъ хорошій, везетъ бойко…
— Братцы! Не могу… Двѣ съ четью!…
— И вся эта чепуха въ башкѣ у тебя завелась — отъ молодой твоей ярости! — увѣсисто говорилъ Маякинъ, постукивая рукой по столу. — Удальство твое — глупость; всѣ эти рѣчи твои — ерунда… Не въ монастырь ли пойти тебѣ? А то, можетъ, на большую дорогу хочется?
Ѳома слушалъ и молчалъ. Шумъ, кипѣвшій вокругъ него, какъ будто уходилъ куда-то все дальше. Онъ представлялъ себя въ срединѣ огромной, суетливой толпы людей, которые неизвѣстно для чего мятутся, лѣзутъ другъ на друга, глаза у нихъ жадно вытаращены, они орутъ, ругаются, падаютъ, давятъ другъ друга и всѣ толкутся на одномъ мѣстѣ. Ему оттого плохо среди нихъ, что онъ не понимаетъ, чего они хотятъ, не вѣритъ въ ихъ слова и чувствуетъ, что они сами не вѣрятъ себѣ и ничего не понимаютъ. И если вырваться изъ средины ихъ на свободу, на край жизни, да оттуда посмотрѣть на нихъ — тогда все и поймешь. Поймешь и то, чего имъ надо, и увидишь, гдѣ среди нихъ твое мѣсто.
— Я вѣдь понимаю, — уже мягче говорилъ Маякинъ, видя Ѳому задумавшимся и полагая, что онъ думаетъ надъ его словами, — хочешь ты счастья себѣ… Ну, другъ, оно скоро не дается… Его, какъ грибъ въ лѣсу, поискать надо, надо надъ нимъ спину поломать… да и найдя, — посмотри, не поганка ли?
— Такъ освободите вы меня? — вдругъ поднявъ голову, спросилъ Ѳома, и Маякинъ отвелъ глаза въ сторону отъ его горящаго взгляда.
— Папаша! Хоть на время! Дайте вздохнуть… дайте мнѣ въ сторону отойти отъ всего! — просилъ Ѳома. — Я присмотрюсь, какъ все происходитъ… и тогда ужъ… А такъ — сопьюсь я…
— Не говори пустяковъ! Что юродствуешь? — сердито крикнулъ Маякинъ.
— Ну, хорошо! — спокойно отвѣтилъ Ѳома. — Ладно! Не хотите вы этого? Такъ — ничего не будетъ! Все спущу! И больше намъ говорить не о чемъ… прощайте! Примусь я теперь за дѣло — увидите! Порадуетесь… дымъ отъ всего пойдетъ!…
Ѳома былъ спокоенъ, говорилъ увѣренно; ему казалось, что коли онъ такъ рѣшилъ — не сможетъ крестный помѣшать ему. Но Маякинъ выпрямился на стулѣ и сказалъ — тоже просто и спокойно:
— А знаешь ты, какъ я могу съ тобой поступить?
— Какъ хотите! — махнувъ рукой, сказалъ Ѳома.
— Вотъ. Теперь я такъ хочу — пріѣду въ городъ и буду хлопотать, чтобы признали тебя умалишеннымъ и посадили въ сумасшедшій домъ…
— Развѣ это можно? — недовѣрчиво, но уже съ испугомъ въ голосѣ спросилъ Ѳома…
— У насъ, другъ милый, все можно…
— Такъ…
Ѳома опустилъ голову и, исподлобья посмотрѣвъ въ лицо крестнаго, вздрогнулъ, думая:
„А посадитъ… не пожалѣетъ…“
— Если ты серьезно дуришь — я тоже долженъ серьезно поступать съ тобой… Я за тебя отцу твоему далъ слово — поставить тебя на ноги… И я тебя поставлю… не будешь стоять — въ желѣзо закую… Тогда устоишь… Хоша я знаю — всѣ эти благочестивыя слова твои дурная блажь съ перепою… Но ежели ты этого не бросишь… ежели продолжишь безобразность поведенія, да отцомъ нажитое имущество озорства ради губить будешь — я тебя съ головой накрою… колоколъ солью надъ тобой… Шутить со мной очень неудобно…
Маякинъ говорилъ ласково. Морщины на щекахъ его всѣ поднялись кверху, и глазки улыбались изъ ихъ темныхъ мѣшковъ насмѣшливо, холодно. И на лбу у него морщины изобразили какой-то странный узоръ, поднимаясь до лысины. Непреклонно и безжалостно было его лицо, и отъ него на душу Ѳомы вѣяло тоской и холодомъ…
— Стало быть, нѣтъ мнѣ ходу? — угрюмо спросилъ Ѳома. — Запираете вы мнѣ пути?
— Ходъ есть… иди! А я тебя направлю… не безпокойся — вѣрно будетъ! Какъ разъ на свое мѣсто придешь…
Эта самоувѣренность, эта непоколебимая хвастливость взорвали Ѳому. Засунувъ руки въ карманы, чтобы не ударить старика, онъ выпрямился на стулѣ и въ упоръ заговорилъ, стиснувъ зубы:
— Что вы все хвалитесь? Чѣмъ тебѣ хвалиться? Сынъ-то твой — гдѣ? Дочь-то твоя — что такое? Эхъ ты… устроитель жизни! Ну, уменъ ты… все знаешь… Скажи — зачѣмъ живешь? Зачѣмъ тебѣ деньги наживать? Не умрешь, что ли? Ну, что жъ? Полонилъ ты меня… захватилъ, одолѣлъ… Погоди еще… еще, можетъ, вырвусь! Не кончено еще! Э-эхъ ты! Что ты сдѣлалъ за жизнь? Чѣмъ тебя помянутъ? Отецъ вонъ — домъ выстроилъ, а ты что?
Морщины Маякина дрогнули и всѣ опустились книзу, отчего лицо его приняло болѣзненное, плачущее выраженіе. Онъ открылъ ротъ, но ничего не сказалъ, глядя на крестника съ удивленіемъ и чуть ли не съ боязнью.
— Чѣмъ оправдаешься? — негромко спрашивалъ Ѳома, не сводя съ него глазъ.
— Молчать, щенокъ! — тихо сказалъ старикъ, тревожнымъ взглядомъ окидывая залъ.
— Я все сказалъ! А теперь — уйду! Удержи!
Ѳома всталъ со стула, кинулъ картузъ на голову себѣ и съ ненавистью оглянулъ старика.
— Иди… а я тебя… я тебя — поймаю! Будетъ по-моему! — прерывающимся голосомъ сказалъ Яковъ Тарасовичъ.
— А я — кутить буду! Все прокучу!…
— Ладно… увидимъ!…
— Прощай! Герой… — усмѣхнулся Ѳома.
— До скораго свиданья! Не отступаюсь я отъ своего… я это люблю… и тебя люблю… ничего, хорошъ парнишка! — говорилъ Маякинъ тихо и какъ будто задыхаясь.
— Ты меня не люби — ты меня научи… А научить настоящему — не можешь! — сказалъ Ѳома, обернувшись спиной къ старику, и пошелъ изъ зала.
Яковъ Тарасовичъ Маякинъ остался въ трактирѣ одинъ. Онъ сидѣлъ за столомъ и, наклонясь надъ нимъ, рисовалъ на подносѣ узоры, макая дрожащій палецъ въ пролитый квасъ. И острая голова его опускалась все ниже надъ столомъ, какъ будто онъ не разбиралъ и не могъ понять того, что чертилъ на подносѣ его сухой палецъ.
На лысинѣ у него блестѣли капли пота и, по обыкновенію, морщины на щекахъ вздрагивали частой, тревожной дрожью…
А въ трактирѣ стоялъ гулкій шумъ, отъ котораго стёкла въ окнахъ дребезжали. Съ Волги доносились свистки пароходовъ, глухіе удары колесъ по водѣ, крики грузчиковъ — жизнь двигалась впередъ безъ устали и сомнѣнія.
Поманивъ кивкомъ головы лакея, Яковъ Тарасовичъ спросилъ его какъ-то особенно внушительно и напряженно:
— Что съ меня за все слѣдуетъ?
X.
До ссоры съ Мякинымъ Ѳома кутилъ отъ скуки жизни, изъ любопытства и полуравнодушно, — теперь онъ загулялъ съ озлобленіемъ, почти съ отчаяніемъ, полный мстительнаго чувства и какой-то дерзости въ отношеніи къ людямъ, — дерзости, порою удивлявшей и его самого. Онъ видѣлъ, что люди, окружавшіе его, какъ и онъ самъ, лишены опоры и смысла, только они не понимаютъ этого или нарочно не хотятъ понимать, чтобъ не мѣшать себѣ жить слѣпо и — безъ думъ отдавать себя вполнѣ разгульной жизни. Онъ не находилъ въ нихъ ничего твердаго, устойчиваго; трезвые они казались ему несчастными и глупыми, пьяные — были противны и еще болѣе глупы. Никто изъ нихъ не возбуждалъ въ немъ уваженія и глубокаго, сердечнаго интереса; онъ даже не спрашивать ихъ именъ, забывалъ, когда и гдѣ познакомился съ ними, и относясь къ нимъ съ презрительнымъ любопытствомъ, всегда чувствовалъ желаніе сказать и сдѣлать что-нибудь обидное для нихъ. Онъ проводилъ съ ними дни и ночи въ разныхъ увеселительныхъ заведеніяхъ, и его знакомства всегда зависѣли именно отъ степени каждаго заведенія. Въ дорогихъ, и шикарныхъ ресторанахъ его окружали какіе-то проходимцы изъ чистой публики, шулеры, куплетисты, фокусники, актеры, разорившіеся на кутежахъ помѣщики. Эти люди сначала относились къ нему покровительственно и хвастались предъ нимъ своими тонкими вкусами, знаніемъ достоинствъ винъ и кушаній, а потомъ заискивали у него, подлизывались къ нему, занимали деньги, которыми онъ сорилъ безъ счета, черпая ихъ изъ банковъ и уже занимая подъ векселя. Въ дешевыхъ трактирахъ около него вились, какъ ястребы, парикмахеры, маркеры, какіе-то приказчики, чиновники, пѣвчіе, и среди этихъ людей онъ всегда чувствовалъ себя лучше, свободнѣе. Въ нихъ онъ видѣлъ людей простыхъ, не такъ уродливо изломанныхъ и искривленныхъ, какъ вся эта „чистая публика“ шикарныхъ ресторановъ, — они были менѣе развратны, болѣе умны, проще понимались имъ, порою они проявляли здоровыя, сильныя чувства и всегда въ нихъ было больше чего-то человѣческаго. Но, какъ и „чистая публика“, — эти тоже были жадны до денегъ и нахально обирали его, а онъ видѣлъ это и грубо издѣвался надъ ними.
Разумѣется — были женщины. Физически здоровый, но не чувственный, Ѳома покупалъ ихъ и дорогихъ и дешевыхъ, красивыхъ и дурныхъ, дарилъ имъ большія деньги, мѣнялъ ихъ чуть не каждую недѣлю, и въ общемъ — относился къ нимъ лучше, чѣмъ къ мужчинамъ. Онъ смѣялся надъ ними, говорилъ имъ зазорныя и обидныя слова, но никогда, даже полупьяный, не могъ избавиться отъ какого-то стѣсненія предъ ними. Всѣ онѣ — и самыя нахальныя, самыя здоровыя и безстыдныя — казались ему слабыми и беззащитными, какъ малыя дѣти. Всегда готовый избить любого мужчину, онъ никогда не трогалъ женщинъ, хотя порой безобразно ругалъ ихъ, раздраженный чѣмъ-либо. Онъ чувствовалъ себя неизмѣримо сильнѣйшимъ каждой женщины, и каждая женщина казалась ему неизмѣримо несчастнѣе его. Тѣ, которыя развратничали съ удальствомъ, хвастаясь своей распущенностью, вызывали у Ѳомы стыдливое чувство, отъ котораго онъ дѣлался робкимъ и неловкимъ. Однажды одна изъ такихъ женщинъ, пьяная и озорная, во время ужина, сидя рядомъ съ нимъ, ударила его по щекѣ коркой дыни. Ѳома былъ полупьянъ. Онъ поблѣднѣлъ отъ оскорбленія, всталъ со стула и, сунувъ руки въ карманы, свирѣпымъ, дрожащимъ отъ обиды голосомъ сказалъ:
— Ты, стерва! Пошла вонъ… прочь! Другой бы тебѣ за это голову раскололъ… А ты знаешь, что я смиренъ съ вами и не поднимается рука у меня на вашу сестру… Выгоните ее къ чорту!
Саша черезъ нѣсколько дней по пріѣздѣ въ Казань поступила на содержаніе къ сыну какого-то водочнаго заводчика, кутившему вмѣстѣ съ Ѳомой. Уѣзжая съ новымъ хозяиномъ куда-то на Каму, она сказала Ѳомѣ:
— Прощай, милый человѣкъ! Можетъ, встрѣтимся еще… одна у насъ дорога! А сердцу воли, совѣтую, не давай… Гуляй себѣ безъ оглядки… а тамъ — кашку слопалъ — чашку о полъ… Прощай!
И она крѣпко поцѣловала его въ губы, при чемъ глаза ея стали еще темнѣе.
Ѳома былъ радъ, что она уѣзжаетъ отъ него: надоѣла она ему и пугало его ея холодное равнодушіе. Но тутъ въ немъ что-то дрогнуло, онъ отвернулся въ сторону отъ нея и тихо молвилъ:
— Можетъ, не уживешься… тогда опять ко мнѣ пріѣзжай…
— Спасибо, отвѣтила она ему и почему-то засмѣялась необычнымъ для нея, хрипящимъ смѣхомъ…
Такъ и жилъ Ѳома день за днемъ, вращаясь все на одномъ мѣстѣ и среди однообразныхъ людей, не внушавшихъ ему никакихъ хорошихъ чувствъ. Онъ еще и потому считалъ себя выше ихъ, что въ головѣ его все крѣпче внѣдрялась мысль о возможности освобожденія отъ этой жизни, все сильнѣе обнимало его желаніе воли, все ярче рисовалъ онъ себѣ себя самого отошедшимъ на край жизни, вонъ изъ этой сутолоки и бурелома. Не разъ ночами, оставаясь одинъ на одинъ съ собой, онъ, крѣпко закрывъ глаза, представлялъ себѣ темную толпу людей, неисчислимо большую и даже страшную огромностью своей. Столпившись гдѣ-то въ котловинѣ, окруженной буграми и полной пыльнаго тумана, эта толпа въ шумномъ смятеніи толкалась на одномъ и томъ же мѣстѣ и была похожа на зерно въ ковшѣ мельницы. Какъ будто невидимый жерновъ, скрытый подъ ногами ея, мололъ ее, и люди волнообразно двигались подъ нимъ, не то стремясь внизъ, чтобъ тамъ скорѣе быть смолотыми и исчезнуть, не то вырываясь вверхъ, въ стремленіи избѣжать безжалостнаго жернова. Были также люди эти похожи на раковъ, только-что пойманныхъ и брошенныхъ въ большую корзину, — цѣпляясь другъ за друга, они тяжело ворочались, ползли куда-то и мѣшали другъ другу, и ничего не могли сдѣлать, чтобъ выйти изъ плѣна.
Ѳома видѣлъ среди толпы знакомыя ему лица: вотъ отецъ ломитъ куда-то, могуче расталкивая и опрокидывая всѣхъ на пути своемъ; онъ работаетъ широкими лапами… претъ на все грудью и громогласно хохочетъ… и исчезаетъ, проваливаясь куда-то вглубь, подъ ноги людей. Вотъ, извиваясь ужомъ, то прыгая на плечи, то проскальзывая между ногъ людей, работаетъ всѣмъ своимъ сухимъ, но гибкимъ и жилистымъ тѣломъ крестный… Любовь кричитъ и бьется, слѣдуя за отцомъ, порывистыми, но слабыми движеніями, то отставая отъ него, то снова приближаясь. Тихими шагами, съ доброй улыбкой на лицѣ и сторонясь ото всѣхъ, всѣмъ уступая дорогу, медленно двигается тётка Анѳиса… образъ ея колеблется во тьмѣ предъ Ѳомой, какъ скромное пламя восковой свѣчи… и гаснетъ она, исчезаетъ во мракѣ. Пелагея быстро и прямымъ путемъ идетъ куда-то… Вотъ Софья Павловна Медынская стоитъ, безсильно опустивъ руки, какъ стояла она тогда, послѣдній разъ — у себя въ гостиной… Глаза у нея большіе, и большая боязнь свѣтится въ нихъ. Тутъ и Саша. Равнодушная, не обращая вниманія на толчки, она твердо идетъ прямо въ самую гущу жизни и во весь голосъ поетъ свои пѣсни, спокойно глядя темными глазами впередъ… Шумъ, вой, смѣхъ, пьяные крики, азартный споръ о копейкахъ слышитъ Ѳома; пѣсни и плачъ носятся надъ этой огромной, суетливой кучей живыхъ человѣческихъ тѣлъ, стѣсненныхъ въ ямѣ; они прыгаютъ, падаютъ, ползаютъ, давятъ другъ друга, вспрыгиваютъ на плечи одинъ другому, суются всюду, какъ слѣпые, всюду наталкиваются на подобныхъ себѣ, борются и, падая, исчезаютъ изъ глазъ. Шелестятъ деньги, носясь, какъ летучія мыши надъ головами людей, и люди жадно простираютъ къ нимъ руки, брякаетъ золото и серебро, звенятъ бутылки, хлопаютъ пробки, кто-то рыдаетъ, и тоскливый женскій голосъ поетъ:
Эта безумная картина укрѣпилась въ головѣ Ѳомы и съ каждымъ разомъ все болѣе яркая, все болѣе огромная и живая возникала предъ нимъ, возбуждая въ груди его что-то хаотическое, одно большое неопредѣлимое чувство, въ которое, какъ ручьи въ рѣку, вливались и страхъ, и возмущеніе, и жалость, и злоба и еще многое. Все это вскипало въ груди до напряженнаго желанія, распиравшаго ее, — до желанія, отъ силы котораго онъ задыхался, на глазахъ его являлись слезы, и ему хотѣлось кричать, выть звѣремъ, испугать всѣхъ людей — остановить ихъ безсмысленную возню, влить въ шумъ и суету ихъ жизни что-то новое, свое, сказать имъ какія-то громкія, твердыя слова, направить ихъ всѣхъ въ одну сторону, а не другъ противъ друга. Ему хотѣлось хватать ихъ руками за головы, отрывать другъ отъ друга, избить однихъ, другихъ же приласкать, укорять всѣхъ, освѣтить ихъ какимъ-то огнемъ…
Ничего въ немъ не было — ни нужныхъ словъ, ни огня, было въ немъ лишь одно желаніе, понятное ему, но невыполнимое… Онъ представлялъ себя выше жизни, внѣ той котловины, въ которой кипятъ люди; онъ видѣлъ себя твердо стоящимъ на ногахъ и — нѣмымъ. Онъ могъ бы крикнуть людямъ:
— Какъ живете? Не стыдно ли?
И могъ бы обругать ихъ. Но если они, услыхавъ его голосъ, спросятъ:
— А какъ надо жить?
Онъ прекрасно понималъ, что послѣ такого вопроса ему пришлось бы слетѣть съ высоты кувыркомъ, туда, подъ ноги людямъ, къ жернову. И смѣхомъ проводили бы его гибель.
Онъ бредилъ порой, подъ давленіемъ этого кошмара. Изъ устъ его вырывались какія-то слова, безъ связи и значенья; онъ даже потѣлъ отъ этой тяжелой возни внутри себя. Порой ему казалось, что онъ сходитъ съ ума отъ пьянства, и вотъ почему лѣзетъ ему въ голову все это страшное и угрюмое. Большимъ усиліемъ воли онъ изгонялъ изъ себя эти картины и побужденія, но лишь только оставался одинъ и былъ не очень пьянъ — онъ снова наполнялся своимъ бредомъ и вновь изнемогалъ подъ тяжестью его. И желаніе свободы все росло и крѣпло въ немъ, муча его своей силой. Но вырваться изъ путъ своего богатства онъ не могъ.
Маякинъ, имѣвшій отъ него полную довѣренность на управленіе всѣмъ дѣломъ, дѣйствовалъ теперь такъ, что Ѳомѣ чуть не каждый день приходилось ощущать тяжесть лежащихъ на немъ обязанностей. Къ нему то и дѣло обращались за платежами, предлагали ему сдѣлки по перевозкѣ грузовъ, служащіе обращались лично и письменно съ такими мелочами, которыя раньше не касались его, выполняемыя ими на свой страхъ. Его отыскивали въ трактирахъ, разспрашивали его о томъ, какъ и что нужно дѣлать; онъ говорилъ имъ, порой совсѣмъ не понимая, такъ это нужно дѣлать или иначе, замѣчалъ ихъ скрытое пренебреженіе къ нему и почти всегда видѣлъ, что они дѣлаютъ дѣло не такъ, какъ онъ приказалъ, а иначе и лучше. Въ этомъ онъ чувствовалъ ловкую руку крестнаго и понималъ, что старикъ тѣснитъ его затѣмъ, чтобъ поворотить на свой путь. И въ то же время замѣчалъ, что онъ — не господинъ въ своемъ дѣлѣ, а лишь составная часть его и часть не важная. Это раздражало его и еще дальше отталкивало отъ старика, еще сильнѣе возбуждало его стремленіе вырваться изъ дѣла, хотя бы цѣной его погибели. Онъ съ яростью разбрасывалъ деньги по трактирамъ и притонамъ, но это продолжалось не долго — Яковъ Тарасовичъ закрылъ въ банкахъ текущіе счета, выбравъ всѣ вклады. Вскорѣ Ѳома почувствовалъ, что и подъ векселя даютъ ему уже не такъ охотно, какъ сначала давали. Это задѣло его самолюбіе и совсѣмъ возмутило и испугало его, когда онъ узналъ, что крестный пустилъ въ торговый міръ слухъ о томъ, что онъ, Ѳома, — не въ своемъ умѣ и что надъ нимъ, можетъ быть, придется учредить опеку. Ѳома не зналъ предѣловъ власти крестнаго и не рѣшался посовѣтоваться съ кѣмъ-нибудь по этому поводу: онъ былъ увѣренъ, что въ торговомъ мірѣ старикъ — сила и можетъ сдѣлать все, что захочетъ. Сначала ему было жутко чувствовать надъ собой руку Маякина, но потомъ онъ помирился съ этимъ, махнулъ на все рукой и продолжалъ свою безшабашную, пьяную жизнь, въ которой только одно утѣшало его — люди. Съ каждымъ днемъ онъ все больше убѣждался, что они — безсмысленнѣе и всячески хуже его, что они — не господа жизни, а лакеи ея, и что она вертитъ ими, какъ хочетъ, гнетъ и ломаетъ, какъ ей угодно, а они безчувственно и безропотно поддаются ей, и никто изъ нихъ не хочетъ свободы для себя. Онъ же хотѣлъ ея и потому кичливо возвышалъ себя надъ своими собутыльниками, не желая видѣть въ нихъ ничего, кромѣ дурного…
Однажды въ трактирѣ какой-то полупьяный человѣкъ жаловался ему на свою жизнь. Это былъ маленькій, сухой человѣчекъ съ испуганными тусклыми глазами, не бритый, въ короткомъ сюртучкѣ и въ яркомъ галстукѣ. Онъ печально моргалъ, уши у него пугливо вздрагивали, и тихій голосокъ тоже дрожалъ.
— Я всякъ бился, чтобъ въ люди попасть… За все брался, работалъ я, какъ волъ. Но затолкала меня жизнь, заѣла, затерла… Не хватило больше терпѣнія… Эхъ! И вотъ — началъ я пить… Чувствую — погибну… Ну, туда и дорога!
— Дуракъ! — презрительно сказалъ Ѳома. — Зачѣмъ было въ люди выходить? Держалъ бы вправо отъ нихъ… Всталъ бы къ сторонкѣ, посмотрѣлъ, гдѣ тебѣ среди нихъ мѣсто, и тогда — вали прямо на свой пунктъ!
— Не понимаю вашихъ словъ! — покачалъ человѣчекъ своей гладко-остриженной, угловатой головой.
Ѳома самодовольно усмѣхнулся.
— Тебѣ ли это понять?
— Нѣтъ, знаете, я такъ думаю, что кому Богъ судилъ…
— Жизнь не Богъ, а люди строятъ! — выпалилъ Ѳома и даже самъ удивился дерзости своихъ словъ. И человѣчекъ, искоса взглянувъ на него, тоже робко поёжился.
— Богъ разумъ тебѣ далъ? — спросилъ Ѳома, оправясь отъ смущенія.
— Навѣрно… то-есть, сколько полагается маленькому человѣку… — неувѣренно сказалъ собесѣдникъ Ѳомы.
— Ну — и ты съ Него больше не смѣешь просить ни зерна! Строй свою жизнь своимъ разумомъ… Богъ же будетъ судить тебя… Всѣ мы на службѣ Его… и всѣмъ намъ одна передъ Нимъ цѣна… Понялъ?
Очень часто случалось, что Ѳома вдругъ говорилъ что-то такое, что и ему самому казалось дерзкимъ и что, въ то же время, поднимало его въ своихъ глазахъ. Это были какія-то неожиданныя, смѣлыя мысли и слова, которыя вдругъ являлись, какъ искры — впечатлѣніе какъ бы высѣкало ихъ изъ мозга Ѳомы. И онъ самъ не-разъ замѣчалъ за собой, что придуманное имъ онъ хуже, тусклѣе высказываетъ, чѣмъ то, что сразу вспыхиваетъ въ сердцѣ.
Ѳома жилъ — какъ будто шелъ по болоту, съ опасностью на каждомъ шагу увязнуть въ грязи и тинѣ, а его крестный — вьюномъ вился на сухонькомъ и твердомъ мѣстечкѣ, зорко слѣдя издали за жизнью крестника.
Послѣ ссоры съ Ѳомой Яковъ Тарасовичъ вернулся къ себѣ угрюмо-задумчивымъ. Глазки его блестѣли сухо, и весь онъ выпрямился, какъ туго натянутая струна. Морщины болѣзненно съёжились, лицо какъ будто стало еще меньше и темнѣй, и когда Любовь увидала его такимъ — ей показалось, что онъ серьезно боленъ, только сдерживается, ломаетъ себя. Молчаливый старикъ нервно метался по комнатѣ, бросая дочери въ отвѣтъ на ея вопросы сухія, краткія слова, и, наконецъ, прямо крикнулъ ей:
— Отстань! Видишь — не до тебя…
Ей стало жалко его, когда она увидала, какъ тоскливо и уныло смотрятъ его острые, зеленые глаза; она поставила себѣ въ обязанность допросить его, что съ нимъ творится, и, когда онъ сѣлъ за обѣденный столъ, порывисто подошла къ нему, положила руки на плечи ему и, заглядывая въ лицо, ласково и тревожно:
— Папаша! Вамъ нездоровится — скажите!
Ея ласки были крайне рѣдки; онѣ всегда смягчали одинокаго старика, и хотя онъ не отвѣчалъ на нихъ почему-то, но все жъ таки не могъ не цѣнить ихъ. И теперь, передернувъ плечами и сбросивъ съ нихъ ея руки, онъ сказалъ ей:
— Иди, иди на свое мѣсто… Ишь разбираетъ тебя Евинъ зудъ…
Но Любовь не ушла; настойчиво заглядывая въ глаза его, она съ обидой въ голосѣ спросила:
— Почему вы, папаша, всегда такъ говорите со мной, точно я маленькая или очень глупая?
— Потому что ты большая, а не очень умная… Н-да! Вотъ-те и весь сказъ! Иди, садись и ѣшь…
Она отошла и молча сѣла противъ отца, обиженно поджавъ губы. Маякинъ ѣлъ противъ обыкновенія медленно, подолгу шевыряя ложкой въ тарелкѣ щей и упорно разсматривая ихъ.
— Кабы засоренный умъ твой могъ понять отцовы мысли! — вдругъ сказалъ онъ, вздыхая съ какимъ-то свистомъ.
Любовь отбросила въ сторону свою ложку и чуть не со слезами въ голосѣ заговорила:
— Зачѣмъ обижать меня, папаша? Вѣдь видите вы — одна я! всегда одна! Вѣдь понятно вамъ, какъ тяжело мнѣ жить… и никогда вы слова ласковаго не скажете мнѣ.. Никогда ничего не говорите! И вы вѣдь одиноки… и вамъ тяжело… Я это вижу… Вамъ очень трудно жить… но, — вы сами въ этомъ виноваты! Вы сами…
— Вотъ и Валаамова ослица заговорила! — усмѣхнувшись сказалъ старикъ. — Н-ну? Что же дальше будетъ?
— Горды вы очень, папаша, вашимъ умомъ…
— А еще что?
— Это не хорошо… и очень больно мнѣ… зачѣмъ вы меня отталкиваете? Вѣдь у меня никого нѣтъ кромѣ васъ…
У нея на глазахъ появились слезы; отецъ замѣтилъ ихъ, и лицо его вздрогнуло.
— Кабы ты не дѣвка была! — воскликнулъ онъ. — Кабы у тебя умъ былъ, какъ… у Марѳы Посадницы, примѣрно… эхъ, Любовь! Тогда бы… Наплевалъ бы я на всѣхъ… на Ѳомку… Ну, не реви!
Она вытерла глаза и спросила:
— Что же Ѳомка?
— Бунтуетъ… Ха-ха! Говоритъ: возьмите у меня все имущество, отпустите меня на волю… Спасаться хочетъ… въ кабакахъ… Вотъ онъ что задумалъ, нашъ Ѳома…
— Что же… это?… — нерѣшительно спросила Любовь. Ей хотѣлось сказать, что желаніе Ѳомы хорошо, что это благородное желаніе, если оно серьезно, но она боялась раздражить отца своими словами и лишь вопросительно смотрѣла на него.
— Что это? — горячась и вздрагивая, заговорилъ Маякинъ. — А это у него или съ перепою, или — не дай Богъ! — материно… старовѣрческое… И если это кулугурская опара всходитъ въ немъ — много будетъ мнѣ съ нимъ бою! Великая склока пойдетъ у меня съ нимъ… Онъ — грудью пошелъ противъ меня… дерзость сразу большую обнаружилъ… Молодъ… хитрости нѣтъ еще въ немъ… Говоритъ: все пропью, все прахомъ пойдетъ… Я-те пропью!
Маякинъ поднялъ руку надъ головой и, сжавъ кулакъ, яростно погрозилъ имъ.
— Какъ смѣешь? Кто нажилъ дѣло, кто его оборудовалъ? Ты? Отецъ твой… Сорокъ лѣтъ труда положено, а ты его разрушить хочешь? Мы всѣ должны, гдѣ дружно стѣной, гдѣ осторожно, гуськомъ, одинъ за другимъ, идти къ своему мѣсту… Мы, купцы, торговые люди, вѣками Россію на своихъ плечахъ несли и теперь несемъ… Петръ Великій былъ царь божескаго ума… онъ намъ цѣну зналъ… Какъ онъ насъ поддерживалъ? Книжки печаталъ нарочно для нашего обученія дѣлу… Вонъ у меня его повелѣніемъ напечатанная книга Полидора Виргилія Урбинскаго объ изобрѣтателяхъ вещей… въ 720 году печатана… да! Это надо понять… Онъ и понималъ… и далъ намъ ходъ… А теперь — мы на своихъ ногахъ стоимъ… и свое мѣсто чуемъ. Ходу намъ дайте! Мы фундаментъ жизни закладывали — сами въ землю вмѣсто кирпичей ложились… теперь намъ этажи надо строить… позвольте намъ свободы дѣйствій! Вотъ куда нашъ братъ долженъ курсъ держать… Вотъ гдѣ задача… а Ѳомка этого не понимаетъ… Долженъ понять и — продолжать… У него отцовы средства… Я издохну — мои присоединятся: работай, щенокъ! А онъ колобродитъ. Нѣтъ, ты погоди! Я тебя вознесу до надлежащей точки!
Старикъ задыхался отъ возбужденія и сверкающими глазами смотрѣлъ на дочь такъ яростно, точно на ея мѣстѣ Ѳома сидѣлъ. Любовь пугало его возбужденіе, но у нея не хватало смѣлости остановить отца, и она молча смотрѣла на его суровое и мрачное лицо.
— Проложенъ путь отцами — и ты долженъ идти по немъ. Пятьдесятъ лѣтъ я работалъ — для чего? Чтобы послѣ меня мое дѣло закончили… мои дѣти… Дѣти мои! Гдѣ у меня дѣти?
Старикъ уныло опустилъ голову, голосъ его оборвался, и такъ глухо, точно онъ говорилъ куда-то внутрь себя, онъ сказалъ:
— Одинъ — каторжникъ… пропащій… другой — пьяница, и мало на него надежды… Дочь… Кому же я трудъ свой передъ смертью сдамъ?… Зять былъ бы… Я думалъ — перебродитъ Ѳомка, наточится, — отдамъ тебя ему и съ тобой все — на! Но вотъ Ѳомка негоденъ… А другого на мѣсто его — не вижу… Какіе люди пошли!… Раньше желѣзный былъ народъ, а теперь — резина… Гнутся всѣ… и ничего, никакой прочности не имѣютъ… Что̀ это? Отчего?
Маякинъ съ тревогой смотрѣлъ на дочь, она молчала.
— Скажи, — спросилъ онъ ее, — чего тебѣ надо? Какъ, по-твоему, жить надо? Чего ты хочешь? Ты училась, читала — что тебѣ нужно?
Вопросы сыпались на голову Любови неожиданно для нея, и она смутилась. Она и довольна была тѣмъ, что отецъ спрашиваетъ ее объ этомъ, и боялась отвѣчать ему, чтобъ не уронить себя въ его глазахъ. И вотъ, вся какъ-то подобравшись, точно собираясь прыгнуть черезъ столъ, она неувѣренно и съ дрожью въ голосѣ сказала:
— Чтобы всѣ были счастливы… и довольны… всѣ люди — равны… и всѣ имѣютъ одинаковое право на жизнь… на блага жизни… свобода нужна всѣмъ… такъ же, какъ воздухъ… и во всемъ — равенство!
Въ началѣ ея взволнованной рѣчи отецъ смотрѣлъ въ лицо ей съ тревожнымъ любопытствомъ въ глазахъ, но по мѣрѣ того, какъ она торопливо бросала ему свои слова, выраженіе глазъ его все измѣнялось, и, наконецъ, онъ со спокойнымъ презрѣніемъ сказалъ ей:
— Такъ я и зналъ: позлащенная дура ты!
Она поникла головой, но тотчасъ же вскинула ее и съ тоской воскликнула:
— Вы же сами говорите: свобода…
— Молчи ужъ! — грубо крикнулъ на нее старикъ. — Даже того не видишь, что изъ каждаго человѣка явно наружу претъ… Какъ могутъ быть всѣ счастливы и равны, если каждый хочетъ выше другого быть? Даже нищій свою гордость имѣетъ и предъ другими чѣмъ-нибудь всегда хвастается… Малъ ребенокъ — и тотъ хочетъ первымъ въ товарищахъ быть… И никогда человѣкъ человѣку не уступитъ — дураки только это думаютъ… У каждаго — душа своя… и лицо — свое… только тѣхъ, кто души своей не любитъ и лица не бережетъ, можно обтесать подъ одну мѣрку… Эхъ ты!… Начиталась, нажралась дряни…
Горькій укоръ и ядовитое презрѣніе выразились на лицѣ старика. Съ шумомъ оттолкнувъ отъ стола свое кресло, онъ вскочилъ съ него и, заложивъ руки за спину, мелкими шагами сталъ бѣгать по комнатѣ, потряхивая головой и что-то говоря про-себя злымъ, свистящимъ шопотомъ… Любовь, блѣдная отъ волненія и обиды, чувствуя себя глупой и безпомощной предъ нимъ, вслушивалась въ его шопотъ, и сердце ея трепетно билось.
— Одинъ остался… одинъ… Какъ Іовъ… О, Господи!… Что сдѣлаю? О… одинъ! Я ли — не уменъ? Я ли — не хитеръ? А жизнь и меня перехитрила… Что она любитъ? Кого она милуетъ? Хорошихъ бьетъ и дурнымъ не спускаетъ… И никому непонятна справедливость ея…
Дѣвушкѣ стало до боли жалко старика; ее охватило страшное желаніе помочь ему; ей хотѣлось быть нужной для него.
Горячими глазами слѣдя за нимъ, она вдругъ сказала ему тихонько:
— Папаша… милый! Не тоскуйте… вѣдь еще Тарасъ живъ… можетъ быть, онъ…
Маякинъ вдругъ остановился, какъ вкопанный, и медленно поднялъ голову.
— Молодымъ дерево покривилось, не выдержало, въ старости и подавно изломится… Ну, все-таки… и Тарасъ теперь мнѣ соломина… Хоть едва ли цѣна его выше Ѳомы… Есть у Гордѣева характерецъ… есть въ немъ отцово дерзновеніе… Много онъ можетъ поднять на себѣ… А Тараска.. это ты во-время вспомнила… н-да!
И старикъ, за минуту предъ тѣмъ упавшій духомъ до жалобъ, въ тоскѣ метавшійся по комнатѣ, какъ мышь въ мышеловкѣ, теперь, съ озабоченнымъ лицомъ, спокойно и твердо снова подошелъ къ столу, тщательно уставилъ около него свое кресло и сѣлъ, говоря:
— Надо будетъ пощупать Тараску… въ Усольѣ онъ живетъ, на заводѣ какомъ-то… Слышалъ я отъ купцовъ — соду что ли работаютъ тамъ… Узнаю подробно… Напишу…
— Позвольте, я напишу ему, папаша? — вздрагивая отъ радости и вся красная, тихо попросила Любовь…
— Ты? — спросилъ Маякинъ, мелькомъ взглянувъ на нее, потомъ помолчалъ, подумалъ и сказалъ:
— Можно! Это даже… лучше. Напиши… Спроси — не женатъ ли? Какъ, молъ, живешь? Что думаешь?… Да, впрочемъ, я тебѣ скажу, что написать, когда придетъ время…
— Вы скорѣе, папаша!… — сказала дѣвушка.
— Скорѣе-то надо вотъ замужъ тебя выдавать… Я тутъ присматриваюсь къ одному, рыженькому… парень какъ будто не дуракъ… Заграничной выдѣлки, между прочимъ…
— Это Смолинъ, папаша? — съ тревогой и любопытствомъ спросила Любовь.
— А хоть бы и онъ… что же? — дѣловито освѣдомился Яковъ Тарасовичъ.
— Ничего… Я его не знаю… — неопредѣленно отвѣтила Любовь.
— Познакомимъ… Пора, Любовь, пора! На Ѳому надежда плоха… хоть я и не отступлюсь отъ него…
— Я на Ѳому не разсчитывала… Что онъ мнѣ?
— Это ты напрасно… Кабы умнѣе была — можетъ онъ бы не свихнулся!… Я, бывало, видя васъ вдвоемъ, думалъ: прикормитъ дѣвка моя парня къ себѣ! Крѣпко дѣло будетъ! Анъ — прогадалъ… думалъ, ты… свою выгоду безъ указовъ понять можешь… Такъ-то, дѣвушка! — поучительно сказалъ ей отецъ.
Она задумалась, слушая его внушительную рѣчь. За послѣднее время ей, здоровой и сильной, все чаще приходила въ голову мысль о замужествѣ, ибо иного выхода изъ своего одиночества она не видѣла. Желаніе бросить отца и уѣхать куда-нибудь, чтобы чему-нибудь учиться, что-либо работать — она давно уже пережила, какъ пережила одиноко въ самой себѣ много другихъ желаній столь же острыхъ, но не глубокихъ и неопредѣленныхъ. Отъ разнообразныхъ книгъ, прочитанныхъ ею, въ ней остался мутный осадокъ, и хотя это было нѣчто живое, но живое какъ протоплазма. Изъ этого осадка въ дѣвушкѣ развилось чувство неудовлетворенности своей жизнью, стремленіе къ личной независимости, желаніе освободиться отъ тяжелой опеки отца, — но не было ни силъ для осуществленія этихъ желаній, ни яснаго представленія о томъ, какъ осуществляются они. А природа внушала свое, и дѣвушка неразъ уже, при видѣ молодыхъ матерей съ дѣтьми на рукахъ, чувствовала въ себѣ тоскливое и обидное томленіе. Порою, останавливаясь передъ зеркаломъ, она съ грустью разсматривала въ немъ свое полное, свѣжее лицо съ темными кругами около глазъ, и ей становилось жаль себя: она чувствовала, что жизнь обходитъ, забываетъ ее въ сторонѣ гдѣ-то. Теперь, слушая рѣчь отца, она представляла себѣ — какимъ можетъ быть этотъ Смолинъ? Она встрѣчала его еще гимназистомъ, онъ тогда былъ весь въ веснушкахъ, курносый, всегда чистенькій, степенный и скучный. Танцовалъ онъ тяжело и неуклюже, говорилъ неинтересно… Съ той поры прошло много времени: онъ былъ за границей, учился тамъ чему-то, — каковъ онъ теперь? Отъ Смолина мысль ея перескочила къ брату, и она съ замираніемъ сердца подумала: что-то онъ отвѣтитъ ей на письмо? Каковъ онъ? Образъ брата, какимъ она представляла его себѣ, заслонилъ предъ ней и отца, и Смолина, и она уже говорила себѣ, что до встрѣчи съ Тарасомъ ни за что не согласится выйти замужъ, какъ вдругъ отецъ крикнулъ ей:
— Эй, Любавка! Что задумалась? Надъ чѣмъ больше?
— Такъ… быстро все идетъ… — улыбнувшись, отвѣтила Люба.
— Что — быстро?
— Да все… недѣлю тому назадъ говорить съ вами о Тарасѣ нельзя было, а теперь вотъ…
— Нужда, дѣвка! Нужда — сила, стальной прутъ въ пружину гнетъ… а сталь упориста… Тарасъ… поглядимъ! Человѣкъ цѣненъ по сопротивленію своему силѣ жизни… ежели не она его, а онъ ее на свой ладъ крутитъ, — мое ему почтеніе! Позвольте руку пожать и давайте вмѣстѣ дѣло охаживать… Э-эхъ, старъ я… А жизнь-то теперь куда какъ бойка стала! Интересу въ ней — съ каждымъ годомъ все прибавляется… все больше смаку въ ней! Такъ бы и жилъ все, такъ бы все и дѣйствовалъ!…
Старикъ вкусно почмокивалъ губами, потиралъ руки, и глазки его жадно поблескивали.
— А вы вотъ — жидкой крови людишки! Еще не выросли, а ужъ себя переросли и дряблые живете, какъ старая рѣдька… И то, что жизнь все краше становится, — недоступно вамъ… Я шестьдесятъ семь лѣтъ на сей землѣ живу и уже вотъ у гроба своего стою, но вижу: встарину, когда я молодъ былъ, и цвѣтовъ на землѣ меньше было, и не столь красивые цвѣты были… Все украшается! Зданія какія пошли! Орудіе разное, торговое… Пароходищи! Ума во все бездна вложено! Смотришь — думаешь: ай да люди, молодцы! въ ротъ вамъ комъ каши! Ловко жизнь обтяпали… Все хорошо, все пріятно… только вы, наслѣдники наши, — всякаго живого чувства лишены! Какой-нибудь шарлатанишка изъ мѣщанъ и то бойчѣе васъ… Вонъ этотъ… Ежовъ-то — что онъ такое? А изображаетъ собою судью надъ вами… и даже надо всей жизнью… одаренъ смѣлостью. А вы… тьфу! Нищими живете… въ весельѣ вы — скоты, въ несчастьѣ — мразь! Тухлые люди… огня бы вамъ въ жилы пустить… содрать бы съ васъ шкуры, да посыпать по живому мясу солью — запрыгали бы чай?
Яковъ Тарасовичъ, маленькій, сморщенный и костлявый, съ черными обломками зубовъ во рту, лысый и темный, какъ будто опаленный жаромъ жизни и прокоптѣвшій въ немъ, весь трепеталъ въ пылкомъ возбужденіи, осыпая дребезжащими, презрительными словами свою дочь — молодую, рослую и полную. Она смотрѣла на него виноватыми глазами, смущенно улыбалась, и въ сердцѣ ея все росло уваженіе къ живому и стойкому въ своихъ желаніяхъ старику…
•••
А Ѳома все блуждалъ и колобродилъ, проводя дни и ночи въ трактирахъ и вертепахъ и все глубже усваивая презрительно-ненавистное отношеніе къ людямъ, окружавшимъ его. Порой они вызывали въ немъ тоскливое желаніе найти среди нихъ какой-нибудь отпоръ своему злому чувству, встрѣтить человѣка достойнаго и смѣлаго, который устыдилъ бы его горячимъ, укоризненнымъ словомъ. Это желаніе съ каждымъ разомъ возникало въ немъ все болѣе ясно ему, — это было желаніе помощи со стороны человѣку, который чувствовалъ, что заплутался онъ и гибнетъ…
— Братцы! — крикнулъ онъ какъ-то, сидя за столомъ въ трактирѣ, полупьяный и окруженный какими-то темными и жадными людьми, которые такъ много ѣли и пили, какъ будто передъ тѣмъ въ продолженіе долгихъ дней у нихъ куска во рту не было. — Братцы! Тошно мнѣ… скучно мнѣ съ вами! Избейте вы меня… прогоните меня!… Мерзавцы вы… но другъ ко другу вы ближе, чѣмъ ко мнѣ… Почему? Вѣдь и я тоже пьяница и мерзавецъ… а — чужой вамъ! Я вижу — чужой… Изъ меня вы пьете и въ меня потихоньку плюете… я чувствую это! За что?
Они не могли, разумѣется, относиться иначе къ нему: въ глубинѣ души, быть можетъ, ни одинъ изъ нихъ не считалъ себя ниже его, но онъ былъ богатъ, — это мѣшало имъ отнестись къ нему болѣе по-товарищески, и онъ говорилъ все какія-то насмѣшливо-сердитыя, совѣстливыя слова, — это стѣсняло ихъ. Затѣмъ — онъ былъ силенъ и дерзокъ на руку, — они не смѣли ни слова сказать противъ него. А ему именно этого хотѣлось, онъ все сильнѣе желалъ, чтобы нѣкто изъ нихъ, презираемыхъ имъ, сталъ противъ него, лицомъ къ лицу, и сказалъ ему что-нибудь сильное, что, какъ рычагомъ, своротило бы его въ сторону съ этого покатаго пути, опасность котораго онъ чувствовалъ и грязь — видѣлъ, полный безсильнаго отвращенія къ ней…
И Ѳома нашелъ нужное ему.
Однажды онъ, раздраженный невниманіемъ къ нему, крикнулъ своимъ собутыльникамъ:
— Вы, клопы! Молчать всѣ!… Кто васъ поитъ, кормитъ? Забыли? Я васъ приведу въ порядокъ! Я научу уважать меня! Арестанты! Я говорю — значитъ — цыцъ всѣ!
Они дѣйствительно замолчали, должно быть напуганные возможностью потерять его расположеніе, или, быть можетъ, боясь, что онъ, здоровый и сильный звѣрь, побьетъ ихъ. Съ минуту они сидѣли въ молчаніи, тая въ себѣ злобу противъ него, наклонившись надъ тарелками и стараясь скрыть отъ него свой испугъ и смущеніе. Ѳома самодовольно осмотрѣлъ ихъ и, удовлетворенный ихъ рабской покорностью, хвастливо сказалъ:
— Ага! Пришипились… то-то! У меня — строго! Я…
— Балбесъ! — раздался чей-то спокойный и громкій возгласъ.
— Что-о? — заревѣлъ Ѳома, вскакивая со стула. — Кто это говоритъ?
Тогда на концѣ стола поднялся какой-то странный, потертый человѣкъ, высокій, въ длинномъ сюртукѣ, съ копной полусѣдыхъ волосъ на огромной головѣ. Волосы его были жестки и торчали во всѣ стороны густыми вихрами, лицо желтое, бритое, съ большимъ горбатымъ носомъ. Ѳомѣ онъ показался похожимъ на швабру, которой моютъ пароходныя палубы, и это развеселило полупьянаго парня…
— Хо-орошъ! — съ усмѣшкой сказалъ онъ. — Ты что же лаешься, а? Ты знаешь, кто я?
Человѣкъ жестомъ трагическаго актера протянулъ къ Ѳомѣ руку, съ длинными и гибкими, какъ у фокусника, пальцами, и густымъ хрипящимъ басомъ сказалъ:
— Ты — гнилая болѣзнь твоего отца, который, хотя и былъ грабитель, но все-таки — достойный человѣкъ въ сравненіи съ тобой…
У Ѳомы отъ неожиданности и гнѣва дыханіе въ груди сперло, онъ свирѣпо вытаращилъ глаза и молчалъ, не находя, чѣмъ отвѣтить на эту дерзость. А человѣкъ, стоявшій противъ него, воодушевленно хрипѣлъ, звѣрски вращая большими, но выцвѣтшими и опухшими глазами:
— Ты требуешь отъ насъ почтенія къ тебѣ — дурракъ! — Чѣмъ ты заслужилъ его? Кто ты? Пьяница, пропивающій капиталы отца… Дикарь! ты долженъ гордиться тѣмъ, что я, знаменитый артистъ, безкорыстный и вѣрный слуга искусства, пью изъ одной бутылки съ тобой! Въ бутылкѣ этой — сандалъ и патока, настоянная на нюхательномъ табакѣ, а ты думаешь — это портвейнъ. Она — твой патентъ на званіе дикаря и осла!
— Ахъ ты, ар-рестантъ! — взревѣлъ Ѳома, бросаясь къ артисту. Но его схватили и удержали. Барахтаясь въ объятіяхъ вцѣпившихся въ него людей, онъ принужденъ былъ безотвѣтно слушать, какъ человѣкъ, похожій на швабру, громилъ его густой и тяжелой октавой.
— Ты кинулъ людямъ семишникъ изъ украденнаго рубля и мнишь себя героемъ? Ты дважды воръ: укралъ рубль и теперь воруешь благодарность за семишникъ твой!… Но я не дамъ тебѣ ея! Я, посвятившій всю жизнь свою обличенію порока, стою предъ тобой и говорю смѣло: ты — дуракъ и нищій, ибо слишкомъ богатъ! Тутъ — мудрость: всѣ богачи — нищіе… Вотъ какъ знаменитый куплетистъ Римскій-Каннибальскій служитъ правдѣ!
Ѳома уже стоялъ смирно среди людей, плотно обступившихъ, и съ жадностью слушалъ громовую рѣчь куплетиста, которая теперь вызывала у него такое ощущеніе, какъ будто ему почесывали больное мѣсто и этимъ укрощали острый зудъ боли. Публика волновалась: одни старались прекратить потокъ краснорѣчія куплетиста, другіе хотѣли увести Ѳому куда-то. Онъ молча отталкивалъ ихъ и слушалъ, все болѣе поглощаемый острымъ наслажденіемъ униженія, которое чувствовалъ онъ предъ этими людьми. Все горячѣй ласкала его душу боль, возбужденная въ ней словами куплетиста, а тотъ гремѣлъ, упиваясь безнаказанностью своего обличенія:
— Ты думаешь, что ты владыка жизни? Ты — низкій рабъ рубля…
Кто-то изъ публики громко икалъ, и, должно быть, недовольный собой за это, каждый разъ, икнувъ, ругался:
— О, ч-чортъ…
А въ какомъ-то небритомъ человѣкѣ съ жирнымъ лицомъ пробудилась жалость къ Ѳомѣ или ему стало скучно присутствовать при этой сценѣ, и онъ, махая руками, жалобно тянулъ:
— Го-оспода-а! Бро-осьте! Не хо-орошо! Вѣдь всѣ мы — грѣшники! Положительно всѣ… повѣрьте мнѣ!
— Ну, говори! — бормоталъ Ѳома. — Говори все! Я тебя не трону…
Зеркала въ простѣнкахъ отражали эту пьяную сумятицу, и отраженные въ нихъ люди казались еще гаже и гнуснѣй, чѣмъ были въ дѣйствительности…
— Не хочу говорить! — закричалъ куплетистъ, — не хочу бисера правды и ярости моей метать передъ тобой…
Онъ рванулся и, великолѣпно поднявъ голову вверхъ, трагическими шагами пошелъ къ двери.
— Врешь! — сказалъ Ѳома, порываясь за нимъ. — Постой! Ты меня растревожилъ — ты и успокой.
Его схватили, окружили и что-то кричали ему, а онъ рвался впередъ, опрокидывая всѣхъ. Когда на пути его встрѣчались осязательныя преграды — борьба съ ними успокоивала его, объединяя всѣ его смутныя чувства въ одномъ стремленіи — опрокинуть то, что ему мѣшаетъ. И теперь, растолкавъ всѣхъ и выскочивъ на улицу, онъ былъ уже менѣе возбужденъ. Стоя на тротуарѣ, онъ оглядывалъ улицу и со стыдомъ думалъ:
„Какъ онъ могъ позволить этой швабрѣ издѣваться надъ нимъ и ругать воромъ отца его?“
Вокругъ было темно и тихо; ярко свѣтила луна, и дулъ легкій, освѣжающій вѣтеръ. Подставивъ лицо его прохладному дыханію, Ѳома быстрыми шагами пошелъ противъ вѣтра, пугливо оглядываясь и не желая, чтобы за нимъ послѣдовалъ кто-нибудь изъ компаніи въ трактирѣ: онъ понималъ, что уронилъ себя въ глазахъ всѣхъ этихъ людей. Шелъ онъ и думалъ о томъ, что вотъ до чего дожилъ: какой-то проходимецъ публично ругаетъ его позорными словами, а онъ, сынъ именитаго купца, ничѣмъ не могъ отплатить за издѣвательство.
„Такъ мнѣ и надо! — злорадно и уныло думалось Ѳомѣ. — Такъ и надо! Не теряй себя… понимай… И опять же — самъ хотѣлъ… самъ всѣхъ задиралъ… Вотъ и — получи!“ Ему стало до боли жалко себя отъ этихъ думъ. Охваченный ими и отрезвленный, онъ все шелъ куда-то по улицамъ и все искалъ въ себѣ чего-нибудь крѣпкаго, твердаго… Но все было смутно въ немъ и лишь тѣснило сердце, не принимая никакихъ опредѣленныхъ формъ. Точно въ тяжелой дремѣ онъ дошелъ до рѣки, сѣлъ на брёвна на берегу ея и сталъ смотрѣть на тихую, темную воду, покрытую мелкой рябью. Спокойно и почти безшумно текла широкая, могучая рѣка и несла на груди своей огромныя тяжести. Вся она была загромождена черными судами, сигнальные огни и звѣзды отражались на водѣ ея; маленькія, легкія волны ласково и съ тихимъ звукомъ набѣгали на берегъ прямо подъ ноги Ѳомѣ… Съ неба вѣяло грустью; чувство одиночества давило Ѳому…
„Господи Исусе! — думалъ онъ, тоскливо глядя въ небо… — Экой я неудачный… Ничего во мнѣ нѣтъ… ничего въ меня Богомъ не вложено… Зачѣмъ я такой нуженъ? Господи Исусе!“
Отъ воспоминанія о Христѣ Ѳомѣ стало какъ-то легче, одиночество какъ бы смягчилось, и, вздохнувъ всей грудью, Ѳома началъ безмолвно говорить Богу:
„Господи Исусе!… Иные люди тоже ничего не понимаютъ, но думаютъ они, что имъ все извѣстно, и оттого легко имъ жить… А мнѣ — нѣтъ оправданія… Ночь вотъ… а я одинъ и идти мнѣ некуда… Никому я ничего не могу сказать… никого не люблю… Только крестный, а онъ безъ души… Кабы Ты наказалъ его чѣмъ-нибудь!… Онъ думаетъ, что умнѣе и лучше его вовсе нѣтъ ничего на землѣ… а Ты это терпишь… И я тоже… Хоть бы несчастіе какое-нибудь дано мнѣ было… захворать бы… А то вотъ здоровъ я… ровно желѣзо… Пью, гуляю… живу въ грязи… но тѣло даже не ржавѣетъ, а только душа болитъ… О, Господи! Зачѣмъ такая жизнь?“
Одна за другой въ головѣ одинокаго, заплутавшагося человѣка возникали робкія протестующія мысли, а тишина вокругъ него все сгущалась, и ночь становилась темнѣй. Недалеко отъ берега стояла на якорѣ косовая лодка; она покачивалась изъ стороны въ сторону, и что-то на ней поскрипывало, точно стонало…
„Какъ мнѣ освободиться отъ такой жизни? — раздумывалъ Ѳома, глядя на лодку. — И какое мнѣ дѣло опредѣлено? Всѣ работаютъ…“
И вдругъ его поразила одна большая для него мысль:
„И тяжелая работа дешевле легкой! Иной за рубль всего себя уложитъ въ работу, а тотъ — тысячу однимъ пальцемъ беретъ…“ Его пріятно возбудила эта мысль: ему показалось, что вотъ онъ нашелъ въ жизни людей еще одну фальшь, еще обманъ, который они скрываютъ… Онъ вспомнилъ одного изъ своихъ кочегаровъ — старика Илью, который за гривенникъ вставалъ на вахту къ топкѣ не въ очередь и работалъ за товарища по восьми часовъ въ духотѣ и жарѣ. Однажды онъ, захворавъ отъ непосильной работы, валялся на кормѣ парохода, и когда Ѳома спросилъ его, зачѣмъ онъ такъ убивается, то Илья отвѣтилъ грубо и угрюмо:
— А затѣмъ, что мнѣ каждая копейка нужнѣе, чѣмъ тебѣ сто рублевъ… вотъ зачѣмъ!…
И, сказавъ это, старикъ тяжело поворотилъ свое горящее отъ болѣзни тѣло задомъ къ Ѳомѣ.
Остановившись на кочегарѣ, мысль его вдругъ и безъ усилія обняла собою всѣхъ этихъ маленькихъ людей, работающихъ тяжелую работу. Было странно — зачѣмъ они живутъ? Какое удовольствіе для нихъ жить на землѣ? Все только работаютъ свою грязную, трудную работу, ѣдятъ скверно, одѣты плохо, пьянствуютъ… Иному лѣтъ шестьдесятъ, а онъ все еще ломается наряду съ молодыми парнями… И всѣ они представились Ѳомѣ большой кучей червей, которые копошатся на землѣ только для того, чтобъ поѣсть. Въ памяти возникали одно за другимъ его столкновенія съ этими людьми, ихъ рѣчи о жизни, — рѣчи то насмѣшливыя и грустныя, то безнадежно-угрюмыя, — ихъ воющія пѣсни… И тутъ же вспомнилось ему, какъ однажды въ конторѣ Ефимъ говорилъ служащему, нанимавшему матросовъ:
— Тамъ лопухинскіе мужики наниматься пришли, такъ ты имъ больше десяти въ мѣсяцъ не давай. Они лѣтось до тла сгорѣли, и нужда у нихъ теперь большая — пойдутъ и за десять…
Сидя на бревнахъ, Ѳома покачивался всѣмъ корпусомъ, а изъ тьмы съ рѣки предъ нимъ безмолвно появлялись разнообразныя человѣческія фигуры — матросы, кочегары, приказчики, половые изъ трактировъ, полупьяныя, раскрашенныя женщины, трактирные завсегдатаи. Они плыли въ воздухѣ какъ тѣни, отъ нихъ пахло чѣмъ-то сырымъ и солоноватымъ, и темная, густая куча ихъ ворочалась такъ медленно, безшумно и безпутно, какъ осеннія облака въ небѣ. Тихій плескъ волнъ лился въ душу грустно вздыхающей музыкой. Далеко, гдѣ-то на другомъ берегу рѣки, горѣлъ костеръ; объятый тьмой со всѣхъ сторонъ, иногда онъ почти совсѣмъ поглощался ею — и во тьмѣ дрожало чуть видное глазу красноватое пятно. Но вотъ вновь вспыхивалъ огонь — тьма разступалась предъ нимъ, и было видно, какъ онъ рвется кверху. А потомъ онъ снова гасъ…
„Господи, Господи! — тяжело и горько думалъ Ѳома, чувствуя, какъ тоска все сильнѣе щемитъ ему сердце. — Вотъ и я тоже… совсѣмъ одинъ, какъ этотъ огонь… Только свѣта нѣтъ отъ меня, а чадъ… угаръ. Хоть бы умнаго человѣка встрѣтить… Поговорить бы съ кѣмъ… Совсѣмъ невозможно мнѣ жить одному… Ничего я не могу… Человѣка бы встрѣтить…“
Вдали, на рѣкѣ, появились два большихъ багровыхъ огня и высоко надъ ними — третій. Что-то глухо шумѣло тамъ, что-то черное двигалось къ Ѳомѣ.
„Пароходъ идетъ снизу… — думалось ему. — На немъ, можетъ, не одна сотня людей… а никому изъ нихъ нѣтъ до меня дѣла… Всѣ знаютъ, куда плывутъ… У всѣхъ свое есть… каждый, чай, понимаетъ, что ему надо… а мнѣ чего? И кто мнѣ скажетъ? Гдѣ такой человѣкъ?“
Огни парохода отражались въ рѣкѣ и дрожали въ ней, освѣщенная вода разбѣгалась отъ него съ глухимъ ропотомъ — и пароходъ казался огромной черной рыбой съ огненными плавниками…
Прошло еще нѣсколько дней послѣ этой тяжкой ночи, и Ѳома снова закутилъ. Это вышло нечаянно и противъ его желанія. Онъ рѣшилъ было удержаться отъ пьянства и пошелъ обѣдать въ одну изъ дорогихъ гостиницъ города, надѣясь, что въ ней не встрѣтитъ никого изъ знакомыхъ собутыльниковъ, всегда избиравшихъ для кутежей болѣе дешевыя и менѣе приличныя мѣста. Но расчетъ его оказался невѣрнымъ: онъ сразу попалъ въ пріятельски-радостныя объятія сына водочнаго заводчика, который взялъ на содержаніе Сашу.
Онъ подбѣжалъ къ Ѳомѣ, обнялъ его и весело захохоталъ.
— Вотъ это встрѣча! А я здѣсь третій день проѣдаюсь и скучно въ тяжкомъ одиночествѣ… Во всемъ городѣ нѣтъ ни одного порядочнаго человѣка, такъ что я даже съ газетчиками вчера познакомился… Ничего, народъ веселый… хоть и играли сначала аристократовъ и все фыркали на меня, но потомъ всѣ вдребезги напились… Сегодня то же будетъ — клянусь капиталами отца! Я васъ познакомлю съ ними… Тутъ одинъ есть фельетонистъ, знаете — этотъ, который васъ тогда возвеличилъ… какъ его? Увеселительный малый… чортъ его дери! Знаете — нанять бы такого для собственнаго употребленія?! Дать ему сколько-нибудь и прикомандировать къ себѣ — увеселяй! Здорово? У меня былъ въ услуженіи куплетистъ одинъ, — ничего, знаете, весело съ нимъ было… Бывало, я ему скомандую: „Римскій! валяй куплеты!“ Онъ начнетъ — прямо говорю — животики надорвешь… Жаль, сбѣжалъ куда-то… Обѣдали?
— Нѣтъ еще… А что Александра? — спросилъ Ѳома, немного оглушенный громкой рѣчью этого высокаго, развязнаго парня съ краснымъ лицомъ и въ пестромъ костюмѣ.
— Н-ну, знаете, — поморщился тотъ, — эта ваша Александра — дрянь-женщина! Какая-то… темная… скучно съ ней, чортъ ее возьми! Холодная, какъ лягушка, брр! Нѣтъ, я ей дамъ отставку…
— Холодная — это вѣрно, — сказалъ Ѳома и задумался.
— Каждый человѣкъ долженъ дѣлать свое дѣло самымъ лучшимъ образомъ, — поучительно сказалъ сынъ водочнаго заводчика, — и если ты поступаешь на содержаніе, такъ тоже должна исполнять свою обязанность какъ нельзя лучше… коли ты порядочная женщина… Ну-съ, водки выпьемъ?
Выпили. И, разумѣется, напились.
Къ вечеру въ гостиницѣ собралась большая и шумная компанія, и Ѳома, пьяный, но грустный и тихій, говорилъ ей заплетающимся языкомъ:
— Я такъ понимаю: одни люди — черви, другіе — воробьи… Воробьи — это купцы… Они клюютъ червей… Такъ ужъ имъ положено… Они — нужны… А я… и всѣ вы — ни къ чему… Мы живемъ безъ сравненія… и безъ оправданія… совсѣмъ — зря… И совсѣмъ не нужно насъ… Но и тѣ… и всѣ — для чего? Это надо понять… Братцы!… Мы всѣ — лопнемъ… ей Богу! А отчего — лопнемъ? Оттого что… лишнее все въ насъ… въ душѣ лишнее… и вся жизнь наша — лишняя! Братцы! Я плачу… на что меня нужно? Не нужно меня!… Убейте меня… чтобы я умеръ… Хочу, чтобы я умеръ…
И онъ плакалъ обильными, пьяными слезами. Къ нему подсѣлъ какой-то пьяненькій и маленькій черный человѣчекъ и о чемъ-то напоминалъ ему, лѣзъ цѣловаться съ нимъ и кричалъ, стуча ножомъ по столу:
— Вѣрно! Молчать! Слово сырью! Дайте слово слонамъ и мамонтамъ неустройства жизни! Говоритъ святыя рѣчи сырая русская совѣсть! Рычи, Гордѣевъ! Рычи на все!… — И онъ снова цѣплялся за плечи Ѳомы и лѣзъ на грудь къ нему, поднимая къ его лицу свою круглую, черную, гладко остриженную голову, неустанно вертѣвшуюся на его плечахъ во всѣ стороны, такъ что Ѳома не могъ разсмотрѣть его лица, сердился на него за это и все отталкивалъ его отъ себя, раздраженно вскрикивая:
— Не лѣзь! Гдѣ у тебя рожа? Пшелъ!
Вокругъ нихъ стоялъ оглушающій, пьяный хохотъ, и, задыхаясь отъ него, сынъ водочнаго заводчика хрипло ревѣлъ кому-то:
— Иди ко мнѣ! Сто рублей въ мѣсяцъ, столъ и квартиру! Честное слово! Иди! Честное слово! Плюнь на газету… я дороже дамъ!
И все качалось изъ стороны въ сторону плавными, волнообразными движеніями. Люди то отдалялись отъ Ѳомы, то приближались къ нему, потолокъ опускался, а полъ двигался вверхъ, и Ѳомѣ казалось, что вотъ его сейчасъ расплющитъ, раздавитъ. Затѣмъ онъ почувствовалъ, что плыветъ куда-то, по необъятно широкой и бурной рѣкѣ, и, шатаясь на ногахъ, въ испугѣ началъ кричать:
— Куда плывемъ? гдѣ капитанъ?
Ему отвѣчалъ громкій, безсмысленный смѣхъ пьяныхъ людей и рѣзкій, противный крикъ чернаго человѣчка:
— Вѣрно-о! Всѣ мы — безъ руля и безъ вѣтрилъ… Гдѣ капитанъ? Что-о? Ха-ха-ха!…
•••
Ѳома очнулся отъ этого кошмара въ маленькой комнаткѣ съ двумя окнами, и первое, на чемъ остановились его глаза, было сухое дерево. Оно стояло подъ окномъ; толстый стволъ его, съ облѣзлой корой и гнилою сердцевиной, преграждалъ свѣту доступъ въ комнату, изогнутыя и черныя вѣтви безъ листьевъ печально и безсильно распростерлись въ воздухѣ и, покачиваясь, тихо, жалобно скрипѣли. Шелъ дождь, по стекламъ лились потоки воды, было слышно, какъ она течетъ съ крыши на землю и всхлипываетъ. Къ этому плачущему звуку примѣшивался другой, тонкій, то и дѣло прерывавшійся торопливый скрипъ пера по бумагѣ и какое-то отрывистое ворчаніе.
Съ трудомъ поворотивъ на подушкѣ больную и тяжелую голову, Ѳома увидалъ маленькаго чернаго человѣчка, который, сидя за столомъ, быстро царапалъ перомъ по бумагѣ, одобрительно встряхивалъ круглой головой, вертѣлъ ею во всѣ стороны, передергивалъ плечами и весь — всѣмъ своимъ маленькимъ тѣломъ, одѣтымъ лишь въ подштанники и ночную рубаху — неустанно двигался на стулѣ, точно ему было горячо сидѣть, а встать онъ не могъ почему-то. Лѣвая его рука, худая и тонкая, то крѣпко потирала лобъ, то дѣлала въ воздухѣ какіе-то непонятные знаки; босыя ноги шаркали по полу, на шеѣ трепетала какая-то жила, и даже уши его двигались. Когда его лицо обращалось къ Ѳомѣ — Ѳома видѣлъ тонкія губы, что-то шептавшія, острый носъ, опускавшійся къ рѣдкимъ усикамъ, и эти усики, прыгавшіе вверхъ каждый разъ, когда человѣчекъ улыбался… Лицо у него было желтое, опухшее, морщинистое, и черные, живые, блестящіе глазки казались чужими на немъ.
Уставъ смотрѣть на него, Ѳома сталъ медленно водить глазами по комнатѣ. На большіе гвозди, вбитые въ ея стѣны, были воткнуты пучки газетъ, отчего казалось, что стѣны покрыты опухолями. Потолокъ былъ оклеенъ когда-то бѣлой бумагой; она вздулась пузырями, полопалась, отстала и висѣла грязными клочьями; на полу валялось платье, сапоги, книги, рваная бумага… Вся комната производила такое впечатлѣніе, точно она была ошпарена кипяткомъ.
Человѣчекъ бросилъ перо, наклонился надъ столомъ, бойко забарабанилъ по краю его пальцами рукъ и тихонько слабенькимъ голоскомъ запѣлъ:
Ѳома тяжело вздохнулъ и сказалъ:
— А… зельтерской бы выпить… нельзя?
— Ага! — воскликнулъ человѣчекъ и, спрыгнувъ со стула, очутился у широкаго дивана, обитаго клеенкой, на которомъ лежалъ Ѳома. — Здорово, товарищъ! Зельтерской? Могу! Съ коньякомъ или просто?
— Лучше съ коньякомъ… — сказалъ Ѳома, пожимая протянутую ему сухую и горячую руку и пристально всматриваясь въ лицо человѣчка…
— Егоровна! — крикнулъ тотъ къ двери и, обратясь къ Ѳомѣ, спросилъ: — Не узнаешь, Ѳома Игнатьевичъ?
— Помню… что-то… будто встрѣчались…
— Четыре года продолжалась эта встрѣча… но это давно было! Ежовъ…
— Господи! — воскликнулъ Ѳома съ изумленіемъ, привставъ на диванѣ. — Да развѣ это ты?
— Я, братъ, самъ порой не вѣрю въ это, но реальный фактъ — есть нѣчто такое, отчего сомнѣніе отскакиваетъ, какъ резиновый мячъ отъ желѣза…
Лицо Ежова смѣшно исказилось, и руки для чего-то начали ощупывать грудь.
— Н-ну-у! — протянулъ Ѳома. — Вотъ такъ постарѣлъ ты! А-я-яй! Сколько жъ тебѣ лѣтъ-то?
— Тридцать…
— А ровно пятьдесятъ… сухой, желтый… Видно не сладко жить-то? И пьешь, вотъ…
Ѳомѣ было жалко видѣть веселаго и бойкаго школьнаго товарища такимъ изношеннымъ и живущимъ въ этой конурѣ, какъ бы распухшей отъ ожоговъ. Онъ смотрѣлъ на него, грустно мигалъ глазами и видѣлъ, какъ лицо Ежова все подергивается, а глазки пылаютъ раздраженіемъ. Ежовъ откупоривалъ бутылку съ водой и, занятый этимъ, молчалъ, сжавъ бутылку колѣнями и тщетно напрягаясь, чтобы вытащить изъ нея пробку. И это его безсиліе тоже трогало Ѳому.
— Н-да, обсосала тебя жизнь-то… А учился… Видно и отъ наукъ человѣку мало помощи, — задумчиво говорилъ Гордѣевъ.
— Пей! — сказалъ Ежовъ, даже поблѣднѣвшій отъ усталости и подавая ему стаканъ. Затѣмъ онъ потеръ лобъ, сѣлъ на диванъ къ Ѳомѣ и заговорилъ:
— Науку оставь! Наука есть божественный напитокъ, но пока онъ еще не перебродилъ и негоденъ къ употребленію, какъ водка неочищенная отъ сивушнаго масла. Для счастья человѣка наука еще не готова, другъ мой… и у живыхъ людей, потребляющихъ ее, только головы болятъ… вотъ какъ у насъ съ тобой теперь… Ты что это, какъ неосторожно пьешь?
— Я?… А что мнѣ дѣлать? — спросилъ Ѳома, усмѣхаясь.
Ежовъ пытливо прищуренными глазами посмотрѣлъ на Ѳому и сказалъ:
— Сопоставляя твой вопросъ со всѣмъ тѣмъ, что ты вчера мололъ, чую я душой моей смущенной, что ты, другъ, тоже не отъ веселой жизни веселишься…
— Эхъ! — тяжко вздохнулъ Ѳома, вставая съ дивана. — Какая моя жизнь? Такъ что-то… несуразное… Живу одинъ… ничего не понимаю… а чего-то хочется… плюнуть на все хочется и провалиться бы куда-нибудь! Бѣжать бы отъ всего… Тоска!
— Это любопытно! — сказалъ Ежовъ, потирая руки и весь вертясь. — Это любопытно, если это вѣрно и глубоко, ибо доказываетъ, что святой духъ недовольства жизнью проникъ уже и въ купеческія спальни… въ мертвецкія душъ, утопленныхъ въ жирныхъ щахъ, въ озерахъ чая и прочихъ жидкостяхъ… Ты мнѣ изложи все по порядку… Я, братъ, тогда романъ напишу…
— Мнѣ говорили, что ты и то ужъ написалъ про меня что-то? — съ любопытствомъ спросилъ Ѳома и еще разъ внимательно осмотрѣлъ стараго товарища, не понимая, что можетъ написать онъ, такой жалкій.
— Написалъ! А ты читалъ?
— Нѣтъ, не довелось…
— А что же тебѣ говорили?
— Здорово, будто, изругалъ ты меня.
— Гм… А тебѣ не интересно самому прочитать? — допрашивалъ Ежовъ, въ упоръ разсматривая Гордѣева.
— Я прочитаю! — обнадежилъ его Ѳома, чувствуя, что неловко ему передъ Ежовымъ, и что Ежова какъ будто обижаетъ такое отношеніе къ его писаніямъ. — Въ самомъ дѣлѣ — вѣдь интересно, ежели про меня написано… — добавилъ онъ, добродушно улыбаясь товарищу.
Но, говоря это, онъ не ощущалъ никакого интереса и говорилъ лишь по чувству жалости къ Ежову. Ощущалъ онъ нѣчто другое: ему хотѣлось знать, что за человѣкъ Ежовъ, и отчего онъ сталъ такимъ истертымъ?
Эта встрѣча родила въ немъ тихое и доброе чувство, вызвала у него воспоминанія о дѣтствѣ, и они мелькали теперь въ памяти его, — мелькали, какъ маленькіе скромные огоньки, пугливо свѣтя ему изъ дали прошлаго.
Ежовъ подошелъ къ столу, на которомъ уже стоялъ кипящій самоваръ, молча налилъ два стакана густого, какъ деготь, чая и сказалъ Ѳомѣ:
— Иди пей чай… И разсказывай про себя.
— Мнѣ нечего разсказывать… Я ничего въ жизни не видалъ… Пустая у меня жизнь! Лучше ты мнѣ про себя разскажи… ты все-таки, чай, больше моего знаешь…
Ежовъ задумался, не переставая вертѣться всѣмъ тѣломъ и крутить головой. Въ задумчивости только лицо его становилось неподвижнымъ, — всѣ морщинки на немъ собирались около глазъ и окружали ихъ какъ бы лучами, а глаза отъ этого уходили глубже подъ лобъ…
— Н-да, я, братъ, кое-что видѣлъ и знаю… — заговорилъ онъ, встряхивая головой. — И, пожалуй, знаю я — больше, чѣмъ мнѣ слѣдуетъ знать, а знать больше, чѣмъ нужно, такъ же вредно для человѣка, какъ и не знать того, что необходимо знать… Разсказать тебѣ, какъ я жилъ? Могу… то-есть попробую. Никогда, никому не разсказывалъ о себѣ… потому что ни въ комъ не возбуждалъ интереса… Преобидно жить на свѣтѣ, не возбуждая въ людяхъ интереса къ себѣ!…
— Ужъ я по лицу да и по всему вижу, что не хорошо тебѣ жилось! — сказалъ Ѳома, чувствуя удовольствіе отъ того, что и товарищу, какъ оказывается, жизнь тоже не сладка была…
Ежовъ залпомъ выпилъ свой чай, швырнулъ стаканъ на блюдцо, поставилъ ноги на край стула и, обнявъ колѣни руками, положилъ на нихъ подбородокъ. Въ этой позѣ, маленькій и гибкій, какъ резина, онъ заговорилъ:
— Студентъ Сачковъ, бывшій мой учитель, а нынѣ докторъ медицины, винтёръ и холопъ, говорилъ мнѣ, бывало, когда я хорошо выучу урокъ: „Молодецъ Коля! Ты способный мальчикъ. Мы, разночинцы, простые и бѣдные люди, съ задняго двора жизни должны учиться и учиться, чтобы стать впереди всѣхъ… Россія нуждается въ умныхъ и честныхъ людяхъ, старайся быть такимъ, и ты будешь хозяиномъ своей судьбы и полезнымъ членомъ общества. На насъ, разночинцахъ, покоятся теперь лучшія надежды страны, мы призваны внести въ нее свѣтъ, правду…“ и т. д. Я ему, скотинѣ, вѣрилъ… И вотъ съ той поры прошло около двадцати лѣтъ — мы, разночинцы, выросли, но ума не вынесли и свѣта въ жизнь не внесли. Россія по-прежнему страдаетъ своей хронической болѣзнью — избыткомъ мерзавцевъ, и мы, разночинцы, съ удовольствіемъ пополняемъ собой ихъ густыя толпы. Мой учитель, повторяю, — лакей, безличное и безмолвное существо, которому городской голова приказываетъ… а я — паяцъ на службѣ обществу. Меня, братъ, здѣсь въ городѣ преслѣдуетъ слава… Иду по улицѣ и слышу — извозчикъ говоритъ своему товарищу: „Вонъ Ежовъ идетъ! Здорово лается, ѣдятъ его мухи!“ Н-да! Этого тоже достичь надо…
Лицо Ежова сморщилось въ ѣдкую гримасу, и онъ какъ-то беззвучно, однѣми губами засмѣялся. Ѳомѣ была непонятна его рѣчь, и онъ, чтобъ сказать что-нибудь, сказалъ наобумъ:
— Не туда, значитъ, попалъ, куда мѣтилъ…
— Да, я думалъ, что вырасту покрупнѣе… И выросъ бы! Я выросъ бы, говорю!
Онъ вскочилъ со стула и забѣгалъ по комнатѣ, быстро и съ визгомъ восклицая:
— Но, чтобъ сохранить себя цѣльнымъ для жизни и чтобы быть въ ней свободнымъ человѣкомъ — нужны огромныя силы! Онѣ были… Была у меня гибкость, ловкость… я все это прожилъ лишь для того, чтобъ научиться чему-то… что теперь совсѣмъ не нужно мнѣ, я истратилъ всего себя для того, чтобы что-то сберечь въ себѣ… О, чортъ! Я самъ и многіе со мной… мы всѣ ограбили сами себя ради того, чтобы скопить что-то для жизни… Подумай, — желая сдѣлать изъ себя человѣка цѣннаго, я всячески обезцѣнивалъ свою личность… Чтобы учиться и не издохнуть съ голода, я шесть лѣтъ кряду обучалъ грамотѣ какихъ-то болвановъ и перенесъ массу мерзостей со стороны разныхъ папашъ и мамашъ, безъ всякаго стѣсненія унижавшихъ меня… Зарабатывая на хлѣбъ и чай, я не могъ уже, не имѣлъ времени заработать на сапоги и обращался въ благотворительныя общества съ покорнѣйшими просьбами о ссудахъ… на бѣдность мою… Если бъ только благотворители могли подсчитать, сколько духа въ человѣкѣ убиваютъ они, поддерживая жизнь тѣла! Если бъ они знали, что въ каждомъ рублѣ, который они даютъ на хлѣбъ, — содержится на девяносто девять копеекъ яда для души! Если бъ ихъ разорвало отъ избытка ихъ доброты и гордости, почерпаемой ими изъ своей священной дѣятельности! Нѣтъ на землѣ человѣка гаже и противнѣе подающаго милостыню, какъ нѣтъ человѣка несчастнѣе принимающаго ее!
Ежовъ шатался по комнатѣ, какъ пьяный, охваченный безуміемъ, и бумага подъ ногами его шуршала, рвалась, летѣла клочьями. Онъ скрипѣлъ зубами, вертѣлъ головой, его руки болтались въ воздухѣ, какъ надломленныя крылья птицы, и казалось, что онъ варится въ котлѣ кипятка. Ѳома смотрѣлъ на него со страннымъ двойственнымъ чувствомъ: онъ и жалѣлъ Ежова, и пріятно было ему видѣть, какъ онъ мучится.
„Не одинъ я… тоже и ему туго…“ — думалъ Ѳома подъ звуки его рѣчи. А въ горлѣ Ежова что-то дребезжало, какъ битое стекло, и взвизгивало, какъ несмазанная петля.
— Отравленный добротой людей, я погибъ отъ роковой способности каждаго бѣдняка, выбивающагося въ люди, — отъ способности мириться съ малымъ, въ ожиданіи большаго… О! ты знаешь? — отъ недостатка самооцѣнки гибнетъ больше людей, чѣмъ отъ чахотки, и вотъ почему вожди массъ, быть можетъ, служатъ въ околоточныхъ надзирателяхъ!
— Чортъ съ ними, съ околоточными! — сказалъ Ѳома, махнувъ рукой. — Ты про себя валяй…
— Про себя! Я — весь тутъ! — воскликнулъ Ежовъ, остановившись среди комнаты и ударяя себя въ грудь руками. — Все что могъ — я уже совершилъ… достигъ степени увеселителя публики и — больше ничего не могу! Знать, что нужно дѣлать, и не мочь, не имѣть силы для твоего дѣла — вотъ что называется мученіемъ!
— Вотъ! Ты погоди-ка! — оживился Ѳома. — Ты скажи-ка — а что нужно дѣлать, чтобы спокойно жить… то-есть, чтобы собой быть довольнымъ?
— Для этого нужно жить безпокойно и избѣгать, какъ дурной болѣзни, даже возможности быть довольнымъ собой!
Для Ѳомы эти слова прозвучали громко, но пусто, и звуки ихъ замерли, не шелохнувъ въ сердцѣ его никакого чувства, не зародивъ въ головѣ ни одной мысли.
— Нужно жить всегда влюбленнымъ во что-нибудь недоступное тебѣ… Человѣкъ становится выше ростомъ отъ того, что тянется кверху…
Теперь, бросивъ говорить о себѣ, Ежовъ заговорилъ инымъ тономъ, спокойнѣе. Голосъ его звучалъ твердо и увѣренно, а лицо стало важно и строго. Онъ стоялъ среди комнаты, поднявъ руку съ вытянутымъ пальцемъ, и говорилъ, точно читалъ:
— Люди низки, потому что стремятся къ сытости… Сытый человѣкъ — животное, ибо сытость есть самодовольство тѣла… И самодовольство духа обращаетъ человѣка въ животное…
Его снова какъ-то передернуло, точно всѣ жилы и мускулы его вдругъ напряглись, и снова онъ забѣгалъ по комнатѣ въ кипучемъ возбужденіи.
— Самодовольный человѣкъ — это затвердѣвшая опухоль на груди общества… это мой заклятый врагъ. Онъ набиваетъ себя грошовыми истинами, обгрызанными кусочками затхлой мудрости и существуетъ, какъ чуланъ, въ которомъ скупая хозяйка хранитъ всякій хламъ, совершенно ненужный ей, ни на что негодный… Дотронешься до такого человѣка, отворишь дверь въ него, и на тебя пахнётъ вонью разложенія, и въ воздухъ, которымъ ты дышишь, вольется струя какой-то затхлой дряни… Эти несчастные люди именуются людьми твердыми духомъ, людьми принциповъ и убѣжденій… и никто не хочетъ замѣтить, что убѣжденія для нихъ — только штаны, которыми они прикрываютъ нищенскую наготу своихъ душъ. На узкихъ лбахъ такихъ людей всегда сіяетъ всѣмъ извѣстная надпись: спокойствіе и увѣренность — фальшивая надпись! Потри лбы ихъ твердой рукой, и ты увидишь истинную вывѣску, — на ней изображено: ограниченность и туподушіе!…
Ѳома смотрѣлъ, какъ Ежовъ мечется по комнатѣ, и съ грустью думалъ:
„Кого это онъ ругаетъ? Непонятно… А обидѣли его больно… это видать…“
— Сколько видѣлъ я такихъ людей! — съ гнѣвомъ и съ ужасомъ вскричалъ Ежовъ. — Сколько развелось въ жизни этихъ мелочныхъ лавочекъ! Въ нихъ найдешь и коленкоръ для савановъ, и деготь, леденцы и буру для истребленія таракановъ, — но не отыщешь ничего свѣжаго, горячаго, ничего здороваго! Къ нимъ приходишь съ больной душой, истомленный одиночествомъ, — приходишь съ жаждой услышать что-нибудь живое… Они предлагаютъ тебѣ какую-то теплую жвачку, пережеванныя ими книжныя мысли, прокисшія отъ старости… И всегда эти сухія и жесткія мысли настолько мизерны, что для выраженія ихъ потребно огромное количество звонкихъ и пустыхъ словъ. Когда такой человѣкъ говоритъ, мнѣ кажется: вотъ сытая, но и опоенная кляча, увѣшанная бубенчиками, — везетъ возъ мусора за городъ и — несчастная! — довольна своей судьбой…
— Тоже, значитъ, лишніе люди… — сказалъ Ѳома. Ежовъ остановился противъ него и съ ѣдкой улыбкой на губахъ сказалъ:
— Нѣтъ, они не лишніе, о нѣтъ! Они существуютъ для образца… для указанія, чѣмъ человѣкъ не долженъ быть. Собственно говоря — мѣсто имъ въ анатомическихъ музеяхъ, тамъ, гдѣ хранятся всевозможные уроды, различныя болѣзненныя уклоненія отъ гармоничнаго… Въ жизни, братъ, ничего нѣтъ лишняго… въ ней даже я нуженъ! Только тѣ люди, въ душахъ которыхъ поселилась рабья трусость предъ жизнью, у которыхъ въ груди на мѣстѣ умершаго сердца — огромный нарывъ мерзѣйшаго самообожанія, — только они — лишніе… но и они нужны, хотя бы для того, чтобы я могъ излить на нихъ мою ненависть…
Весь день, вплоть до вечера, кипятился Ежовъ, изрыгая хулу на людей, ненавистныхъ ему, и его рѣчи — хотя содержаніе ихъ было темно для Ѳомы — заражали его своимъ злымъ пыломъ, — заражали, вызывая у Ѳомы боевое чувство. Порой въ немъ вспыхивало недовѣріе къ Ежову, и въ одинъ изъ такихъ моментовъ онъ прямо спросилъ его:
— Ну… а въ глаза людямъ можешь ты такъ говорить?
— При всякомъ удобномъ случаѣ… И каждое воскресенье — въ газетѣ… Хочешь — почитаю?
Не дожидаясь отвѣта Ѳомы, онъ сорвалъ со стѣны нѣсколько листовъ газеты и, продолжая бѣгать по комнатѣ, сталъ читать ему. Онъ рычалъ, взвизгивалъ, смѣялся, оскаливалъ зубы и былъ похожъ на злую собаку, которая рвется съ цѣпи въ безсильной ярости. Не улавливая мысли въ твореніяхъ товарища, Ѳома чувствовалъ ихъ дерзкую смѣлость, ядовитую насмѣшку, горячую злобу, и ему было такъ пріятно… точно его въ жаркой банѣ вѣниками парили…
— Ловко! — восклицалъ онъ, улавливая какую-нибудь отдѣльную фразу. — Здорово пущено!
То и дѣло предъ нимъ мелькали знакомыя фамиліи купцовъ и именитыхъ горожанъ, которыхъ Ежовъ язвилъ то смѣло и рѣзко, то почтительно и тонкимъ, какъ игла, жаломъ.
Одобренія Ѳомы, его горящіе удовольствіемъ глаза и возбужденное лицо вдохновляли Ежова еще болѣе, и онъ все громче вылъ и рычалъ, то въ изнеможеніи падая на диванъ, то снова вскакивая и подбѣгая къ Ѳомѣ.
— Ну-ка, про меня прочитай! — вскричалъ Ѳома, разохотившись.
Ежовъ порылся въ грудѣ газетъ, вырвалъ изъ нея листъ и, взявъ его въ обѣ руки, сталъ передъ Ѳомой, широко разставивъ ноги, а Ѳома развалился въ креслѣ съ продавленнымъ сидѣньемъ и слушалъ, улыбаясь.
Замѣтка о Ѳомѣ начиналась описаніемъ кутежа на плотахъ, и Ѳома при чтеніи ея сталъ чувствовать, что нѣкоторыя отдѣльныя слова покусываютъ его, какъ комары. Лицо у него стало серьезнѣе, онъ наклонилъ голову и угрюмо молчалъ. А комаровъ становилось все больше…
— Ужъ очень ты разошелся! — сказалъ онъ наконецъ смущенно и недовольно. — Вѣдь однимъ тѣмъ, что опозорить человѣка умѣешь, передъ Богомъ не выслужишься…
— Молчи! Подожди! — кратко бросилъ ему Ежовъ, и продолжалъ чтеніе.
Установивъ въ своей статьѣ, что купецъ въ дѣлѣ творчества безобразій и скандаловъ несомнѣнно возвышается надъ представителями другихъ сословій, Ежовъ спрашивалъ: отчего это? — и отвѣчалъ:
„Мнѣ кажется, что эта склонность къ дикимъ выходкамъ вытекаетъ изъ недостатка культуры постольку же, поскольку обусловлена избыткомъ энергіи и бездѣльемъ. Не можетъ быть сомнѣнья въ томъ, что наше купечество — за малыми исключеніями — сословіе наиболѣе богатое здоровьемъ и въ то же время наименѣе трудящееся…“
— Вотъ это вѣрно-о! — воскликнулъ Ѳома, ударивъ кулакомъ по столу. — Это такъ! У меня силы — на быка, а работы — на воробья…
„Куда же дѣвать купцу свою энергію? На биржѣ ее много не истратишь, и вотъ онъ расточаетъ избытокъ мускульнаго капитала въ кабакахъ на кутежи, не имѣя представленія объ иныхъ, болѣе продуктивныхъ и цѣнныхъ для жизни пунктахъ приложенія силы. Онъ — еще звѣрь, а жизнь для него уже стала клѣткой, и ему тѣсно въ ней при его добромъ здоровьѣ и склонности къ широкому размаху. Стѣсненный культурой, онъ нѣтъ-нѣтъ да и надебоширитъ. Купеческій дебошъ — всегда бунтъ плѣннаго звѣря. Разумѣется — это дурно… Но, — ахъ! — будетъ еще хуже, когда этотъ звѣрь къ своей силѣ прикопитъ немножко ума и дисциплинируетъ ее! Повѣрьте — онъ и тогда не перестанетъ производить скандалы, но это уже будутъ историческія событія. Избави насъ, Боже, отъ такихъ событій! Ибо они проистекутъ изъ стремленія купца ко власти, ихъ цѣлью будетъ всемогущество одного сословія и — не постѣснится купецъ въ средствахъ ради этой цѣли…“
— Ну, что скажешь — вѣрно? — спросилъ Ежовъ, дочитавъ газету и бросая ее въ сторону.
— Конца я не понимаю… — отвѣтилъ Ѳома. — А вотъ о силѣ — вѣрно! Куда я употреблю силу мою, ежели нѣтъ на нее спроса! Мнѣ бы… съ разбойниками сражаться или самому разбойникомъ быть… вообще что бы нибудь этакое… большущее дѣлать… И что бы не головой, а руками, грудью… А тутъ — иди на биржу и приноравливайся, какъ бы рубль зашибить… А зачѣмъ его? И опять же что̀ такое? Развѣ жизнь навсегда въ такомъ видѣ устроена? Какая это жизнь, коли всѣ ноютъ и всѣмъ тѣсно? Она должна быть по вкусу людямъ, жизнь-то… Мнѣ тѣсно, стало быть, долженъ я ее раздвигать… чтобы свободнѣе было… Значитъ — надо ее ломать и перестраивать… А какъ? Вотъ тутъ мнѣ и петля!… Что надо дѣлать, чтобы свободнѣе жилось? Не понимаю я этого и — тутъ мнѣ конецъ!
— Н-да-а! — протянулъ Ежовъ. — Вотъ ты до чего долѣзъ!… Это, братъ, дѣло доброе! Ахъ, поучиться бы тебѣ слегка! Ты какъ насчетъ книжекъ? Читаешь какія-нибудь?
— Нѣтъ, не люблю… не читывалъ…
— Оттого и не любишь, что не читывалъ…
— Я даже боюсь читать.. Видѣлъ я — тутъ одна… хуже запоя у нея это! И какой толкъ въ книгѣ? Одинъ человѣкъ придумаетъ что-нибудь и напечатаетъ, а другіе читаютъ… Коли любопытно, такъ ладно… Но чтобы учиться изъ книги, какъ жить, — это ужъ что-то несуразное. Вѣдь человѣкъ написалъ, не Богъ, а какіе законы и примѣры человѣкъ установить можетъ самъ для себя?
— А Евангеліе? Его написали люди же.
— То апостолы… Теперь ихъ нѣтъ…
— Ничего, — возразилъ дѣльно! Вѣрно, братъ, апостоловъ нѣтъ… Остались только Іуды, да и то дрянненькіе.
Ѳома чувствовалъ себя прекрасно, ибо видѣлъ, что Ежовъ слушаетъ его слова внимательно и точно взвѣшиваетъ каждое слово, сказанное имъ. Первый разъ въ жизни встрѣчаясь съ такимъ отношеніемъ къ себѣ, Ѳома смѣло и свободно изливалъ предъ товарищемъ свои думы, не заботясь о словахъ и чувствуя, что его поймутъ, потому что хотятъ понять.
— А любопытный ты парень! — сказалъ ему Ежовъ, дня черезъ два послѣ встрѣчи. — И хоть тяжело ты говоришь, но чувствуется въ тебѣ многое… большая дерзость сердца! Кабы тебѣ немножко знанія порядковъ жизни! Заговорилъ бы ты тогда… довольно громко, я думаю… да-а!
— Все-таки словами себя не очистишь… и не освободишь… — вздохнувъ, замѣтилъ Ѳома. — Ты вотъ какъ-то говорилъ про людей, которые притворяются, что все знаютъ и могутъ… Я тоже знаю такихъ… Крестный мой, примѣрно… Вотъ противъ нихъ бы двинуть… ихъ бы уличить… Довольно вредный народъ!…
— Не представляю я, Ѳома, какъ ты будешь жить, если сохранишь въ себѣ то, что теперь носишь… — задумчиво сказалъ Ежовъ.
— Трудно мнѣ… Устойчивости нѣту у меня… Сразу бы я могъ что-нибудь сдѣлать… Я вотъ очень хорошо понимаю, что всѣмъ трудно и тѣсно… и что крестный это тоже видитъ — знаю! Но онъ отъ тѣсноты пользуется… Ему въ ней хорошо; онъ, какъ игла, острый и всюду, куда хочетъ, пройдетъ… А я человѣкъ большой и тяжелый… оттого и задыхаюсь! Оттого я и живу связанный… И развязаться мнѣ со всѣмъ — однимъ пріемомъ можно: двинуться хорошенько всѣмъ тѣломъ… тогда всѣ связи порвешь!
— А потомъ что? — спросилъ Ежовъ.
— Потомъ? — Ѳома задумался и, подумавъ, махнулъ рукой. — Не знаю, что потомъ… тамъ увижу!
— Увидимъ! — согласился Ежовъ.
Онъ пилъ, этотъ маленькій, ошпаренный жизнью человѣчекъ. Его день начинался такъ: утромъ за чаемъ онъ просматривалъ мѣстныя газеты и почерпалъ въ нихъ изъ репортерскихъ замѣтокъ матеріалъ для своего фельетона, который и сочинялъ тутъ же, на углу стола. Затѣмъ бѣжалъ въ редакцію и тамъ рѣзалъ иногороднія газеты, составляя изъ вырѣзокъ „Провинціальныя картинки“. Въ пятницу онъ долженъ былъ писать воскресный фельетонъ. За все это ему платили сто двадцать пять рублей въ мѣсяцъ; работалъ онъ быстро, и все свободное время посвящалъ „обозрѣнію и изученію богоугодныхъ учрежденій“. Вмѣстѣ съ Ѳомой онъ шлялся до глубокой ночи по клубамъ, гостиницамъ, трактирамъ, всюду черпая матеріалъ для своихъ писаній, которыя онъ называлъ „щетками для чистки общественной совѣсти“. Цензора онъ именовалъ „завѣдующимъ распространеніемъ въ жизни истины и справедливости“, газету называлъ „сводней, занимающейся ознакомленіемъ читателя съ вредоносными „идеями“, а свою въ ней работу — „продажей души въ розницу“ и „поползновеніемъ къ дерзновенію противъ божественныхъ учрежденій“.
Ѳома плохо понималъ, когда Ежовъ шутитъ и когда онъ говоритъ серьезно. Обо всемъ онъ говорилъ горячо и страстно, все рѣзко осуждалъ, и это нравилось Ѳомѣ. Но часто, начавъ рѣчь со страстью, онъ такъ же страстно возражалъ самъ себѣ и опровергалъ себя или заканчивалъ ее какой-нибудь смѣшной выходкой. Тогда Ѳомѣ казалось, что у этого человѣка нѣтъ ничего такого, что бы онъ любилъ, что бы крѣпко сидѣло въ немъ и управляло имъ. Только о себѣ самомъ онъ говорилъ какимъ-то особымъ голосомъ, и чѣмъ горячѣе говорилъ о себѣ, тѣмъ безпощаднѣе и злѣй ругалъ всѣхъ и все. И къ Ѳомѣ отношеніе его было двойственнымъ — то онъ ободрялъ его и говорилъ ему съ жаромъ и трепетомъ во всемъ тѣлѣ:
— Вали! Опровергай и опрокидывай все, что можешь! Толкайся впередъ всей грудью! Дороже человѣка ничего нѣтъ, такъ и знай! Кричи во всю силу: свободы! свободы!…
А когда Ѳома, загораясь отъ жгучихъ искръ его рѣчи, начиналъ мечтать о томъ, какъ онъ начнетъ опровергать и опрокидывать людей, которые ради своей выгоды не хотятъ расширить жизнь, — Ежовъ часто обрывалъ его:
— Брось! Ничего ты не можешь! Такихъ, какъ ты, — не надо… Ваша пора, — пора сильныхъ, но не умныхъ, прошла, братъ! Опоздалъ ты… Нѣтъ тебѣ мѣста въ жизни…
— Нѣтъ?… Врешь! — кричалъ Ѳома, возбужденный противорѣчіемъ.
— Ну, что ты можешь сдѣлать?
— Я?
— Ты!
— А вотъ… убью тебя! — злобно говорилъ Ѳома, сжимая кулакъ.
— Э, чучело! — пожимая плечами, убѣдительно и съ сожалѣніемъ произносилъ Ежовъ. — Развѣ это дѣло? Я и такъ изувѣченъ до полусмерти…
И вдругъ, воспламененный тоскливой злостью, онъ весь подергивался и говорилъ:
— Обидѣла меня судьба моя! Зачѣмъ я унижался, принимая подачки общества, зачѣмъ я работалъ, какъ машина, двѣнадцать лѣтъ кряду. Чтобы учиться… Зачѣмъ я двѣнадцать лѣтъ безъ отдыха глоталъ въ гимназіи и университетѣ сухую и скучную, ни на что ненужную мнѣ гадость и противорѣчивую ерунду? Чтобъ стать фельетонистомъ, чтобъ изо дня въ день балаганить, увеселяя публику и убѣждая себя въ томъ, что это ей нужно, полезно… Гдѣ порохъ юности моей? Разстрѣлялъ я весь зарядъ души по три копейки за выстрѣлъ… Какую вѣру пріобрѣлъ я себѣ? Только вѣру въ то, что все въ сей жизни ни къ чорту не годится, все должно быть изломано, разрушено… Что я люблю? Себя… и чувствую предметъ любви моей недостойнымъ любви моей… Что я могу сдѣлать?
Онъ почти плакалъ и все какъ-то царапалъ тонкими, слабыми руками грудь и шею себѣ.
Но иногда имъ овладѣвалъ приливъ бодрости и онъ говорилъ въ иномъ духѣ:
— Я? Ну, нѣтъ, еще моя пѣсня не спѣта! Впитала кое-что грудь моя и — я свистну, какъ бичъ! Погоди, брошу газету, примусь за серьезное дѣло и напишу одну маленькую книгу… Я назову ее — „Отходная“: есть такая молитва — ее читаютъ надъ умирающими. И это общество, проклятое проклятіемъ внутренняго безсилія, передъ тѣмъ, какъ издохнуть ему, приметъ мою книгу, какъ мускусъ.
Вслушиваясь въ каждое его слово, слѣдя за нимъ и сравнивая его рѣчи, Ѳома видѣлъ, что и Ежовъ такой же слабый и заплутавшійся человѣкъ, какъ онъ самъ. Но настроеніе Ежова продолжало заражать Ѳому, рѣчи его обогащали языкъ Ѳомы, и порой онъ съ радостнымъ изумленіемъ замѣчалъ за собой, какъ ловко и сильно высказана имъ та или другая мысль.
Не разъ онъ встрѣчалъ у Ежова какихъ-то особенныхъ людей, которые, казалось ему, все знали, все понимали и всему противорѣчили, во всемъ видѣли обманъ и фальшь. Онъ молча присматривался къ нимъ, прислушивался къ ихъ словамъ; ихъ дерзость нравилась ему, но его стѣсняло и отталкивало отъ нихъ что-то барское, гордое въ ихъ отношеніи къ нему. И затѣмъ ему рѣзко бросалось въ глаза то, что въ комнатѣ Ежова всѣ были умнѣе и лучше, чѣмъ на улицѣ и въ гостиницахъ. У нихъ были особые комнатные разговоры, комнатныя слова, жесты, и все это — внѣ комнаты замѣнялось самымъ обыкновеннымъ, человѣческимъ. Иногда въ комнатѣ они всѣ разгорались какъ большой костеръ, и Ежовъ былъ среди нихъ самой яркой головней, но блескъ этого костра слабо освѣщалъ тьму души Ѳомы Гордѣева.
Какъ-то разъ Ежовъ сказалъ ему:
— Сегодня — кутимъ! Наши наборщики устроили артель и берутъ у издателя всю работу сдѣльно… По этому поводу будутъ спрыски и я приглашенъ… это я имъ посовѣтовалъ… Идемъ? Угостишь ихъ хорошенько…
— Могу… — сказалъ Ѳома, которому было безразлично, съ кѣмъ проводить время, тяготившее его.
Вечеромъ этого дня Ѳома и Ежовъ сидѣли въ компаніи людей съ сѣрыми лицами, за городомъ, у опушки рощи. Наборщиковъ было человѣкъ двѣнадцать; прилично одѣтые, они держались съ Ежовымъ просто, по-товарищески, и это нѣсколько удивляло и смущало Ѳому, въ глазахъ котораго Ежовъ все-таки былъ чѣмъ-то вродѣ хозяина или начальника для нихъ, а они всѣ — только слуги его. Они какъ будто не замѣчали Гордѣева, хотя, когда Ежовъ знакомилъ Ѳому съ ними, всѣ пожимали ему руку и говорили, что рады видѣть его… Онъ легъ въ сторонкѣ, подъ кустомъ орѣшника, и слѣдилъ за всѣми, чувствуя себя чужимъ въ этой компаніи и замѣчая, что и Ежовъ какъ будто нарочно отошелъ отъ него подальше и тоже мало обращаетъ вниманія на него. Онъ замѣчалъ за Ежовымъ нѣчто странное: маленькій фельетонистъ какъ будто подыгрывался подъ тонъ и рѣчи наборщиковъ. Онъ суетился вмѣстѣ съ ними около костра, откупоривалъ бутылки съ пивомъ, поругивался, громко хохоталъ и всячески старался быть похожимъ на нихъ. Онъ и одѣтъ былъ проще, чѣмъ всегда одѣвался.
— Эхъ, братцы! — восклицалъ онъ съ удальствомъ. — Хорошо мнѣ съ вами! Вѣдь я тоже невеличка-птичка… всего только сынъ судейскаго сторожа, унтеръ-офицера Матвѣя Ежова!
„На что это онъ говоритъ? — думалъ Ѳома. — Мало ли кто чей сынъ… чай, не по отцу почетъ, а по уму…“
Заходило солнце и въ небѣ тоже пылалъ огромный огненный костеръ, окрашивая облака въ цвѣтъ золота и крови. Изъ лѣса пахло сыростью, вѣяло тишиной, а у опушки его шумно возились темныя фигуры людей. Одинъ изъ нихъ, невысокій и худой, въ широкой соломенной шляпѣ, наигрывалъ на гармоникѣ, другой, съ черными усами и въ картузѣ на затылкѣ, вполголоса подпѣвалъ ему. Еще двое тянулись на палкѣ, пробуя силу. Нѣсколько фигуръ возилось у корзины съ пивомъ и провизіей; высокій человѣкъ съ полусѣдою бородой подбрасывалъ въ костеръ сучья, окутанный тяжелымъ, бѣловатымъ дымомъ. Сырыя вѣтви, попадая въ огонь, жалобно пищали и потрескивали, а гармоника задорно выводила веселую мелодію, и фальцетъ пѣвца подкрѣплялъ и дополнялъ ей бойкую игру.
Въ сторонѣ ото всѣхъ, у обрыва небольшой промоины, улеглись трое молодыхъ парней, а предъ ними стоялъ Ежовъ и звонко говорилъ:
— Вы несете священное знамя труда… и я, какъ вы, рядовой той же арміи, мы всѣ служимъ ея величеству прессѣ… и должны жить въ крѣпкой, прочной дружбѣ…
— Это вѣрно, Николай Матвѣичъ! — перебилъ его рѣчь чей-то густой голосъ. — И вотъ мы хотимъ просить васъ — подѣйствуйте на издателя-то! Повліяйте! Болѣзнь и пьянство нельзя трактовать за одно и то же… А по его системѣ выходитъ такъ: запьетъ товарищъ, мы его штрафуемъ на дневной заработокъ, заболѣетъ — то же самое… Мы бы, въ случаѣ болѣзни, свидѣтельство отъ доктора представляли… для вѣрности, а онъ — для справедливости пускай бы хоть половину заработка замѣстителю больного платилъ… А то намъ тяжело… вдругъ сразу трое захвораютъ?
— Н-да… это, разумѣется, резонно… — согласился Ежовъ. — Но, друзья мои, — принципъ коопераціи…
Ѳома пересталъ вслушиваться въ рѣчь товарища, отвлеченный другимъ разговоромъ. Говорили двое: одинъ высокій, чахоточный, плохо одѣтый и смотрѣвшій сердито, другой молоденькій, съ русыми волосами и бородкой.
— По-моему, — угрюмо и покашливая говорилъ высокій, — глупо это! Какъ можно жениться нашему брату? Пойдутъ дѣти — развѣ хватитъ на нихъ? Жену надо одѣвать… да еще какая попадется…
— Дѣвушка она славная… — тихо сказалъ русый.
— Ну, это теперь хороша… Одно дѣло невѣста, другое — жена… Да не въ этомъ суть… попробовать можно… можетъ и въ самомъ дѣлѣ хороша будетъ. А только — средствъ не хватитъ… и самъ надорвешься въ работѣ и ее заѣздишь… Совсѣмъ невозможное дѣло женитьба для насъ… Развѣ мы можемъ семью поднять на такомъ заработкѣ? Вотъ видишь… я женатъ… всего четыре года… а ужъ скоро мнѣ — конецъ. И никакой радости не видалъ я… кромѣ безпокойства да заботъ…
Онъ закашлялся, кашлялъ долго, съ воемъ, и когда пересталъ, то сказалъ товарищу задыхаясь:
— Брось… ничего не выйдетъ…
Тотъ грустно опустилъ голову, а Ѳома подумалъ:
„Дѣльно говоритъ… тоже, видно, можетъ понимать…“
Невниманіе къ нему немножко обижало его и въ то же время возбуждало въ немъ чувство уваженія къ этимъ людямъ съ темными, пропитанными свинцовой пылью лицами. Почти всѣ они вели дѣловой, серьезный разговоръ, въ рѣчахъ ихъ сверкали какія-то особенныя слова. Никто изъ нихъ не заискивалъ предъ нимъ, не лѣзъ къ нему съ назойливостью, обычной для его трактирныхъ знакомыхъ, товарищей по кутежамъ. Это нравилось ему…
— Ишь какіе… — думалъ онъ, внутренно усмѣхаясь, — имѣютъ свою гордость…
— А вы, Николай Матвѣичъ, — раздался чей-то, какъ будто укоряющій голосъ, — вы не по книжкѣ судите, а по живой правдѣ… Вѣдь за кусокъ-то хлѣба не по книжкѣ бьются, а по необходимости и какъ Богъ на душу положитъ, а не какъ въ правилахъ вашихъ написано…
— По-озвольте, друзья мои! Чему насъ учитъ опытъ нашихъ собратій…
Ѳома повернулъ голову туда, гдѣ громко ораторствовалъ Ежовъ, снявъ шляпу и размахивая ею надъ головой. Но въ это время ему сказали:
— Подвигайтесь поближе къ намъ, господинъ Гордѣевъ!
Предъ нимъ стоялъ низенькій и толстый парень, въ блузѣ и высокихъ сапогахъ, и, добродушно улыбаясь, смотрѣлъ въ лицо ему. Ѳомѣ понравилась его широкая, круглая рожа съ толстымъ носомъ, и онъ тоже съ улыбочкой отвѣтилъ:
— Можно и поближе… А что — къ коньяку не пора намъ приблизиться? Я тутъ захватилъ бутылокъ съ десять… на всякій случай…
— Ого! Видать — вы сурьезный купецъ… Сейчасъ я сообщу компаніи вашу дипломатическую ноту!…
И онъ самъ первый расхохотался надъ своими словами веселымъ и громкимъ смѣхомъ. И Ѳома захохоталъ, чувствуя, какъ на него отъ костра или отъ парня пахнуло весельемъ и тепломъ.
Вечерняя заря тихо гасла. Казалось, тамъ, на западѣ, опускается въ землю огромный и мягкій пурпурный занавѣсъ, открывая бездонную глубь неба и веселый блескъ звѣздъ, играющихъ въ немъ. Вдали, въ темной массѣ города невидимая рука сѣяла огни, а здѣсь въ молчаливомъ покоѣ стоялъ лѣсъ, черной стѣной вздымаясь до неба… Луна еще не взошла и надъ полемъ лежалъ теплый сумракъ…
Вся компанія усѣлась въ большой кружокъ неподалеку отъ костра: Ѳома сидѣлъ рядомъ съ Ежовымъ спиной къ огню и видѣлъ предъ собою рядъ ярко освѣщенныхъ лицъ веселыхъ и простыхъ. Всѣ были уже возбуждены выпивкой, но еще не пьяны, смѣялись, шутили, пробовали пѣть и пили, закусывая огурцами, бѣлымъ хлѣбомъ, колбасой. Все это для Ѳомы имѣло какой-то особый, пріятный вкусъ, онъ становился смѣлѣе, охваченный общимъ, славнымъ настроеніемъ, и чувствовалъ въ себѣ желаніе сказать что-нибудь хорошее этимъ людямъ, чѣмъ-нибудь понравиться всѣмъ имъ. Ежовъ, сидя рядомъ съ нимъ, возился на землѣ, толкалъ его плечомъ и, потряхивая головой, невнятно бормоталъ что-то подъ носъ себѣ…
— Братцы! — крикнулъ толстый парень. — Давайте грянемъ студенческую… ну, разъ, два!…
Кто-то загудѣлъ басомъ:
— Товарищи! — сказалъ Ежовъ, поднимаясь на ноги со стаканомъ въ рукѣ. Онъ пошатывался и опирался другой рукой о голову Ѳомы. Начатая пѣсня оборвалась, и всѣ повернули къ нему головы…
— Труженики! Позвольте мнѣ сказать вамъ нѣсколько словъ… словъ отъ сердца… Я счастливъ съ вами! Мнѣ хорошо среди васъ… Это потому, что вы — люди труда, люди, чье право на счастье не подлежитъ сомнѣнію, хотя и не признается… Въ здоровой, облагораживающей душу средѣ вашей, честные люди, такъ хорошо, свободно дышится одинокому, отравленному жизнью человѣку…
Голосъ Ежова дрогнулъ, зазвенѣлъ и голова затряслась. Ѳома почувствовалъ, какъ что-то теплое капнуло ему на руку, и взглянулъ въ сморщенное лицо Ежова, который продолжалъ рѣчь, вздрагивая всѣмъ тѣломъ:
— Я — не одинъ… насъ много такихъ, загнанныхъ судьбой, разбитыхъ и больныхъ людей… Мы — несчастнѣе васъ, потому что слабѣе и тѣломъ, и духомъ, но мы сильнѣе васъ, ибо вооружены знаніемъ… которое намъ некуда приложить… Мы всѣ съ радостью готовы придти къ вамъ и отдать вамъ себя, помочь вамъ жить… больше намъ нечего дѣлать! Безъ васъ мы — безъ почвы, вы безъ насъ — безъ свѣта! Товарищи! Мы судьбой самою созданы для того, чтобъ дополнять другъ друга!
„Чего это онъ у нихъ проситъ?“ — думалъ Ѳома, съ недоумѣніемъ слушая рѣчь Ежова. И, оглядывая лица наборщиковъ, онъ видѣлъ, что они смотрятъ на оратора тоже вопросительно, недоумѣвающе, скучно.
— Будущее — ваше, друзья мои! — говорилъ Ежовъ нетвердо и грустно покачивалъ головой, точно сожалѣя о будущемъ и противъ своего желанія уступая власть надъ нимъ этимъ людямъ. — Будущее принадлежитъ людямъ честнаго труда… Великая работа предстоитъ вамъ! Это вы должны создать новую культуру… все свободное, живое и яркое! Я — вашъ по плоти и духу, сынъ солдата — предлагаю: выпьемъ же за ваше будущее! Ур-ра-а!
Ежовъ, выпивъ изъ своего стакана, тяжело опустился на землю. Наборщики дружно подхватили его надорванный возгласъ, и въ воздухѣ прокатился гремящій, сильный крикъ, сотрясая листву на деревьяхъ.
— Теперь пѣсню! — снова предложилъ толстый парень.
— Давай! — поддержали его два-три голоса. Завязался шумный споръ о томъ, что пѣть. Ежовъ слушалъ шумъ и, повертывая головой изъ стороны въ сторону, осматривалъ всѣхъ.
— Братцы! — вдругъ снова крикнулъ онъ. — Отвѣтьте мнѣ… отвѣтьте парой словъ на мой привѣтъ вамъ…
Снова — хотя и не сразу — всѣ замолчали, глядя на него — иные съ любопытствомъ, иные скрывая усмѣшку, нѣкоторые съ ясно выраженнымъ неудовольствіемъ на лицахъ. А онъ вновь поднялся съ земли и возбужденно говорилъ:
— Здѣсь двое насъ… отверженныхъ отъ жизни, — я и вотъ этотъ… Мы оба хотимъ… одного и того же… вниманія къ человѣку… счастья чувствовать себя нужными людямъ… Товарищи! И этотъ большой и глупый человѣкъ…
— А вы, Николай Матвѣичъ, не обижайте гостя! — раздался чей-то густой и недовольный голосъ.
— Да, это лишнее! — подтвердилъ толстый парень, пригласившій Ѳому къ костру. — Зачѣмъ обидныя слова?
Третій голосъ громко и отчетливо сказалъ:
— Мы собрались повеселиться… отдохнуть…
— Глупцы! — слабо засмѣялся Ежовъ. — Добрые глупцы!… Вамъ жалко его? Но — знаете ли вы, кто онъ? Это одинъ изъ тѣхъ, которые сосутъ у васъ кровь…
— Будетъ, Николай Матвѣичъ! — крикнули Ежову. И всѣ загудѣли, не обращая больше вниманія на него. Ѳомѣ до такой степени стало жалко товарища, что онъ даже и не обидѣлся на него. Онъ видѣлъ, что эти люди, защищавшіе его отъ нападокъ Ежова, теперь нарочно не обращаютъ вниманія на фельетониста, и понималъ, что если Ежовъ замѣтитъ это — больно будетъ ему. И, чтобъ отвлечь товарища въ сторону отъ возможной непріятности, онъ толкнулъ его въ бокъ и сказалъ, добродушно усмѣхаясь:
— Ну, ты, ругатель… выпьемъ что ли? А то можетъ домой пора?
— Домой? Гдѣ домъ у человѣка, которому нѣтъ мѣста среди людей? — спросилъ Ежовъ, и снова закричалъ: — Товарищи!
Его крикъ утонулъ въ общемъ говорѣ безъ отвѣта. Тогда онъ поникъ головой и сказалъ Ѳомѣ:
— Уйдемъ отсюда!…
— Ну, идемъ… Хотя я бы еще посидѣлъ… Любопытно… Благородно они, черти, ведутъ себя… ей Богу!
— Я не могу больше: мнѣ холодно… душно…
— Ну, айда!…
Ѳома поднялся на ноги, снялъ картузъ и, поклонившись наборщикамъ, громко и весело сказалъ:
— Спасибо, господа, за угощенье! Прощайте!
Его сразу окружили, и раздались убѣдительные голоса:
— Подождите! Куда вы? Вотъ спѣли бы вмѣстѣ, а?
— Нѣтъ, надо идти… вотъ и товарищу одному неловко… провожу… Весело вамъ пировать!
— Эхъ, подождали бы вы!… — воскликнулъ толстый парень и тихо шепнулъ: — его можно одного проводить…
Чахоточный тоже сказалъ тихонько:
— Вы оставайтесь… А мы его до города проводимъ, тамъ на извозчика и — готово!
Ѳомѣ хотѣлось остаться и въ то же время было боязно чего-то. А Ежовъ поднялся на ноги и, вцѣпившись въ рукава его пальто, пробормоталъ:
— Иде-емъ… чортъ съ ними!
— До свиданья, господа! Пойду! — сказалъ Ѳома и пошелъ прочь отъ нихъ, сопровождаемый возгласами вѣжливаго сожалѣнія.
— Ха-ха-ха! — разсмѣялся Ежовъ, отойдя отъ костра шаговъ на двадцать. — Провожаютъ съ прискорбіемъ, а сами рады, что я ушелъ… Я имъ мѣшалъ превратиться въ скотовъ…
— Это вѣрно, что мѣшалъ… — сказалъ Ѳома. — На что ты рѣчи разводишь? Люди собрались повеселиться, а ты клянчишь у нихъ… Имъ отъ этого скука…
— Молчи! Ты ничего не понимаешь! — рѣзко крикнулъ Ежовъ. — Ты думаешь — я пьянъ? Это тѣло мое пьяно… а душа — трезва… она всегда трезва и все чувствуетъ… О, сколько гнуснаго на свѣтѣ, тупого, жалкаго! И люди… эти глупые, несчастные люди…
Ежовъ остановился и, схватившись за голову руками, постоялъ съ минуту, пошатываясь на ногахъ.
— Н-да-а! — протянулъ Ѳома. — Очень они не похожи одни на другихъ… Вонъ какіе эти… Вѣжливы… Господа, вродѣ… И разсуждаютъ правильно… и все такое… Съ понятіемъ… А вѣдь просто — рабочіе…
Во тьмѣ сзади ихъ громко запѣли какую-то сильную хоровую пѣсню. Нестройная сначала, она все росла и вотъ полилась широкой, бодрой волной въ ночномъ, свѣжемъ воздухѣ надъ пустыннымъ полемъ.
— О Боже мой! — вздохнувъ, сказалъ Ежовъ грустно и тихо. — Чѣмъ жить? Къ чему прилѣпиться душой? Кто утолитъ ея жажду дружбы, братства, любви, работы чистой и святой…
— Эти простые разные люди, — медленно и задумчиво говорилъ Ѳома, не вслушиваясь въ рѣчь товарища, поглощенный своими думами, — они, ежели присмотрѣться къ нимъ, — ничего! Даже очень… Любопытно… Мужики… рабочіе… ежели ихъ такъ просто брать — все равно какъ лошади. Везутъ себѣ, пыхтятъ…
— Всю нашу жизнь они везутъ на своихъ горбахъ! — съ раздраженіемъ воскликнулъ Ежовъ. — Везутъ, какъ лошади… покорно, тупо… И эта ихъ покорность — наше несчастіе, наше проклятіе…
А Ѳома, увлекаясь своей мыслью, разсуждалъ:
— Везутъ, работаютъ всю жизнь изъ-за пустяковъ… И вдругъ — скажутъ что-нибудь такое — вовѣкъ не выдумаешь… Значитъ — чувствуютъ… Н-да-а, около нихъ… любопытно…
Ежовъ, пошатываясь, долгое время шелъ молча, и вдругъ какимъ-то глухимъ, захлебывающимся голосомъ, который точно изъ живота у него выходилъ, сталъ читать, размахивая въ воздухѣ рукой:
— Это, братъ, мои стихи, — сказалъ онъ, остановившись и грустно покачивая головой. — Какъ тамъ дальше? Забылъ… Тамъ говорится о грезахъ… о святыхъ и чистыхъ желаніяхъ… они задушены въ груди моей чадомъ жизни… Э-эхъ!
— Братъ! Ты счастливѣе меня, потому что — глупъ… А я…
— Не скули! — съ раздраженіемъ сказалъ Ѳома. — Вотъ слушай, какъ они поютъ…
— Не хочу слушать чужихъ пѣсенъ… — отрицательно качнувъ головой, сказалъ Ежовъ. — У меня есть своя… пѣснь истерзанной жизнью души…
И онъ завылъ дикимъ голосомъ:
— Былъ цѣлый цвѣтникъ живыхъ и яркихъ мечтаній, надеждъ… Умерли… завяли и умерли… Смерть въ сердцѣ моемъ… Трупы грезъ гніютъ тамъ… о!-о!
Ежовъ заплакалъ, всхлипывая, какъ женщина. Ѳомѣ было жалко его и тяжело съ нимъ. Нетерпѣливо дернувъ его за плечо, онъ сказалъ:
— Перестань! Пойдемъ… Экій ты, братъ, слабый…
Схватившись руками за голову, Ежовъ выпрямилъ согнутое тѣло, напрягся и снова тоскливо и дико запѣлъ:
— О Господи! — съ отчаяніемъ вздохнулъ Ѳома. — Будетъ тебѣ… Христа ради! Вѣдь тоска, ей Богу…
Издали къ нимъ плыла сквозь тьму и тишину громкая хоровая пѣсня. Кто-то присвистывалъ въ тактъ припѣва, и этотъ острый, рѣжущій ухо свистъ обгонялъ волну сильныхъ голосовъ. Ѳома смотрѣлъ туда и видѣлъ высокую и черную стѣну лѣса, яркое, играющее на ней огненное пятно костра и туманныя фигуры вокругъ него. Стѣна лѣса была — какъ грудь, а костеръ — какъ кровавая рана въ ней. Казалось, что грудь трепещетъ, истекая кровью, обливающей ее горячими струями. Охваченные густою тьмой со всѣхъ сторонъ, люди на фонѣ лѣса казались маленькими какъ дѣти, они какъ бы тоже горѣли, облитые пламенемъ костра, взмахивали руками и пѣли свою пѣсню громко, сильно.
А Ежовъ, стоя рядомъ съ Ѳомой, возмущенно говорилъ ему:
— Ты, безчувственная дубина! Зачѣмъ ты отталкиваешь меня? Ты долженъ слушать пѣснь умирающей души… и плакать надъ нею… ибо — за что она изранена и умираетъ? Пошелъ прочь отъ меня… прочь! Ты думаешь — я пьянъ? Я — отравленъ… пошелъ прочь!
Ѳома, не отрывая глазъ отъ лѣса и костра, такъ красиваго во тьмѣ, отступилъ на нѣсколько шаговъ въ сторону отъ Ежова и тихо сказалъ ему:
— Не дури… что зря ругаешься?
— Я хочу остаться одинъ и… допѣть мою пѣсню…
Онъ, невѣрными шагами, тоже двинулся въ сторону отъ Ѳомы и черезъ нѣсколько секундъ вновь закричалъ рыдающимъ голосомъ:
Ѳома вздрогнулъ при звукахъ этого мрачнаго воя и быстро пошелъ вслѣдъ за Ежовымъ; но раньше, чѣмъ онъ догналъ его, маленькій фельетонистъ истерически взвизгнулъ, прямо грудью бросился на землю и зарыдалъ такъ жалобно и тихо, какъ плачутъ больныя дѣти…
— Николай! — говорилъ Ѳома, поднимая его за плечи. — Перестань… что такое? О Господи… Николай! Будетъ… какъ не стыдно!
Но тому было не стыдно: онъ бился на землѣ, какъ рыба, только-что выхваченная изъ воды, а когда Ѳома поднялъ его на ноги — крѣпко прижался къ его груди, охвативъ его бока тонкими руками, и все плакалъ…
— Ну, ладно! — говорилъ Ѳома сквозь крѣпко сжатые зубы. — Будетъ, милый…
И возмущенный страданіемъ измученнаго тѣснотою жизни человѣка, полный обиды за него, онъ, въ порывѣ злой тоски, густымъ и громкимъ голосомъ зарычалъ, обративъ лицо туда, гдѣ во тьмѣ сверкали огни города:
— А-а-ана-ѳемы! Будь вы прокляты! Погодите… и вы задохнетесь! Будь вы прокляты!
XI.
— Любавка! — сказалъ однажды Маякинъ, придя домой съ биржи, — сегодня вечеромъ приготовься — жениха привезу! Закусочку намъ устрой посолиднѣе… Серебра стараго побольше выставь на столъ… вазы для фруктъ тоже вынь… Чтобы въ носъ ему бросился нашъ столъ! Пускай видитъ, что у насъ, что ни вещь — рѣдкость!
Любовь, сидя у окна, штопала носки отца, и голова ея была низко опущена къ работѣ.
— Зачѣмъ все это, папаша? — съ неудовольствіемъ и обидой спросила она.
— А для соуса… для вкуса… И для порядка… Потому — дѣвка не лошадь, безъ сбруи съ рукъ не сбудешь…
Любовь нервно вскинула голову и, бросивъ прочь отъ себя работу, вся красная отъ обиды взглянула на отца… и, снова взявъ въ руки носки, еще ниже опустила надъ ними голову. Старикъ расхаживалъ по комнатѣ, озабоченно подергивая рукой свою огненную бородку, глаза его смотрѣли куда-то далеко, и было видно, что весь онъ погрузился въ какую-то большую и сложную думу. Дѣвушка поняла, что онъ не будетъ слушать ея и не захочетъ понять того, какъ унизительны для нея его слова. Ея романическія мечты о мужѣ-другѣ, образованномъ человѣкѣ, который читалъ бы вмѣстѣ съ нею умныя книжки и помогъ бы ей разобраться въ смутныхъ желаніяхъ ея, — были задушены въ ней непреклоннымъ рѣшеніемъ отца выдать ее за Смолина, были убиты, разложились и осѣли въ душѣ ея горькимъ осадкомъ. Она привыкла смотрѣть на себя, какъ на что-то лучшее и высшее обыкновенной дѣвушки купеческаго сословія, — дѣвушки пустой и глупой, которая думаетъ только о нарядахъ и выходитъ замужъ почти всегда по разсчетамъ родителей и рѣдко по свободному влеченію сердца. И вотъ теперь она сама выходитъ лишь потому, что — пора и потому еще, что отцу ея нужно зятя, преемника въ дѣлахъ. А отецъ, видимо, думаетъ, что сама по себѣ она едва ли способна привлечь вниманіе мужчины, и украшаетъ ее серебромъ.
Возмущенная, она нервно работала, колола себѣ пальцы, ломала иголки, но молчала, хорошо зная, что все, что можетъ сказать она, — сердце отца ея не услышитъ.
А старикъ все расхаживалъ по комнатѣ и то вполголоса напѣвалъ псалмы, то внушительно поучалъ дочь, какъ нужно ей держаться съ женихомъ. И тутъ же онъ что-то высчитывалъ на пальцахъ, хмурился и улыбался…
— Мм… тэкъ-съ!… Суди меня, Боже, и разсуди прю мою… отъ человѣка неправедна и льстива избави мя… Н-да-а… Материны изумруды надѣнь, Любовь…
— Будетъ, папаша! — воскликнула дѣвушка съ тоской. — Оставьте, пожалуйста…
— А ты не брыкайся! Знай, слушай, чему учатъ…
И онъ снова погружался въ свои расчеты, прищуривая зеленые глаза и играя пальцами у себя предъ лицомъ.
— Тридцать пять процентовъ выходитъ… мм… жуликъ-парень… Посли свѣтъ Тво-ой и истину Твого…
— Папаша! — уныло и съ боязнью воскликнула Любовь.
— Ась?
— Вы… вамъ онъ нравится?
— Кто?
— Смолинъ…
— Смолинъ? Н-да… онъ — ше-ельма… онъ дѣльный парень… ха-арошій купецъ! Ну и — я ушелъ… Такъ ты тово… вооружись…
Оставшись одна, Любовь бросила работу и прислонилась къ спинкѣ стула, плотно закрывъ глаза. Крѣпко сжатыя руки ея лежали на колѣняхъ, и пальцы ихъ хрустѣли. Полная горечью оскорбленнаго самолюбія, она чувствовала жуткій страхъ предъ будущимъ и безмолвно молилась:
— О Боже мой! О Господи!… Если бъ онъ былъ порядочный человѣкъ!… Сдѣлай, чтобъ онъ былъ порядочный… сердечный… О Боже! Приходитъ какой-то мужчина, смотритъ тебя… и на долгіе годы беретъ себѣ… если ты понравишься ему! Какъ это позорно… страшно… Боже мой, Боже! Если бъ я могла… убѣжать!… Посовѣтоваться бы съ кѣмъ-нибудь… что дѣлать? Кто онъ? Какъ узнать его? Ничего я не могу! А думала… столько думала! Читала… Зачѣмъ я читала? Зачѣмъ мнѣ знать, что можно жить иначе… такъ, какъ я не могу? А… можетъ быть если бъ не книги… мнѣ бы… легче жилось… проще… Какъ это мучительно все! Какая я жалкая… несчастная… Одна… Тарасъ хоть бы…
При воспоминаніи о братѣ ей стало еще обиднѣе, еще болѣе жаль себя. Она написала Тарасу длинное ликующее письмо, въ которомъ говорила о своей любви къ нему, о своихъ надеждахъ на него; умоляя брата скорѣе пріѣхать повидаться съ отцомъ, она рисовала ему планы совмѣстной жизни, увѣряла Тараса въ томъ, что отецъ — умница и можетъ все понять, разсказывала объ его одиночествѣ, восхищалась его жизнеспособностью и тутъ же жаловалась на его отношеніе къ ней.
Двѣ недѣли она съ трепетомъ ждала отвѣта, и когда, получивъ, прочитала его — то разревѣлась до истерики отъ радости и разочарованія. Отвѣтъ былъ сухъ и кратокъ; въ немъ Тарасъ извѣщалъ, что черезъ мѣсяцъ будетъ по дѣламъ на Волгѣ и не преминетъ зайти къ отцу, если старикъ противъ этого дѣйствительно ничего не имѣетъ. Письмо было холодно, какъ льдина; она со слезами нѣсколько разъ перечитывала его, и мяла, и комкала, но оно не стало теплѣе отъ этого, а только взмокло. Съ листочка жесткой почтовой бумаги, исписаннаго крупнымъ, твердымъ почеркомъ, на нее какъ бы смотрѣло сморщенное, недовѣрчиво нахмуренное лицо, худое и угловатое, какъ лицо отца.
На Якова Тарасовича письмо сына произвело иное впечатлѣніе. Узнавъ, что Тарасъ написалъ, старикъ весь встрепенулся и оживленно, съ какой-то особенной улыбочкой торопливо обратился къ дочери:
— Ну-ка, дай-ко сюда! Покажи-ко! Хе! Почитаемъ, какъ умники пишутъ… Гдѣ очки-то? Мм… „Дорогая сестра!“ Н-да…
Старикъ замолчалъ; прочиталъ про-себя посланіе сына, положилъ его на столъ и, высоко поднявъ брови, съ удивленнымъ лицомъ молча прошелся по комнатѣ. Потомъ снова прочиталъ письмо; задумчиво постукалъ пальцами по столу и изрекъ:
— Ничего… писаніе основательное… безъ лишнихъ словъ… Что жъ? Можетъ и въ самомъ дѣлѣ окрѣпъ человѣкъ на холодѣ-то… Холода тамъ сердитые… Пускай его пріѣдетъ… поглядимъ… Любопытно… Н-да… Въ псалмѣ Давидовѣ о тайныхъ сына сказано: внегда возвратитися врагу моему вспять… забылъ, какъ дальше-то… Врагу оскудѣша оружія въ конецъ… и погибе память его съ шумомъ… Ну, мы съ нимъ безъ шума потолкуемъ…
Старикъ старался говорить спокойно и съ пренебрежительной усмѣшкой, но усмѣшка не выходила на лицѣ у него, морщины возбужденно вздрагивали, и глазки сверкали какъ-то особенно ясно.
— Ты ему еще напиши, Любавка… валяй, молъ, смѣло пріѣзжай, молъ…
Любовь написала Тарасу еще, но уже болѣе краткое и спокойное письмо, и теперь со дня на день ждала отвѣта, пытаясь представить себѣ, какимъ долженъ быть онъ, этотъ таинственный братъ? Раньше она думала о немъ съ замираніемъ сердца, съ тѣмъ благоговѣйнымъ уваженіемъ, съ какимъ вѣрующіе думаютъ о подвижникахъ, людяхъ праведной жизни, — теперь ей стало боязно его, ибо онъ цѣною тяжелыхъ страданій, цѣною молодости своей, загубленной въ ссылкѣ, пріобрѣлъ право суда надъ жизнью и людьми… Вотъ пріѣдетъ онъ и спроситъ ее:
— Что же, ты свободно, по любви выходишь замужъ?
Что скажетъ она ему? Проститъ ли онъ ей малодушіе ея? И зачѣмъ она выходитъ? Дѣйствительно ли это все, что можетъ сдѣлать она, для того, чтобы измѣнить свою жизнь?
Одна за другой въ головѣ дѣвушки рождались унылыя думы и смущали и мучили ее, безсильную противопоставить имъ какое-либо опредѣленное, всепобѣждающее желаніе. Охваченная тревожнымъ и нервнымъ настроеніемъ, близкая къ отчаянію и едва сдерживая слезы, она все-таки, хотя и полусознательно, но точно исполнила всѣ указанія отца: убрала столъ стариннымъ серебромъ и рѣдкой хрусталью, одѣла шелковое платье цвѣта стали и, сидя передъ зеркаломъ, стала вдѣвать въ уши огромные изумруды — фамильную драгоцѣнность князей Грузинскихъ, оставшуюся у Маякина въ закладѣ, вмѣстѣ со множествомъ другихъ рѣдкихъ вещей.
Глядя въ зеркало на свое взволнованное лицо, на которомъ крупныя и сочныя губы казались еще красивѣе отъ блѣдности щекъ, осматривая свой пышный бюстъ, плотно обтянутый шелкомъ, она почувствовала себя красивой и достойной вниманія любого мужчины, кто бы онъ ни былъ. Зеленые камни, сверкавшіе въ ея ушахъ, оскорбляли ее, какъ лишнее ей, и къ тому же ей показалось, что ихъ игра ложится ей на щеки тонкой желтоватой тѣнью. Она вынула изъ ушей изумруды, замѣнивъ ихъ маленькими рубинами и думая въ это время о Смолинѣ — что это за человѣкъ? Каковъ его характеръ? Чего онъ хочетъ? Читаетъ ли онъ книги?…
Потомъ ей не понравились темные круги подъ глазами, и она стала тщательно осыпать ихъ пудрой, не переставая думать о несчастій быть женщиной и упрекая себя за безволіе. Когда пятна около глазъ скрылись подъ слоемъ бѣлилъ и пудры, Любови показалось, что отъ этого глаза ея лишились блеска, и она стерла пудру… Послѣдній взглядъ въ зеркало убѣдилъ ее, что она внушительно-красива, — красива добротной и прочной красотой смолистой сосны. Это пріятное сознаніе нѣсколько успокоило ея тревожное настроеніе, и она вышла въ столовую солидной походкой богатой невѣсты, знающей себѣ цѣну.
Отецъ и Смолинъ уже пришли.
Любовь на секунду остановилась въ дверяхъ, красиво прищуривъ глаза и гордо сжавъ губы. Смолинъ всталъ со стула, шагнулъ навстрѣчу ей и почтительно поклонился. Ей понравился этотъ поклонъ — низкій и ловкій, ей понравился и дорогой сюртукъ, красиво сидѣвшій на гибкомъ тѣлѣ Смолина… Онъ мало измѣнился — такой же рыжій, гладко остриженный, весь въ веснушкахъ; только усы выросли у него длинные и пышные, да глаза стали какъ будто больше.
— Каковъ сталъ, э? — крикнулъ Маякинъ дочери, указывая на жениха.
А Смолинъ жалъ ей руку и, улыбаясь, говорилъ звучнымъ баритономъ:
— Смѣю надѣяться — вы не забыли стараго товарища?
— Ладно!… Вы послѣ поговорите, — сказалъ старикъ, ощупывая дочь глазами. — Ты, Любава, пока распорядись тутъ, а мы съ нимъ докончимъ одинъ разговорецъ. Ну-ка, Африканъ Митричъ, изъясняй…
— Вы извините меня, Любовь Яковлевна? — ласково спросилъ Смолинъ.
— Пожалуйста, не стѣсняйтесь, — сказала Любовь.
„Вѣжливъ и ловокъ!…“ — отмѣтила она про-себя и, расхаживая по комнатѣ отъ стола къ буфету, стала внимательно вслушиваться въ рѣчь Смолина. Говорилъ онъ мягко, увѣренно, съ простотой, въ которой чувствовалось снисхожденіе къ собесѣднику.
— Такъ вотъ — я около четырехъ лѣтъ тщательно изучалъ положеніе русской кожи на заграничныхъ рынкахъ. Печальное и скверное положеніе! Лѣтъ тридцать тому назадъ наша кожа считалась тамъ образцовой, а теперь спросъ на нее все падаетъ, разумѣется, вмѣстѣ съ цѣной. И это вполнѣ естественно — вѣдь при отсутствіи капитала и знаній всѣ эти мелкіе производители-кожники не имѣютъ возможности поднять производство на должную высоту и въ то же время — удешевить его… Товаръ ихъ возмутительно плохъ и дорогъ… И всѣ они прямо-таки повинны предъ Россіей въ томъ, что испортили ея репутацію производителя лучшей кожи. Вообще — мелкій производитель, лишенный техническихъ знаній и капитала, стало быть, поставленный въ невозможность улучшать свое производство сообразно развитію техники, — такой производитель — несчастіе страны, паразитъ ея торговли…
— Мм… промычалъ старикъ, однимъ глазомъ глядя на гостя, а другимъ наблюдая за дочерью. — Такъ, значитъ, твое теперь намѣреніе — взбодрить такую агромадную фабрику, чтобы всѣмъ другимъ — гробъ и крышка?
— О, нѣтъ! — воскликнулъ Смолинъ, плавнымъ жестомъ отмахиваясь отъ словъ старика. — Зачѣмъ обижать другихъ? Какое я имѣю право на это? Моя цѣль — поднять значеніе и цѣну русской кожи за границей, и вотъ, вооруженный знаніемъ производства, я строю образцовую фабрику и выпускаю на рынки образцовый товаръ… Торговая честь страны…
— Много ли, говоришь, капитала-то требуется? — задумчиво спросилъ Маякинъ.
— Около трехсотъ тысячъ…
„Столько отецъ не дастъ за мной“, — подумала Любовь.
— Моя фабрика будетъ выпускать и кожу въ дѣлѣ, въ видѣ чемодановъ, обуви, сбруи, ремней и т. д.
— А о какомъ ты процентѣ мечтаешь? — спросилъ старикъ.
— Я — не мечтаю, я — высчитываю со всей точностью, возможной въ нашихъ русскихъ условіяхъ, — внушительно сказалъ Смолинъ. — Производитель долженъ быть строго-трезвъ, какъ механикъ, создающій машину… Нужно принимать въ расчетъ треніе каждаго самомалѣйшаго винтика, если ты хочешь дѣлать серьезное дѣло серьезно. Я могу дать вамъ для прочтенія составленную мною записочку, основанную мной на личномъ изученіи скотоводства и потребленія мяса въ Россіи…
— Ишь ты! — усмѣхнулся Маякинъ. — Ты мнѣ принеси записочку… любопытно! Видать — ты въ этихъ самыхъ западныхъ Европахъ не даромъ время проводилъ… А теперь — поѣдимъ чего-нибудь, по русскому обычаю…
— Какъ вы поживаете, Любовь Яковлевна? — спросилъ Смолинъ, вооружаясь ножомъ и вилкой.
— Она у меня скучно живетъ… — отвѣтилъ за дочь Маякинъ. — Домоправительница моя… все хозяйство на ней лежитъ, ну и некогда ей веселиться-то…
— И негдѣ, нужно добавить, — сказала Люба. — Купеческихъ баловъ и вечеринокъ я не люблю…
— А театръ! — спросилъ Смолинъ.
— Тоже рѣдко бываю… не съ кѣмъ…
— Театръ! — воскликнулъ старикъ. — Скажите на милость — зачѣмъ это тамъ взяли такую моду, чтобы купца дикимъ дуракомъ представлять? Очень это смѣшно, но — непонятно, потому — неправда! Какой я дуракъ, ежели въ думѣ я — хозяинъ, въ торговлѣ — хозяинъ, да и театришко-то мой?… Смотришь на театрѣ купца и видишь — не сообразно съ жизнью! Конечно, ежели историческое представляютъ — примѣрно: „Жизнь за Царя“ съ пѣніемъ и пляской, али „Гамлета“ тамъ, „Чародѣйку“, „Василису“ — тутъ правды не требуется, потому — дѣло прошлое и насъ не касается… Вѣрно или не вѣрно — было бы здорово… Но ежели современность представляешь, — такъ ужъ ты не ври! И показывай человѣка, какъ слѣдуетъ…
Смолинъ слушалъ рѣчь старика съ вѣжливой улыбкой на губахъ и бросалъ Любови такіе взгляды, точно приглашалъ ее возразить отцу. Немного смущенная, она сказала:
— А все-таки, папаша, въ большинствѣ купеческое сословіе необразованно и дико…
— Н-да, — утвердительно кивнувъ головой, молвилъ Смолинъ съ сожалѣніемъ, — это печальная истина…
— Вотъ, напримѣръ, Ѳома… — продолжала дѣвушка.
— О? — воскликнулъ Маякинъ. — Ну, вы люди молодые — вамъ и книги въ руки…
— А въ обществахъ вы ни въ какихъ не участвуете? — спросилъ Смолинъ у Любови. — Вѣдь у васъ тутъ много разныхъ обществъ…
— Да, — вздохнувъ сказала Любовь, — но я какъ-то въ сторонѣ отъ всего живу…
— Хозяйство! — вставилъ ея отецъ. — Вонъ сколько разной дребедени у насъ… требуется содержать все на счету, въ чистотѣ и порядкѣ…
Онъ самодовольно кивнулъ головой на столъ, уставленный сверкающей хрусталью и серебромъ, и на горку, полки которой ломились подъ тяжестью вещей и напоминали о выставкѣ въ окнѣ магазина. Смолинъ осмотрѣлъ все это, и на губахъ его мелькнула ироническая улыбка. Потомъ онъ взглянулъ въ лицо Любови; она въ его взглядѣ уловила что-то дружеское, сочувственное ей. Легкій румянецъ покрылъ ея щёки, и она внутренно съ робкой радостью сказала про-себя:
„Слава Богу!…“
Огонь тяжелой бронзовой лампы какъ будто ярче засверкалъ въ граняхъ хрустальныхъ вазъ, и въ комнатѣ стало свѣтлѣй.
— А мнѣ нравится нашъ старый, славный городъ! — говорилъ Смолинъ, съ ласковой улыбкой глядя на дѣвушку, — такой онъ красивый, бойкій… есть въ немъ что-то бодрое, располагающее къ труду… сама его картинность возбуждаетъ какъ-то… Въ немъ хочется жить широкой жизнью… хочется работать много и серьезно… И притомъ — интеллигентный городъ… Смотрите — какая дѣльная газета издается здѣсь… Кстати — мы хотимъ ее купить…
— Кто это вы? — спросилъ Маякинъ.
— Да вотъ я… Урванцовъ, Щукинъ.
— Это — похвально! — ударивъ рукой по столу, сказалъ старикъ. — Это — очень дѣльно! Пора имъ глотку заткнуть — давно пора! Особенно Ежовъ тамъ есть… пила такая зубастая… Вотъ его вы и приструньте! Да хорошенько!…
Смолинъ снова бросилъ Любови улыбающійся взглядъ, и вновь ея сердце радостно дрогнуло. Съ яркимъ румянцемъ на лицѣ она сказала отцу, внутренно адресуясь къ жениху:
— Насколько я понимаю Африкана Дмитріевича, онъ покупаетъ газету совсѣмъ не для того, чтобы… зажать ей ротъ, какъ вы говорите…
— А куда ее? — спросилъ старикъ, пожавъ плечами — Одно пустозвонство и смута отъ нея… Конечно, ежели дѣловой народъ, самъ купецъ возьмется въ ней писать…
— Изданіе газеты, — поучительно заговорилъ Смолинъ, перебивая рѣчь старика, — разсматриваемое даже только съ коммерческой точки зрѣнія, можетъ быть очень прибыльнымъ дѣломъ. Но помимо этого у газеты есть другая, болѣе важная цѣль — это защита правъ личности и интересовъ промышленности и торговли…
— Вотъ я и говорю — ежели самъ купецъ будетъ руководствовать ей, газетой, — то тогда — она нужна…
— Позвольте, папаша, — сказала Любовь.
Она начинала чувствовать потребность высказаться предъ Смолинымъ; ей хотѣлось убѣдить его, что она понимаетъ значеніе его словъ, что она — не простая купеческая дочь, тряпичница и плясунья. Смолинъ нравился ей. Первый разъ она видѣла купца, который долго жилъ за границей, разсуждаетъ такъ внушительно, такъ прилично держится, такъ ловко одѣтъ и говоритъ съ ея отцомъ — первымъ умникомъ въ городѣ — снисходительнымъ тономъ взрослаго съ малолѣтнимъ.
„Послѣ свадьбы уговорю его свозить меня за границу…“ — вдругъ подумала она и, смутившись отъ этой думы, забыла то, что хотѣла сказать отцу. Густо покраснѣвъ, она нѣсколько секундъ молчала, вся охваченная страхомъ, что это молчаніе Смолинъ можетъ истолковать не лестно для нея.
— Вы, за разговоромъ, совсѣмъ забыли предложить гостю вина… — нашлась она послѣ нѣсколькихъ непріятныхъ секундъ молчанія.
— Это твое дѣло: ты хозяйка… — возразилъ отецъ.
— О, пожалуйста не безпокойтесь! — живо воскликнулъ Смолинъ. — Я вѣдь почти не пью…
— Ой ли? — спросилъ Маякинъ.
— Увѣряю васъ! Иногда рюмку, двѣ, въ случаѣ утомленія, нездоровья… А вино для удовольствія — непонятно мнѣ. Есть другія удовольствія, болѣе достойныя культурнаго человѣка…
— Барыни, что ли? — подмигнувъ, спросилъ старикъ.
У Смолина и щёки, и шея сдѣлались рыжими отъ краски, бросившейся ему въ лицо. Извиняющимися глазами и онъ взглянулъ на Любовь и сухо сказалъ ея отцу:
— Это — театръ, книги, музыка…
Любовь такъ вся и расцвѣла при его словахъ.
А старикъ исподлобья посмотрѣлъ на достойнаго молодого человѣка, усмѣхнулся остренько и вдругъ выпалилъ:
— Эхъ, двигается жизнь-то! Раньше пёсикъ корку жралъ, нынче моськѣ сливки жидки… Простите, любезные господа, на кисломъ словѣ… слово-то больно ужъ къ мѣсту! Оно — не про васъ, а вообще…
Любовь поблѣднѣла и съ испугомъ взглянула на Смолина. Онъ сидѣлъ спокойно, разсматривая старинную солонку-ковчежекъ, украшенную эмалью, крутилъ усы и какъ будто не слыхалъ словъ старика… Но его глаза потемнѣли, и губы были сложены какъ-то очень плотно, отчего бритый подбородокъ упрямо выдался впередъ.
— Такъ, значить, господинъ будущій первѣйшій фабрикантъ, — какъ ни въ чемъ не бывало заговорилъ Маякинъ, — триста тысячъ цѣлковыхъ, и — дѣло твое заиграетъ, какъ пожаръ?
— И черезъ полтора года я выпущу первую партію товара, который у меня оторвутъ съ руками, — просто и съ непоколебимой увѣренностью сказалъ Смолинъ и уставился въ глаза старика твердымъ и холоднымъ взглядомъ.
— Стало быть: торговый домъ Смолинъ и Маякинъ и — больше никакихъ? Тэкъ-съ… Но только… поздно мнѣ, будто бы, новое дѣло затѣвать, а? Надо полагать, что ужъ давно для меня гробикъ сдѣланъ… ты какъ думаешь про это?
Вмѣсто отвѣта Смолинъ нѣсколько секундъ смѣялся сочнымъ, но равнодушнымъ и холоднымъ смѣхомъ, а потомъ сказалъ:
— Э, полноте…
Старикъ вздрогнулъ при смѣхѣ его и пугливо отшатнулся чуть замѣтнымъ движеніемъ корпуса. Послѣ словъ Смолина всѣ трое съ минуту молчали.
— Н-да-а… — сказалъ Маякинъ, не поднимая низко опущенной головы. — Надо подумать объ этомъ… надобно мнѣ подумать… — Потомъ, поднявъ голову, онъ пристально осмотрѣлъ дочь и жениха и, вставъ со стула, сказалъ угрюмо и грубо: — На минуточку я отойду отъ васъ въ кабинетишко къ себѣ… Чай, не соскучитесь безъ меня…
И ушелъ, тяжело шаркая ногами, согнувъ спину, опустивъ голову…
Молодые люди, оставшись одинъ на одинъ, перекинулись нѣсколькими пустыми фразами и, должно быть, почувствовавъ, что это только отдаляетъ ихъ другъ отъ друга, оба замолчали тяжелымъ и неловкимъ, выжидающимъ молчаніемъ. Любовь, взявъ апельсинъ, съ преувеличеннымъ вниманіемъ начала чистить его, а Смолинъ осмотрѣлъ свои усы, опустивъ глаза внизъ, потомъ тщательно разгладилъ ихъ лѣвой рукой, поигралъ ножомъ и вдругъ пониженнымъ голосомъ спросилъ у дѣвушки:
— А… — извините меня за нескромность! — должно быть, въ самомъ дѣлѣ тяжело вамъ, Любовь Яковлевна, жить съ папашей… ветхозавѣтенъ онъ у васъ и — простите — черствоватъ!
Любовь вздрогнула и взглянула на рыжаго человѣка благодарными глазами, говоря ему:
— Не легко, но я привыкла… У него есть свои достоинства…
— О, это несомнѣнно! Но вамъ, молодой, красивой, образованной, вамъ съ вашими взглядами… я вѣдь кое-что слышалъ о васъ…
Онъ такъ ласково и сочувственно улыбался и голосъ у него былъ такой мягкій… Въ комнатѣ повѣяло тепломъ, согрѣвающимъ душу. И въ сердцѣ дѣвушки все ярче разгоралась робкая надежда на счастье быть освобожденной изъ тѣснаго плѣна одиночества…
XII.
Густой сѣроватый туманъ стоялъ надъ рѣкой и пароходъ, глухо вскрикивая, медленно плылъ въ немъ противъ теченія. Сырыя и холодныя, одноцвѣтно-мертвенныя облака стискивали пароходъ со всѣхъ сторонъ и проглатывали всѣ звуки, растворяя ихъ въ своей мутной сырости. Мѣдный ревъ сигналовъ гудѣлъ подавленно, уныло и былъ странно кратокъ, вырываясь изъ свистка: звукъ какъ бы не находилъ себѣ мѣста въ воздухѣ, пропитанномъ густой сыростью, и падалъ внизъ мокрый, задушенный. И шумъ колесъ парохода звучалъ такъ фантастично-глухо, точно онъ рождался не тутъ близко, у бортовъ судна, а гдѣ-то глубоко внизу, на темномъ днѣ рѣки. Съ парохода не было видно ни воды, ни береговъ, ни неба: его охватила со всѣхъ сторонъ свинцово-сѣрая муть; лишенная оттѣнковъ, тоскливо однообразная, она была неподвижна, давила на пароходъ неизмѣримой тяжестью, замедляла его движеніе и точно готовилась всосать его въ себя, какъ всасывала звуки. Несмотря на глухіе удары плицъ по водѣ и мѣрную дрожь корпуса — казалось, пароходъ тяжело бьется на одномъ мѣстѣ, задыхаясь въ агоніи, шипитъ, какъ издыхающее сказочное чудовище, воетъ въ предсмертной тоскѣ, воетъ отъ боли и страха смерти.
Безжизненны были огни парохода. Вокругъ фонаря на мачтѣ образовалось желтое, неподвижное пятно; оно стояло въ туманѣ надъ пароходомъ, лишенное блеска и ничего не освѣщая, кромѣ сѣрой мглы. Красный бортовой огонь былъ похожъ на огромное око, выдавленное чьей-то жестокой рукой, ослѣпшее, залитое кровью. Блѣдныя пятна свѣта падали въ туманъ изъ оконъ парохода и только оттѣняли его холодное, лишенное радости, торжество надъ судномъ, стиснутымъ неподвижной массой удушливой сырости.
Дымъ изъ трубы падалъ внизъ и вмѣстѣ съ клочьями тумана проникалъ во всѣ щели на палубу, гдѣ пассажиры третьяго класса молчаливо кутались въ свои лохмотья, сбившись въ кучки, какъ овцы. Изъ машины доносились тяжелые, напряженные вздохи, дребезжащіе звонки, глухіе звуки команды и отрывистыя слова машиниста:
— Есть — тихій!… Есть — до средняго!…
На кормѣ, въ углу, заставленномъ бочками съ соленой рыбой, расположилась группа людей, освѣщенная электрической лампочкой. Это были какіе-то степенные, тепло и чисто одѣтые мужики; одинъ изъ нихъ лежалъ на скамьѣ, спиной кверху, другой сидѣлъ въ ногахъ у него, еще одинъ стоялъ, прислонясь спиной къ бочкѣ, а двое усѣлись прямо на палубѣ. Лица всѣхъ ихъ, задумчивыя и внимательныя, были обращены на сутулаго человѣка въ порыжѣвшемъ подрясникѣ и изорванной мѣховой шапкѣ. Человѣкъ этотъ, согнувъ спину, сидѣлъ на какомъ-то ящикѣ и, глядя подъ ноги себѣ, говорилъ тихимъ, увѣреннымъ голосомъ:
— Пріидетъ же конецъ долготерпѣнію Господа, и разразится надъ человѣками гнѣвъ Его… Вси есть мы — яко черви предъ Нимъ и како намъ отразити гнѣвъ Его тогда, кіими воплями воззвать намъ къ милосердію Его?
Гонимый тоскою своей, Ѳома спустился изъ своей каюты на палубу и давно уже, стоя въ тѣни у какого-то товара, покрытаго брезентомъ, слушалъ увѣщавающій и кроткій голосъ проповѣдника. Расхаживая по палубѣ, онъ наткнулся на эту группу и остановился около нея, привлеченный фигурой странника. Было что-то знакомое ему въ этомъ большомъ крѣпкомъ тѣлѣ, съ суровымъ, темнымъ лицомъ и большими спокойными глазами. Кудрявые, полусѣдые волосы, выбивавшіеся изъ-подъ скуфьи, борода нечесанная, густая, разбившаяся на толстыя пряди, этотъ длинный горбатый носъ, острыя уши, толстыя губы — все это Ѳома уже видѣлъ когда-то, но не могъ вспомнить, когда и гдѣ.
— Н-да… много лежитъ на насъ недоимки передъ Господомъ! — сказалъ, тяжко вздохнувъ, одинъ изъ мужиковъ.
— Молиться надо… — чуть слышно прошепталъ мужикъ, лежавшій на скамьѣ.
— Али молитвеннымъ-то словомъ соскребешь съ души окаянство грѣховное? — громко и почти съ отчаяніемъ въ голосѣ воскликнулъ кто-то со стороны.
Никто изъ составлявшихъ группу вокругъ странника не обернулся на этотъ голосъ, только головы всѣхъ опустились ниже и долгое время люди эти сидѣли неподвижно и молча.
Странникъ обвелъ всѣхъ слушателей серьезнымъ и вдумчивымъ взглядомъ голубыхъ глазъ и тихо заговорилъ:
— У Ефрема Сирина сказано: „Содѣяй душу твою средоточіемъ мысли твоея и укрѣпись хотѣніемъ твоимъ на свободѣ отъ грѣха…“
И вновь онъ опустилъ голову, медленно перебирая пальцами четки…
— Думать, значитъ, надо… — сказалъ одинъ изъ мужиковъ.
— А когда человѣку думать, на міру живучи?
— Кругомъ — склока…
— Въ пустыню бѣжать… — проговорилъ лежавшій мужикъ.
— Не всякому это возможно…
Отозвались мужики и — снова замолчали. Завылъ свистокъ, въ машинѣ задрожалъ колокольчикъ. Откуда-то раздался громкій возгласъ:
— Вань! Къ наметкѣ…
— О Господи, Царица Небесная! — раздался тяжелый вздохъ.
А глухой, полузадушенный голосъ возглашалъ:
— Де-евя-ять… де-евя-ять…
Клочья тумана ворвались откуда-то на палубу и поплыли по ней холоднымъ, сѣрымъ дымомъ…
— Вотъ, люди добрые, послушайте слова царя Давида… — сказалъ странникъ и, покачивая головой, началъ внятно читать: „Господи, настави мя правдою Твоею; врагъ моихъ ради исправи предъ Тобою путь мой! Яко нѣсть во устахъ ихъ истины, сердце ихъ суетно, гробъ отверстъ — гортань ихъ, языки своими льщаху… Суди имъ Боже, да отпадутъ отъ мыслей своихъ…“
— Во-осемь… Се-емь… — доносилось издали тяжелыми вздохами.
Пароходъ гнѣвно зашипѣлъ и пошелъ тише. Рокочущее шипѣніе пара заглушало слова странника, и Ѳома видѣлъ только движенія его губъ.
— Пошелъ долой! — раздался злой и громкій крикъ. — Мое мѣсто!
— Тво-ое?
— Вотъ те и тво-ое!
— Я те лягну въ морду… ты и найдешь свое мѣсто… Ишь какой баринъ!
— По-ошелъ!
Началась возня. Мужики, слушавшіе странника, поворотили головы въ ту сторону, гдѣ возились, и странникъ, вздохнувъ, замолчалъ. Около машины вспыхнулъ живой и громкій говоръ, точно загорѣлись сухія вѣтви, брошенныя въ угасавшій костеръ.
— Я васъ, черти! Брысь оба…
— Отвести ихъ къ капитану…
— Ха-ха-ха! Вотъ это разборка!
— Здорово онъ ему съѣздилъ по шеѣ-то!
— Матросы — они ловкіе…
— Во-осемь… Де-евя-ять… — выкрикивалъ наметчикъ.
— Есть — прибавить! — раздался громкій возгласъ машиниста.
Покачиваясь на ногахъ отъ движенія парохода, Ѳома стоялъ, прижавшись къ брезенту, и чутко прислушивался ко всему, что звучало вокругъ него, и все сливалось для него въ одну картину, знакомую ему.
Въ туманѣ и неизвѣстности, окруженная со всѣхъ сторонъ непроницаемой для глазъ мутью, медленно и тяжело двигается куда-то жизнь людей. А люди сокрушаются о грѣхахъ, вздыхаютъ тяжко, и тутъ же дерутся за теплое мѣсто, и побивъ другъ друга за обладаніе имъ — принимаютъ еще побои отъ тѣхъ, кто хочетъ добиться порядка въ жизни. Робко ищутъ они свободный путь къ цѣли своей.
— Де-евять… Восе-емь…
Тихо разносится по судну ноющій крикъ… и святая молитва странника глохнетъ въ шумѣ жизни. И нѣтъ свободы отъ тоски, нѣтъ радости тому, кто задумается надъ судьбой своей…
Ѳомѣ хотѣлось поговорить съ этимъ странникомъ, въ тихихъ словахъ котораго звучалъ искренній страхъ предъ Господомъ и всякая боязнь за людей предъ лицомъ Его. Кроткій, увѣщавающій голосъ странника обладалъ своеобразной силой, заставляя Ѳому вслушиваться въ глубокій, грудной звукъ его.
„Вотъ бы спросить, какъ живетъ онъ… — думалъ Ѳома, пристально оглядывая большую согнутую фигуру. — И гдѣ это я его видѣлъ? Или онъ похожъ на знакомаго?“
Вдругъ Ѳомѣ почему-то съ особенной ясностью представилось, что этотъ кроткій проповѣдникъ не кто иной, какъ сынъ стараго Ананія Щурова. Пораженный этой догадкой, онъ подошелъ къ страннику и, садясь рядомъ съ нимъ, развязно спросилъ:
— Съ Иргиза, что ли, отецъ?
Тотъ поднялъ голову, медленно и тяжело повернулъ лицо къ Ѳомѣ, всмотрѣлся въ него и кротко, спокойнымъ голосомъ сказалъ:
— Былъ и на Иргизѣ…
— Тамошній, самъ-то?
— Нѣтъ…
— А теперь — откуда?
— Отъ преподобнаго Стефана…
Разговоръ оборвался, — у Ѳомы не хватало смѣлости спросить странника, не Щуровъ ли онъ?
— Запоздаемъ мы съ туманомъ-то, — сказалъ кто-то.
— Какъ не запоздать!…
Всѣ молчали, глядя на Ѳому. Молодой, красивый, чисто и богато одѣтый, онъ возбуждалъ любопытство у окружавшихъ его внезапнымъ появленіемъ среди нихъ, чувствовалъ это любопытство, понималъ, что всѣ ждутъ его словъ, хотятъ понять, зачѣмъ онъ пришелъ къ нимъ, и — все это смущало и сердило его.
— Будто видалъ я тебя, отецъ, гдѣ-то… — сказалъ онъ наконецъ.
Странникъ, не глядя на него, отвѣтилъ:
— А можетъ…
— Поговорить бы мнѣ съ тобой надо… — несмѣло и негромко заявилъ Ѳома.
— Что же? Говори…
— Пойдемъ со мной…
— Куда?
— Въ каюту ко мнѣ…
Странникъ взглянулъ на лицо Ѳомы и, помолчавъ, согласился:
— Идемъ…
Уходя, Ѳома чувствовалъ на спинѣ своей взгляды мужиковъ, и теперь ему было пріятно знать, что они заинтересованы имъ.
Въ каютѣ онъ ласково спросилъ:
— Можетъ, поѣшь чего? Скажи — спрошу…
— Спаси Христосъ… Что надо-то тебѣ?
Этотъ человѣкъ, — въ порыжѣвшемъ отъ старости, покрытомъ заплатами подрясникѣ, грязный и оборванный, — брезгливо осмотрѣлъ каюту, и когда садился на диванъ, обитый плюшемъ, то подвернулъ подъ себя полу подрясника, такъ, точно боялся запачкать его о плюшъ.
— Какъ звать-то тебя, отецъ? — спросилъ Ѳома, замѣтившій выраженіе брезгливости на лицѣ его.
— Миронъ…
— А не Михаиломъ?
— Отчего — Михаиломъ? — спросилъ странникъ.
— А… былъ у насъ въ городу… сынъ у купца одного, у Шурова… тоже на Иргизъ онъ ушелъ… такъ его Михайлой звали…
Ѳома говорилъ и пристально смотрѣлъ на отца Мирона: но тотъ былъ покоенъ, какъ глухонѣмой.
— Не встрѣчалъ такого… не помню, не встрѣчалъ… — задумчиво сказалъ онъ. — Такъ ты про него хотѣлъ спросить?
— Д-да…
— Не встрѣчалъ Михаила Щурова… Ну, прости меня. Христа ради! — и, поднявшись съ дивана, странникъ поклонился Ѳомѣ и пошелъ къ двери…
— Да ты погоди… посиди… поговоримъ! — воскликнулъ Ѳома, безпокойно метнувшись къ нему. Тотъ пытливо взглянулъ на него и опустился на диванъ.
Откуда-то издали донесся тусклый звукъ, похожій на тяжелый стонъ, и вслѣдъ за нимъ надъ головами Ѳомы и его гостя завылъ испуганно и протяжно пароходный свистокъ. Издали снова отвѣтили ему уже болѣе ясно, и снова онъ заревѣлъ прерывистыми, пугливыми криками. Ѳома открылъ окно: въ туманѣ, неподалеку отъ ихъ парохода двигалось что-то съ тяжелымъ шумомъ, проплыли пятна призрачнаго свѣта, туманъ всколыхнулся и снова замеръ въ мертвой неподвижности…
— Экая страсть! — воскликнулъ Ѳома, закрывая окно.
— Чего бояться? — спросилъ странникъ.
— Да — вотъ! Ни день, ни ночь… ни тёмь, ни свѣтъ! Ничего не видно… плывемъ куда-то, плутаемъ по рѣкѣ…
— Имѣй въ себѣ огнь внутренній, имѣй свѣтъ въ душѣ — и все увидишь… — сказалъ странникъ поучительно и строго.
Ѳома почувствовалъ недовольство отъ этихъ холодныхъ словъ и искоса взглянулъ на странника. Тотъ сидѣлъ, наклонивъ голову, неподвижный, какъ бы застывшій въ думахъ и молитвѣ. Тихо шуршали четки въ его рукахъ…
Его поза породила какую-то развязную смѣлость въ груди Ѳомы, и онъ заговорилъ:
— Скажи, отецъ Миронъ, хорошо такъ жить… на полной своей волѣ… безъ дѣла, безъ родныхъ… странничать вотъ, какъ ты?
Отецъ Миронъ поднялъ голову и тихо засмѣялся какимъ-то ласковымъ дѣтскимъ смѣхомъ. Все лицо его, коричневое отъ вѣтра и загара, просвѣтилось свѣтомъ внутренней радости. Это былъ другой человѣкъ — не молитвенникъ и проповѣдникъ праведной жизни и страха Божія, а добрый и простой мужикъ, мягкій смѣхъ котораго вызвалъ и у Ѳомы добродушную улыбку. Но, посмѣявшись и посмотрѣвъ на Ѳому, Миронъ только вздохнулъ глубоко и кратко сказалъ:
— Плохо ли!…
— Доволенъ ты, значитъ, твоей жизнью?
— Не отягощаю ухо Господа моего пенями… ничего, живу! Нищее житіе — истинно Божіе… единое — свободное отъ путъ мірскихъ…
— А я вотъ… — заговорилъ было Ѳома, но оборвался и умолкъ. Въ ушахъ его все звучалъ этотъ завидно радостный смѣхъ… — Отчего ты ушелъ изъ міра-то? — спросилъ онъ, помолчавъ.
— Чуждъ бѣхъ братіи моей… — спокойно отвѣчалъ Миронъ и, обведя каюту внимательнымъ, изучающимъ взглядомъ, сказалъ съ презрительнымъ сожалѣніемъ:
— Эко настроили! Украшаютъ, украшаютъ себя снаружи-то, а внутри все хламъ…
— Да-а… — протянулъ Ѳома, глядя въ окно. — Такъ хорошо тебѣ странствовать? Свободно одному-то жить?
— Эхъ, братъ мой! — тихо воскликнулъ странникъ, подвигаясь къ Ѳомѣ и заглядывая въ лицо ему ласково и грустно. — Чую я — смутился ты душой… такъ ли?
Ѳома молча кивнулъ головой и съ ожиданіемъ взглянулъ на собесѣдника. У Мирона лицо сіяло тихой радостью, онъ дотронулся рукой до колѣна Ѳомы и заговорилъ задушевнымъ голосомъ:
— Отжени отъ себя мірское, ибо нѣсть сладости въ немъ. Правое слово говорю, — отойди отъ зла. Помнишь, сказано: „Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ и на пути грѣшныхъ не ста?“ Удались-ка, освѣжи душу свою одиночествомъ и наполнись думою о Господѣ… Ибо только мыслью о Немъ и можетъ человѣкъ спасти себя отъ оскверненія…
— Не то! — сказалъ Ѳома. — Мнѣ не спасаться надо… али много я согрѣшилъ? Другіе-то вонъ… Мнѣ бы уразумѣть…
— И уразумѣешь, если отложишься отъ міра… Выдь-ка ты на дорогу вольную, на поля, на степи, на равнины, горы… выдь да посмотри на міръ съ воли, издали…
— Вотъ! — вскричалъ Ѳома. — Вотъ это самое я и думаю… Со стороны виднѣе!
А Миронъ, не обращая вниманія на его слова, говорилъ такъ тихо, точно рѣчь шла о великой тайнѣ, вѣдомой лишь ему, страннику:
— Зашумятъ вокругъ тебя лѣса дремучіе сладкими голосами о мудрости Господа; запоютъ тебѣ птички Божіи о святой славѣ Его, а степныя травы курятъ ладаномъ Пресвятой Дѣвѣ Богородицѣ…
Голосъ странника то возвышался и дрожалъ отъ полноты чувства, то спускался до тайнаго шопота. Онъ точно помолодѣлъ: глаза его сіяли такъ увѣренно и ясно, и все лицо сверкало отъ счастливой улыбки человѣка, который нашелъ исходъ чувству радости своей и ликуетъ, изливая его.
— Въ каждой травкѣ бьется сердце Господа; всякое насѣкомое, воздушное и земное, дышитъ святымъ духомъ Его: всюду живъ Богъ-Господь Іисусъ Христосъ! Красота какая на землѣ, въ поляхъ, да въ лѣсахъ! Бывалъ ли ты на Керженцѣ? Тишина тамъ ничему но подобная, дерева, травы — райскія…
Ѳома слушалъ, и его воображеніе, плѣненное тихимъ чарующимъ разсказомъ, рисовало ему эти широкія поля и глухіе лѣса, полные красоты и тишины, умиротворяющей душу…
— Смотришь въ небо, лежа гдѣ-нибудь подъ кустикомъ, а оно все къ тебѣ опускается, какъ обнять тебя хочетъ… На душѣ тепло и тихо-радостно, ничего-то тебѣ не хочется, ничему не завидно… Такъ вотъ и кажется, что на всей землѣ — только ты да Богъ…
Странникъ говорилъ, а Ѳомѣ его голосъ и пѣвучая рѣчь напоминали чудныя сказки старой тётки Анѳисы. Онъ чувствовалъ себя такъ, какъ будто послѣ долгаго пути въ жаркій день пилъ чистую и студеную влагу лѣсного ручья, — влагу, пропитанную запахомъ травъ и цвѣтовъ, омываемыхъ ею… Предъ нимъ все шире развертывались яркія картины: вотъ тропинка въ дремучемъ лѣсу; сквозь вѣтви деревьевъ проникли тонкіе лучи солнца и дрожатъ въ воздухѣ и подъ ногами путника… Вкусно пахнетъ грибами и прѣлой листвой; медвяный ароматъ цвѣтовъ, густой запахъ сосны невидимо курятся въ воздухѣ и проникаютъ въ грудь теплой, сытной струей… Тишина вокругъ: только птицы поютъ, и тишина эта такъ чудесна, что кажется — и птицы поютъ въ груди твоей… Идешь ты, не торопясь, и жизнь твоя идетъ, какъ сонъ…
А здѣсь — все охвачено сѣрымъ, мертвымъ туманомъ и безпутно мы бьемся въ немъ, тоскуя о свободѣ и свѣтѣ. Вонъ — запѣли внизу, едва слышными голосами, не то пѣсню, не то молитву. Опять кто-то кричитъ, ругается. И все ищутъ путь:
— Семь съ полови-инай… Се-емь!…
— И ни о чемъ нѣтъ заботы тебѣ, — говорилъ странникъ, и голосъ его журчалъ какъ ручей, — кусокъ хлѣба вездѣ дадутъ; а чего еще тебѣ, вольному-то, надобно? Въ міру заботы цѣпями ложатся на душу…
— Хорошо ты говоришь! — вздохнувъ сказалъ Ѳома.
— Братикъ мой милый! — тихо воскликнулъ странникъ, еще ближе подвигаясь къ нему. — Коли проснулась душа, коли просится на волю — не усыпляй ея насильственно, слушай ея голоса… Нѣтъ на міру, въ его прелестяхъ, никакой красоты и святости — чего ради подчинится закону его? Въ Іоаннѣ Златоустѣ сказано: истинный шекинахъ есть человѣкъ! Шекинахъ же еврейское слово и значитъ оно — святая святыхъ… Стало быть…
Протяжный вой свистка заглушилъ его голосъ. Онъ прислушался, быстро всталъ съ дивана и сказалъ:
— Къ пристани свистятъ это… слѣзать мнѣ тутъ! Ну, прощай, братикъ! Дай тебѣ Господи крѣпости и силы содѣять по хотѣнію души твоея! Прощай, родимой!
Онъ низко поклонился Ѳомѣ. Было что-то женственно-ласковое и мягкое въ его прощальныхъ словахъ и поклонѣ. И Ѳома тоже низко поклонился ему, поклонился и замеръ, стоя съ опущенной головой, опершись рукой о столъ.
— Будешь въ городѣ, зайди ко мнѣ… — попросилъ онъ странника, торопливо вертѣвшаго ручку у двери каюты.
— Зайду! Я приду… Прощай! Спаси тебя Христосъ…
Когда пароходъ ткнулся бортомъ о пристань, Ѳома вышелъ на галлерею и сталъ смотрѣть внизъ, въ туманъ. По мостикамъ съ парохода шелъ народъ, но среди этихъ темныхъ фигуръ, окутанныхъ густою мглой, онъ не узналъ странника. Всѣ, уходившіе съ парохода, были одинаково неясны и всѣ быстро исчезали изъ глазъ, точно таяли въ сѣрой сырости… Не видно было ни берега, ничего твердаго, пристань покачивалась отъ волненія, разведеннаго пароходомъ, надъ нею колебалось желтое пятно фонаря, шумъ шаговъ и суеты людской былъ глухъ…
Пароходъ отвалилъ и медленно вдвинулся въ облака. Странникъ, пристань, шумъ людскихъ голосовъ — все вдругъ исчезло, какъ сонъ, и снова осталась только одна густая муть и пароходъ, тяжело ворочавшійся въ ней. Ѳома смотрѣлъ передъ собой въ мертвое море тумана и думалъ о голубомъ, безоблачномъ и ласково-тепломъ небѣ — гдѣ оно?
•••
На другой день около полудня онъ сидѣлъ въ комнаткѣ Ежова и слушалъ городскія новости изъ устъ своего товарища. Ежовъ взобрался на столъ, заваленный газетами, и, болтая ногами, разсказывалъ:
— Началась выборная компанія… купечество выдвигаетъ въ головы твоего крестнаго… стараго дьявола! Какъ дьяволъ — онъ безсмертенъ… хотя ему, должно быть, полтораста лѣтъ уже минуло. Дочь свою онъ выдаетъ за Смолина… помнишь, рыжаго! Про него говорятъ, что это порядочный человѣкъ… но по нынѣшнимъ временамъ порядочными людьми именуютъ и умныхъ мерзавцевъ… потому что людей — нѣтъ! Теперь Африкашка корчитъ изъ себя просвѣщеннаго человѣка, уже успѣлъ влѣзть въ интеллигентное общество, что-то, куда-то пожертвовалъ и — сразу сталъ на виду. По рожѣ судя, онъ — жуликъ первой степени, но будетъ играть роль, ибо обладаетъ чувствомъ мѣры. Н-да, братъ, Африкашка — либералъ… А либеральный купецъ — это помѣсь волка и свиньи съ жабой и змѣей…
— Пёсъ съ ними со всѣми! — сказалъ Ѳома, равнодушно махнувъ рукой. — Что мнѣ до нихъ? Ты какъ — пьешь все?
— Пью! Почему же мнѣ не пить?
Полуодѣтый и растрепанный Ежовъ былъ похожъ на какую-то ощипанную птицу, которая только что подралась и еще не успѣла пережить возбужденія боя.
— Пью, потому что надо мнѣ отъ времени до времени укрощать пламя моего оскорбленнаго сердца… А — ты, сырой пень, тлѣешь понемножку?
— Надо мнѣ идти къ старику… — сморщивъ лицо, сказалъ Ѳома.
— Дерзай!
— Не хочется… Начнетъ рацеи читать…
— Такъ не ходи!…
— Да нужно…
— А тогда — иди!…
— Ну что ты все балагуришь? — недовольно сказалъ Ѳома. — Будто и въ самомъ дѣлѣ весело ему…
— Мнѣ, ей Богу, весело! — воскликнулъ Ежовъ, спрыгнувъ со стола. — Ка-акъ я вчер-ра одного сударя разпатронилъ въ газетѣ! И потомъ — я слышалъ одинъ мудрый анекдотъ: сидитъ компанія на берегу моря и пространно философствуетъ о жизни. А еврей говоритъ: „Гашпада! И за-ачѣмъ штольки много разнаго шловъ? И я вамъ шкажу все и зразу: жизнь наша не стоитъ ни копейки, какъ это бушующее море!“…
— Э, ну тебя! — сказалъ Ѳома. — Прощай… пойду…
— Валяй! Я сегодня высоко настроенъ и стонать я съ тобой не могу… тѣмъ болѣе, что ты и не стонешь, а хрюкаешь…
Ѳома ушелъ, оставивъ Ежова распѣвающимъ во все горло:
„Барабанъ… самъ-то ты барабанъ…“ — съ раздраженіемъ подумалъ Ѳома, неторопливо выходя на улицу.
У Маякина его встрѣтила Люба. Чѣмъ-то взволнованная и оживленная, она вдругъ явилась предъ нимъ, быстро говоря:
— Ты? Боже мой! Ка-акой ты блѣдный… какъ похудѣлъ… Хорошую, видно, жизнь ведешь!
Потомъ лицо ея исказилось тревогой и она почти шопотомъ воскликнула:
— Ахъ, Ѳома! Ты не знаешь — вѣдь… вотъ! Слышишь? Звонятъ! Можетъ быть — онъ…
И дѣвушка бросилась изъ комнаты, оставивъ за собой въ воздухѣ шелестъ шелковаго платья и изумленнаго Ѳому, не успѣвшаго даже спросить ее, гдѣ отецъ? Яковъ Тарасовичъ былъ дома. Онъ, парадно одѣтый, въ длинномъ сюртукѣ и съ медалями на груди, стоялъ въ дверяхъ, раскинувъ руки и держась ими за косяки. Его зеленые глазки щупали Ѳому, и, почувствовавъ на себѣ ихъ взглядъ, онъ поднялъ голову и встрѣтился съ ними.
— Здравствуйте, господинъ хорошій! — заговорилъ старикъ, укоризненно качая головой. — Откуда изволили прибыть? Кто это жирокъ-то обсосалъ съ васъ? Али — свинья ищетъ, гдѣ лужа, а Ѳома, гдѣ хуже?
— Нѣтъ у васъ другихъ словъ для меня? — угрюмо спросилъ Ѳома, въ упоръ глядя на старика.
И вдругъ онъ увидалъ, что крестный весь вздрогнулъ, ноги его затряслись, глаза учащенно замигали, и руки съ напряженіемъ вцѣпились въ косяки. Ѳома двинулся къ нему, полагая, что старику дурно, но Яковъ Тарасовичъ глухимъ и сердитымъ голосомъ сказалъ:
— Посторонись… отойди…
И лицо его приняло обычное выраженіе…
Ѳома отступилъ назадъ и очутился рядомъ съ какимъ-то невысокимъ и круглымъ человѣкомъ, который, кланяясь Маякину, хриплымъ голосомъ заговорилъ:
— Здравствуйте, папаша!
— Здра-авствуй, Тарасъ Яковлевичъ, здравствуй… — не отнимая рукъ отъ косяковъ, говорилъ и кланялся старикъ, растерянно улыбаясь.
Ѳома растерянно отошелъ въ сторону, сѣлъ въ кресло и, окаменѣвъ отъ любопытства, сталъ смотрѣть широко открытыми глазами на встрѣчу отца съ сыномъ.
Отецъ, стоя въ дверяхъ, раскачивалъ свое хилое тѣло, упираясь руками въ косяки, и, склонивъ голову на бокъ, прищуренными глазами, молча смотрѣлъ на сына. Сынъ стоялъ въ трехъ шагахъ отъ него, высоко поднявъ голову, уже посѣдѣвшую, нахмуривъ брови и глядя на отца большими темными глазами. Черная клинообразная бородка и маленькіе усы вздрагивали на его сухомъ лицѣ, съ хрящеватымъ, какъ у отца, носомъ. И шляпа вздрагивала въ рукѣ у него. Изъ-за его плеча Ѳома видѣлъ блѣдное, испуганное и радостное лицо Любы — она смотрѣла на отца умоляющими глазами, и казалось, сейчасъ она закричитъ. Нѣсколько секундъ всѣ молчали и не двигались, подавленные огромностью того, что ощущали. Молчаніе разрушилъ тихій, странно глухой и дрожащій голосъ Якова Маякина:
— Старенекъ ты, Тарасъ…
Сынъ молча усмѣхнулся въ лицо отцу и быстрымъ взглядомъ окинулъ его съ головы до ногъ.
Отецъ, оторвавъ руки отъ косяковъ, шагнулъ навстрѣчу сыну и — остановился, вдругъ нахмурившись. Тогда Тарасъ Маякинъ однимъ большимъ шагомъ сталъ противъ отца и протянулъ ему руку.
— Ну… поцѣлуемся… — тихо предложилъ отецъ.
Два старика судорожно обвили другъ друга руками, крѣпко поцѣловались и отступили другъ отъ друга. Морщины старшаго вздрагивали, сухое лицо младшаго было неподвижно, почти сурово. Поцѣлуй не измѣнилъ ничего во внѣшней сторонѣ этой сцены, только Любовь радостно всхлипнула, да Ѳома неуклюже завозился на креслѣ, чувствуя, что у него спираетъ дыханіе.
— Эхъ… дѣти… язвы сердца… а не радость его вы… — звенящимъ голосомъ пожаловался Яковъ Тарасовичъ, и должно быть онъ много вложилъ въ эти слова, потому что тотчасъ же послѣ нихъ просіялъ, пріободрился и бойко заговорилъ, обращаясь къ дочери:
— Ну ты, раскисла отъ сладости? Айда-ка собери намъ чего-нибудь… чаю и прочее… Угостимъ что ли блуднаго сына! Ты, чай, старичишка, забылъ, каковъ есть отецъ-то у тебя?
Тарасъ Маякинъ разсматривалъ родителя вдумчивымъ взглядомъ своихъ большихъ глазъ и улыбался, молчаливый, одѣтый въ черное, отчего сѣдые волосы на головѣ и въ бородѣ его выступали рѣзче…
— Ну, садись! Говори — какъ жилъ, что дѣлалъ?… Куда смотришь? А! Это — крестникъ мой… Игната Гордѣева сынъ, Ѳома… Игната помнишь?
— Я все помню, — сказалъ Тарасъ.
— О? Это хорошо… коли не хвастаешь… Ну, женатъ?
— Вдовъ…
— Дѣти есть?
— Померли… двое было…
— Жа-аль… Внуки у меня были бы..
— Я закурю? — спросилъ Тарасъ у отца.
— Вали!… Ишь ты, — сигары куришь…
— А вы не любите ихъ?
— Я? Валяй, все равно мнѣ… Я къ тому, что барственно какъ-то… когда сигара..
— А зачѣмъ нужно ставить себя ниже баръ? — усмѣхаясь сказалъ Тарасъ.
— Да развѣ я ниже ставлю?! — воскликнулъ старикъ. — Я просто такъ сказалъ… смѣшно мнѣ… Этакій солидный старичина, борода по-иностранному, сигара въ зубахъ… Кто такой? Мой сынишка — хе-хе-хе! — Старикъ толкнулъ Тараса въ плечо и отскочилъ отъ него, какъ бы испугавшись, не рано ли онъ радуется, такъ ли, какъ надо, относится къ этому полусѣдому человѣку? И онъ пытливо и подозрительно заглянулъ въ большіе, окруженные желтоватыми припухлостями, глаза сына.
Тарасъ улыбнулся въ лицо отца привѣтливой и теплой улыбкой и задумчиво сказалъ ему:
— Такимъ вотъ я помню васъ… веселымъ и живымъ… Какъ будто вы за эти годы ничуть не измѣнились…
Старикъ гордо выпрямился и, ударивъ себя кулакомъ въ грудь, сказалъ:
— Я — никогда не измѣнюсь!… Потому — надъ человѣкомъ, который себѣ цѣну знаетъ, жизнь не властна! Такъ-то?
— Ого! какой вы гордый…
— Въ сына пошелъ, должно быть! — съ хитрой гримасой молвилъ старикъ. — У меня, братъ, сынъ семнадцать лѣтъ молчалъ изъ гордости…
— Это потому, что отецъ не хотѣлъ его слушать… — напомнилъ Тарасъ.
— Ладно ужъ! Мало ли что было… Богу лишь извѣстно, кто предъ кѣмъ виноватъ… Онъ, справедливый, скажетъ это тебѣ, погоди! А я помолчу… Не время намъ съ тобой объ этомъ теперь разговаривать… Ты вотъ что скажи — чѣмъ ты занимался въ эти годы? Какъ это ты на содовый заводъ попалъ? Въ люди-то какъ выбился?
— Исторія длинная! — вздохнувъ сказалъ Тарасъ и, выпустивъ изо рта огромный клубъ дыма, началъ не торопясь: — Когда я получилъ возможность жить на волѣ, то поступилъ въ контору управляющаго золотыми пріисками Ремезовыхъ…
— Знаю… богатѣйшіе люди! Три брата… всѣхъ знаю! Одинъ — уродъ, другой — дуракъ, а третій — скряга… Говори дальше!…
— Два года прослужилъ у него… а потомъ женился на его дочери… — хрипящимъ голосомъ разсказывалъ Маякинъ.
— Управляющаго-то? Не глупо…
Тарасъ задумался и помолчалъ. Старикъ взглянулъ на его грустное лицо и — понялъ сына.
— Съ женой, значитъ, хорошо жилъ… — сказалъ онъ. — Ну, что жъ? Мертвому — рай, живой дальше играй… Не такъ ужъ ты старъ… Давно овдовѣлъ?
— Третій годъ…
— Такъ… А на соду какъ попалъ?…
— Это заводъ тестя…
— Ага-а! Сколько получаешь?
— Около пяти тысячъ…
— Мм… кусокъ не черствый! Н-да-а! Вотъ-те и каторжникъ!
Тарасъ взглянулъ на отца твердымъ взглядомъ и сухо спросилъ его:
— Кстати — съ чего это вы взяли, что я въ каторгѣ былъ?
Старикъ взглянулъ на сына съ изумленіемъ, которое быстро смѣнилось въ немъ радостью:
— А… какъ же? Не былъ? О, чтобъ вамъ! Стало быть — какъ же? Да ты не обижайся! Развѣ разберешь? Сказано — въ Сибирь! Ну, а тамъ — каторга!…
— Чтобы разъ навсегда покончить съ этимъ, — серьезно и внушительно сказалъ Тарасъ, похлопывая рукой по колѣну, — я скажу вамъ теперь же, какъ все это было. Я былъ сосланъ въ Сибирь на поселеніе на шесть лѣтъ, и все время ссылки жилъ въ Ленскомъ горномъ округѣ… Въ Москвѣ сидѣлъ въ тюрьмѣ около девяти мѣсяцевъ… вотъ и все!
— Та-акъ! Однако… что же это? — смущенно и радостно бормоталъ Яковъ Тарасовичъ.
— А тутъ распустили этотъ нелѣпый слухъ…
— Ужъ подлинно — нелѣпый! — сокрушился старикъ.
— И очень насолили мнѣ однажды…
— Но-о? Неужто?
— Да… Я началъ было свое дѣло… и лишился кредита по милости…
— Тьфу! — озлобленно сплюнулъ Яковъ Маякинъ. — Ахъ, дьяволъ! Поди жъ ты!
Все время внимательно слушая разговоръ Маякиныхъ и упорно разглядывая пріѣзжаго, Ѳома сидѣлъ въ своемъ углу и недоумѣвающе моргалъ глазами. Вспоминая отношеніе Любови къ брату, до извѣстной степени настроенный ея разсказами о Тарасѣ, онъ ожидалъ увидать въ лицѣ его что-то необычное, не похожее на обыкновенныхъ людей. Онъ думалъ, что Тарасъ и говоритъ какъ-нибудь особенно, и одѣвается по-своему, и вообще — не похожъ на людей. А предъ нимъ сидѣлъ солидный, полный человѣкъ, строго одѣтый, со строгими глазами, очень похожій лицомъ на отца и отличавшійся отъ него только сигарой да черной бородкой. Говоритъ онъ кратко, дѣльно, о простыхъ такихъ вещахъ — гдѣ же особенное въ немъ? Вотъ онъ началъ разсказывать отцу о выгодности производства соды… Въ каторгѣ онъ не былъ — наврала Любовь! И Ѳомѣ стало пріятно, когда онъ представилъ себѣ, какъ будетъ говорить съ Любовью объ ея братѣ…
Она не разъ появлялась въ дверяхъ во время разговора отца съ братомъ. Ея лицо сіяло счастьемъ, и глаза съ восторгомъ осматривали черную фигуру Тараса, одѣтаго въ такой особенный, толстый сюртукъ съ карманами на бокахъ и съ большими пуговицами. Она ходила на цыпочкахъ и какъ-то все вытягивала шею по направленію къ брату. Ѳома вопросительно поглядывалъ на нее, но она его не замѣчала, то и дѣло пробѣгая мимо двери съ тарелками и бутылками въ рукахъ.
Случилось такъ, что она заглянула въ комнату какъ разъ въ то время, когда ея братъ говорилъ отцу о каторгѣ. Она замерла на мѣстѣ, держа подносъ въ протянутыхъ рукахъ, и выслушала все, что сказалъ братъ о наказаніи, понесенномъ имъ. Выслушала и — медленно пошла прочь, не уловивъ недоумѣвающе-насмѣшливаго взгляда Ѳомы. Погруженный въ свои соображенія о Тарасѣ, немного обиженный тѣмъ, что никто не обращаетъ на него вниманія, и что Тарасъ съ той поры, какъ при знакомствѣ пожалъ ему руку, еще ни разу не взглянулъ на него, — Ѳома пересталъ на минутку слѣдить за разговоромъ Маякиныхъ, и вдругъ почувствовалъ, что его схватили за плечо. Онъ вздрогнулъ и вскочилъ на ноги, чуть не уронивъ крестнаго, стоявшаго противъ него съ возбужденнымъ лицомъ:
— Вотъ — гляди! Вотъ — человѣкъ! Вотъ что такое Маякинъ! Его кипятили въ семи щелокахъ, изъ него масло жали, а онъ — живъ! И — богатъ! Понялъ? Безъ всякой помощи… одинъ — пробился къ своему мѣсту и — гордъ! Это значитъ — Маякинъ! Маякинъ, значитъ, человѣкъ, который держитъ свою судьбу въ своихъ рукахъ… Понялъ? Учись! Гляди на него!… Въ сотнѣ нѣтъ такого, ищи въ тысячѣ… Что-о? Такъ и знай: Маякина изъ человѣка ни въ чорта, ни въ ангела не перекуешь…
Ошеломленный этимъ буйнымъ натискомъ, Ѳома растерялся и не зналъ, что сказать старику въ отвѣтъ на его шумную похвальбу. Онъ видѣлъ, что Тарасъ, спокойно покуривая свою сигару, смотритъ на отца, и углы его губъ вздрагиваютъ отъ улыбки. Лицо у него снисходительно-довольное, и вся фигура какая-то барски-гордая. Онъ какъ бы забавлялся радостью старика…
А Яковъ Тарасовичъ тыкалъ Ѳому пальцемъ въ грудь и говорилъ:
— Я его, сына родного, не знаю… онъ души своей не открывалъ предо мной… Можетъ между нами такая разница выросла, что ее не токмо орелъ не перелетитъ — чортъ не перелѣзетъ… Можетъ его кровь такъ перекипѣла, что ни запаха отцова нѣтъ ужъ въ ней… но — Маякинъ онъ! И я это чую сразу… Чую и говорю: нынѣ отпущаеши раба Твоего, Владыко!…
Старикъ весь дрожалъ въ лихорадкѣ своего ликованія и точно приплясывалъ, стоя предъ Ѳомой.
— Ну, успокойтесь, батюшка! — сказалъ Тарасъ, неторопливо вставъ со стула и подходя къ отцу. — Зачѣмъ смущать молодого человѣка? Пойдемте, сядемъ…
Онъ небрежно усмѣхнулся Ѳомѣ и, взявъ отца подъ руки, повелъ къ столу…
— Я въ кровь вѣрю! — говорилъ Яковъ Тарасовичъ. — Въ родовую кровь… въ ней вся сила! Отецъ мой, помню, говорилъ мнѣ: Яшка! ты подлинная моя кровь! Вотъ… У Маякиныхъ кровь густая… она переливается отъ отца къ отцу, и никакая баба никогда не разбавитъ ея… А мы выпьемъ шампанскаго! Выпьемъ? Ну и ладно! Говори мнѣ опять… говори про себя… какъ тамъ, въ Сибири?
И снова, точно испуганный и отрезвленный какой-то мыслью, старикъ уставился въ лицо сына испытующими глазами. А черезъ нѣсколько минутъ обстоятельные, но краткіе отвѣты сына опять возбудили въ немъ шумную радость. Ѳома все слушалъ и присматривался, смирно посиживая въ своемъ углу.
— Золотопромышленность, разумѣется, дѣло солидное, — говорилъ Тарасъ спокойно и важно, — но это операція все-таки рискованная и требующая крупнаго капитала… Земля ни слова не говоритъ о томъ, что имѣетъ въ себѣ… Очень выгодно имѣть дѣло съ инородцами… Торговля съ ними, даже поставленная кое-какъ, даетъ огромный процентъ. Это уже совершенно безошибочное предпріятіе… Но — скучное, нужно сказать. Оно не требуетъ большого ума, въ немъ негдѣ развернуться человѣку недюжинному, человѣку крупнаго почина…
Вошла Любовь и пригласила всѣхъ въ столовую. Когда Маякины пошли туда, Ѳома незамѣтно дернулъ Любовь за рукавъ, и она осталась вдвоемъ съ нимъ, торопливо спрашивая его:
— Ты что?
— Ничего… — улыбаясь сказалъ Ѳома. — Хочу спросить тебя — рада?
— Еще бы! — воскликнула Любовь.
— А чему?
— То есть, какъ это?
— Такъ… Чему?
— Странный ты! — удивленно взглянувъ на него, сказала Любовь. — Развѣ не видишь?
— Чего? — насмѣшливо спросилъ Ѳома.
— Фу! Что съ тобой? — безпокойно глядя на него, сказала Люба.
— Э-эхъ ты! — съ презрительнымъ сожалѣніемъ громко протянулъ Ѳома. — Развѣ отъ твоего отца… развѣ въ нашемъ купецкомъ быту родится что-нибудь хорошее? Жди отъ рѣпья малины!… А врала ты мнѣ: Тарасъ такой, Тарасъ сякой… Что въ немъ? Купецъ, какъ купецъ… И брюхо у него купеческое… Хе-хе! — Онъ былъ доволенъ, видя, что дѣвушка, возмущенная его словами, кусаетъ губы то краснѣя, то блѣднѣя.
— Ты… ты, Ѳома… — задыхаясь начала она, и вдругъ, топнувъ ногой, крикнула ему:
— Не смѣй говорить со мной!
На порогѣ комнаты она обернула къ нему гнѣвное лицо и вполголоса, съ силой кинула ему:
— У, ненавистникъ!…
Ѳома засмѣялся. Ему не хотѣлось идти туда за столъ, гдѣ сидятъ трое счастливыхъ людей, живо разговаривая другъ съ другомъ. Онъ слышалъ ихъ веселые голоса, довольный смѣхъ, звонъ посуды и понималъ, что ему, съ его тяжестью на сердцѣ, не мѣсто рядомъ съ ними. И нигдѣ ему нѣтъ мѣста. Если бъ всѣ люди возненавидѣли его, — вотъ какъ Любовь теперь, — ему лучше было бы среди нихъ, — думалъ онъ. Тогда онъ зналъ бы, какъ держать себя съ ними, нашелъ бы, что сказать имъ. А теперь — непонятно: жалѣютъ ли его, смѣются ли надъ нимъ за то, что онъ сбился съ пути и не можетъ ни къ чему приспособиться? Постоявъ одиноко среди комнаты, Ѳома незамѣтно для себя рѣшилъ уйти куда-нибудь изъ этого дома, гдѣ люди радовались, а онъ былъ лишнимъ. Выйдя на улицу, онъ почувствовалъ въ себѣ обиду на Маякиныхъ: все-таки это были единственные на свѣтѣ люди, близкіе ему. Предъ нимъ встало лицо крестнаго, на которомъ дрожащія отъ возбужденія морщины, освѣщаемыя радостнымъ блескомъ его зеленыхъ глазъ, точно сіяли фосфорическимъ свѣтомъ.
„Въ темнотѣ и гнилушка свѣтитъ“, — злостно думалъ онъ. Потомъ ему вспомнилось спокойное и серьезное лицо Тараса и рядомъ съ нимъ напряженно стремящаяся къ нему фигура Любы. Это возбудило въ немъ зависть и — грусть.
„Кто на меня такъ посмотритъ?… Нѣтъ такой души…“ Онъ очнулся отъ своихъ думъ на набережной, у пристаней, разбуженный шумомъ труда. Всюду несли и везли разные вещи и товары; люди двигались спѣшно, озабоченно, понукали лошадей раздражаясь, кричали другъ на друга, наполняли улицу безтолковой суетой и оглушающимъ шумомъ торопливой работы. Они возились на узкой полосѣ вымощенной камнемъ земли, съ одной стороны застроенной высокими домами, а съ другой обрѣзанной крутымъ обрывомъ къ рѣкѣ, и ихъ кипучая возня производила на Ѳому такое впечатлѣніе, какъ будто всѣ они собрались бѣжать куда-то отъ этой работы въ грязи, тѣснотѣ и шумѣ, — собрались бѣжать и спѣшатъ какъ-нибудь скорѣе окончить не додѣланное и не отпускающее ихъ отъ себя. Ихъ уже ждали огромные пароходы, стоя у береговъ и выпуская изъ трубы клубы дыма. Мутная вода рѣки, тѣсно заставленной судами, жалобно и тихо плескалась о берегъ, точно просила дать и ей минутку покоя и отдыха…
— Ваше степенство! — раздался надъ ухомъ Ѳомы хриплый возгласъ. — Пожертвуйте на построеніе косушки!
Ѳома равнодушно взглянулъ на просящаго: это былъ огромный, бородатый дѣтина, босой, въ изорванной рубашкѣ, съ разбитымъ, опухшимъ лицомъ.
— Пошелъ прочь! — пробормоталъ Ѳома, и отвернулся отъ него.
— Купецъ! Умрешь — деньги съ собой не возьмешь — дай на шкаликъ! Аль лѣнь руку въ карманъ сунуть?
Ѳома снова взглянулъ на просящаго: тотъ стоялъ предъ нимъ прикрытый больше грязью, чѣмъ одеждой, и, вздрагивая съ похмелья, настойчиво ждалъ, глядя въ лицо Ѳомы налитыми кровью, опухшими глазами.
— Развѣ такъ просятъ? — сказалъ ему Ѳома.
— Что же — на колѣни предъ тобой изъ-за гривенника стать? — смѣло спросилъ босякъ.
— На! сунулъ ему Ѳома какую-то монету.
— Мерси!… Пятиалтынный… мерси! А если еще пятиалтынный дашь — вплоть до того вонъ кабака на четверенькахъ пройду — желаешь?! — предложилъ босякъ.
— Ну, отстань! — сказалъ Ѳома, отмахиваясь рукой отъ него.
— Была бы честь предложена, а отъ избытка Богъ избавилъ, — сказалъ босякъ и отошелъ въ сторону.
Ѳома смотрѣлъ вслѣдъ ему и думалъ:
„Вѣдь вотъ — погибшій человѣкъ, а смѣлый какой… Милостыню проситъ, какъ долгъ требуетъ… Отчего у такихъ смѣлость?…“
И глубоко вздохнувъ, онъ отвѣтилъ самъ себѣ:
„Отъ свободы… Ничѣмъ человѣкъ не связанъ… чего ему жалѣть? чего бояться? А я чего боюсь? Мнѣ-то чего жаль?“
Эти два вопроса какъ бы толкнули сердце Ѳомы и вызвали въ немъ тупое недоумѣніе. Онъ смотрѣлъ на движеніе трудившихся людей и упорно думалъ: чего ему жаль? чего боится онъ?
„Самому мнѣ, своей силой видно не выйти никуда… такъ дуракомъ и буду болтаться среди людей… на смѣху, да на обидѣ у всѣхъ… Вотъ кабы они меня оттолкнули… возненавидѣли бы… тогда бы… тогда бы — иди на всѣ четыре стороны!… Хошь, не хошь — иди!“
Съ одной изъ пристаней давно уже разносилась по воздуху веселая „дубинушка“. Крючники работали какую-то работу, требовавшую быстрыхъ движеній, и подгоняли къ нимъ запѣвку и припѣвъ.
бойкимъ речитативомъ разсказывалъ запѣвала. Артель дружно подхватывала:
И потомъ басы кидали въ воздухъ твердые звуки:
А теноры вторили имъ:
Ѳома вслушался въ пѣсню и пошелъ къ ней на пристань. Тамъ онъ увидалъ, что крючники, вытянувшись въ двѣ линіи, выкатываютъ на веревкахъ изъ трюма парохода огромныя бочки съ соленой рыбой. Грязные, въ красныхъ рубахахъ съ разстегнутыми воротами, въ рукавицахъ на рукахъ, обнаженныхъ по локоть, они стояли надъ трюмомъ и шутя, весело, съ оживленными работой лицами, дружно, въ тактъ пѣснѣ, дергали веревки. А изъ трюма выносился высокій, смѣющійся голосъ невидимаго запѣвалы:
И артель громко и дружно, какъ одна большая грудь, вздыхала:
Ѳомѣ было пріятно и завидно смотрѣть на эту стройную, какъ музыка, работу. Чумазыя лица крючниковъ свѣтились улыбками, работа была легкая, шла успѣшно, а запѣвала находился въ артистическомъ ударѣ. Ѳомѣ думалось, что хорошо бы вотъ такъ дружно работать съ добрыми товарищами подъ веселую пѣсню, устать отъ работы, выпить стаканъ водки и поѣсть жирныхъ щей, изготовленныхъ дородной и разбитной артельной маткой…
— Проворне, ребята, проворне! — раздался рядомъ съ нимъ непріятный, хриплый голосъ. Ѳома обернулся. Толстый человѣкъ съ огромнымъ животомъ, стукая въ палубу пристани палкой, смотрѣлъ на крючниковъ маленькими глазками и говорилъ:
— Орите поменьше, а работайте поскорѣе…
Лицо и шея у него были облиты потомъ: онъ поминутно вытиралъ его лѣвой рукой и дышалъ такъ тяжело, точно шелъ въ гору.
Ѳома непріязненно посмотрѣлъ на этого человѣка и подумалъ:
„Люди работаютъ, а онъ потѣетъ… А я еще его хуже… какъ ворона на заборѣ… Ни къ чему…“
Изъ каждаго впечатлѣнія у Ѳомы сейчасъ же выдѣлялась колкая мысль объ его неспособности къ жизни. Все, на чемъ останавливалось его вниманіе, имѣло въ себѣ что-то обидное для него, и это обидное кирпичомъ ложилось на грудь ему. Сбоку отъ него, у багажныхъ вѣсовъ стояли два матроса, и одинъ изъ нихъ, коренастый парень съ красной рожей, разсказывалъ товарищу:
— Ка-акъ они на меня бросятся-а! Тутъ, братъ ты мой, и по-ошло! Ихъ четверо — я одинъ! Ну только я не сдался имъ… потому вижу — изобьютъ до смерти! И баранъ дрыгаться будетъ, ежели съ него живого да шкуру драть… Кэ-екъ я рванусь! Сразу они покатились, кто куда…
— А насыпали тебѣ все-таки? — освѣдомился другой матросъ.
— Ка-акъ же! Попало… разовъ пятокъ съѣлъ… Да развѣ за этимъ гонишься? Не убили… ну и спасибо!…
— Это конечно…
— На корму, говорятъ вамъ, дьяволы! — заревѣлъ дикимъ голосомъ потный человѣкъ на двухъ крючниковъ, катившихъ по палубѣ бочку съ рыбой.
— Ты что орешь? — сурово обратился къ нему Ѳома, вздрогнувшій отъ крика.
— А вамъ какое дѣло? — спросилъ тотъ, взглянувъ на Ѳому.
— А такое… Люди работаютъ, а у тебя жиръ таетъ… такъ ты и думаешь, что надо тебѣ орать на нихъ? — подвинувшись къ нему, грозно говорилъ Ѳома.
— Вы… не очень…
Вспотѣвшій человѣкъ какъ-то вдругъ сорвался съ мѣста и ушелъ въ контору. Ѳома поглядѣлъ вслѣдъ ему и тоже пошелъ съ пристани, полный желанія разругаться съ кѣмъ-нибудь, сдѣлать что-либо, чтобы хоть не надолго отвлечь свои мысли отъ себя самого. А онѣ все одолѣвали его:
„Вонъ какъ матросъ-то… рванулся и — цѣлъ!… Н-да-а… А я…“
Вечеромъ онъ снова зашелъ къ Маякинымъ. Старика не было дома, и въ столовой за чаемъ сидѣла Любовь съ братомъ. Подходя къ двери, Ѳома слышалъ сиплый голосъ Тараса:
— Что же заставляетъ отца возиться съ нимъ?
При видѣ Ѳомы онъ замолчалъ, уставившись въ лицо его серьезнымъ, испытующимъ взглядомъ. На лицѣ Любови ясно выразилось смущеніе, и она, недовольно и въ то же время какъ бы извиняясь, сказалъ Ѳомѣ:
— А! Это ты…
„Про меня шла рѣчь“, — сообразилъ Ѳома, подсаживаясь къ столу.
Тарасъ отвелъ отъ него глаза и усѣлся въ кресло поглубже. Съ минуту продолжалось неловкое молчаніе, и оно было пріятно Ѳомѣ.
— Ты на обѣдъ пойдешь? — спросила наконецъ Любовь.
— На какой?…
— Развѣ не знаешь? Кононовъ новый пароходъ освящаетъ… Молебенъ будетъ, а потомъ поѣдутъ вверхъ по Волгѣ…
— Меня не звали, — сказалъ Ѳома.
— Никого не звали… Просто онъ на биржѣ пригласилъ — кому угодно почтить меня, — пожалуйте!
— Мнѣ не угодно…
— Да? Смотри — выпивка будетъ тамъ грандіозная, — искоса взглянувъ на него, сказала Любовь.
— Я и на свои напьюсь, коли захочу…
— Знаю… — выразительно кивнувъ головой, сказала Любовь…
Тарасъ игралъ чайной ложкой, вертя ее между пальцами, и исподлобья поглядывая на нихъ.
— А гдѣ крестный? — спросилъ Ѳома.
— Въ банкъ поѣхалъ… Сегодня засѣданіе правленія… Выборы будутъ…
— Опять его выберутъ…
— Разумѣется…
И снова разговоръ оборвался. Ѳома сталъ слѣдить за братомъ и сестрой. Тарасъ, бросивъ ложку, медленно, большими глотками выпилъ чай, и молча подвинувъ къ сестрѣ стаканъ, улыбнулся ей. Она тоже улыбнулась радостно и счастливо, схватила стаканъ и начала усердно мыть его. Потомъ ея лицо приняло выраженіе напряженное, она вся какъ-то насторожилась и вполголоса, почти благоговѣйно спросила брата:
— Можно возвратиться къ началу разговора?
— Пожалуйста! — кратко разрѣшилъ. Тарасъ.
— Ты сказалъ… я не поняла — какъ это? Я спросила: если все это — утопіи по-твоему, если это невозможно… мечты… то что же дѣлать человѣку, котораго не удовлетворяетъ жизнь, какъ она есть?
Дѣвушка потянулась къ брату всѣмъ тѣломъ, и ея глаза съ напряженнымъ ожиданіемъ остановились на спокойномъ лицѣ брата. Онъ взглянулъ на нее утомленно, повозился на креслѣ и, опустивъ голову, спокойно и внушительно заговорилъ:
— Надо подумать, изъ какого источника является неудовлетворенность жизнью?… Мнѣ кажется, что это, во-первыхъ, отъ неумѣнія трудиться… отъ недостатка уваженія къ труду. И, во-вторыхъ, отъ невѣрнаго представленія о своихъ силахъ… Несчастіе большинства людей въ томъ, что они считаютъ себя способными на большее, чѣмъ могутъ… А между тѣмъ отъ человѣка требуется — не много: онъ долженъ избрать себѣ дѣло по силамъ и дѣлать его какъ можно лучше, какъ можно внимательнѣе… Нужно любить то, что дѣлаешь, и тогда трудъ — даже самый грубый — возвышается до творчества… Стулъ, сдѣланный съ любовью, всегда будетъ хорошій, красивый и прочный стулъ… И такъ — во всемъ… Ты почитай Смайльса — не читала? Очень дѣльная книга… Здоровая книга… Леббока почитай… Вообще попомни, что англичане самая трудоспособная нація, чѣмъ и объясняется ихъ изумительный успѣхъ въ области промышленной и торговой… У нихъ трудъ — почти культъ… Высота культуры всегда стоитъ въ прямой зависимости отъ любви къ труду… А чѣмъ выше культура, тѣмъ глубже удовлетворены потребности людей, тѣмъ менѣе препятствій къ дальнѣйшему развитію потребностей человѣка… Счастіе — возможно полное удовлетвореніе потребностей… Вотъ… И, какъ видишь, счастье человѣку обусловлено его отношеніемъ къ своему труду…
Тарасъ Маякинъ говорилъ такъ медленно и тягуче, точно ему самому было непріятно и скучно говорить. А Любовь, нахмуривъ брови и вытянувшись по направленію къ нему, слушала рѣчь его съ жаднымъ вниманіемъ въ глазахъ, готовая все принять и впитать въ душу свою.
— Ну, а ежели человѣку все противно… — вдругъ густымъ голосомъ заговорилъ Ѳома, взглянувъ въ лицо Тарасу.
— Т.-е. что именно противно человѣку? — спросилъ Маякинъ спокойно и не взглянувъ на Ѳому.
Тотъ наклонилъ голову, уперся руками въ столъ и такъ, быкомъ, продолжалъ изъясняться:
— Все — не по душѣ… Дѣла… труды… Всѣ люди… и дѣйствія… Ежели, скажемъ, я вижу, что все — обманъ… Не дѣло, а такъ себѣ — затычка… Пустоту души затыкаемъ… Одни работаютъ, другіе только командуютъ и потѣютъ… но получаютъ за это больше… Это зачѣмъ же такъ? а?
— Не могу уловить вашу мысль… — заявилъ Тарасъ, когда Ѳома остановился, чувствуя на себѣ пренебрежительный и сердитый взглядъ Любови.
— Не понимаете? — съ усмѣшкой посмотрѣвъ на Тараса, спросилъ Ѳома… — Ну… скажемъ такъ: ѣдетъ человѣкъ въ лодкѣ по рѣкѣ… Лодка, можетъ быть, хорошая, а подъ ней все-таки всегда глубина… Лодка — крѣпкая… но ежели человѣкъ глубину эту темную подъ собой почувствуетъ… никакая лодка его не спасетъ…
Тарасъ смотрѣлъ на Ѳому равнодушно и спокойно. Смотрѣлъ, молчалъ и тихо постукивалъ пальцами по краю стола. Любовь безпокойно вертѣлась на стулѣ. Маятникъ часовъ глухимъ, вздыхающимъ звукомъ отбивалъ секунды. И сердце Ѳомы билось медленно и тяжко, точно чувствуя, что здѣсь никто не откликнется теплымъ словомъ на его тяжелое недоумѣніе.
— Работа — еще не все для человѣка… — говорилъ онъ скорѣе себѣ самому, чѣмъ этимъ людямъ, не вѣрившимъ въ искренность его рѣчей. — Это не вѣрно, что въ трудахъ — оправданіе… Которые люди не работаютъ совсѣмъ ничего всю жизнь, а живутъ они лучше трудящихъ… это какъ? А трудящіе — они просто несчастныя… лошади! На нихъ ѣдутъ, они терпятъ… и больше ничего… Но они имѣютъ предъ Богомъ свое оправданіе… Ихъ спросятъ: вы для чего жили, а? Тогда они скажутъ… намъ некогда было думать насчетъ этого… мы всю жизнь работали. А я какое оправданіе имѣю? И всѣ люди, которые командуютъ, чѣмъ они оправдаются? Для чего жили? А я такъ полагаю, что непремѣнно всѣмъ надо твердо знать — для чего живешь?
Онъ помолчалъ и, вскинувъ голову, воскликнулъ глухимъ голосомъ:
— Неужто затѣмъ человѣкъ рождается, чтобы поработать, денегъ зашибить, домъ выстроить, дѣтей народить и — умереть? Нѣтъ, жизнь что-нибудь означаетъ собой… Человѣкъ родился, пожилъ и померъ… зачѣмъ? Нужно, ей Богу, нужно сообразить всѣмъ — зачѣмъ живемъ? Толку нѣтъ въ жизни нашей… никакого нѣтъ въ ней толку! — Потомъ — не ровно все… это сразу видно. Одни богаты — на тысячу человѣкъ денегъ у себя имѣютъ… и живутъ безъ дѣла… другіе — всю жизнь гнутъ спину на работѣ, а нѣтъ у нихъ ни гроша… А между тѣмъ разница въ людяхъ — малая… Иной — безъ штановъ живетъ, а разсуждаетъ, такъ ровно въ шелки одѣтъ…
Охваченный своими мыслями, Ѳома долго бы излагалъ ихъ, но Тарасъ отодвинулъ свое кресло отъ стола, всталъ и со вздохомъ, негромко произнесъ:
— Нѣтъ, спасибо!… Больше не хочу…
Ѳома круто оборвалъ свою рѣчь и повелъ плечами, съ усмѣшкой взглянувъ на Любовь.
— Откуда это ты набрался такой… философіи? — спросила она недовѣрчиво и сухо.
— Это не философія… Это… такъ ужъ… наказаніе это! — вполголоса сказалъ Ѳома. — Открой глаза и смотри на все… тогда это само въ голову полѣзетъ…
— Вотъ кстати, Люба, обрати вниманіе, — заговорилъ Тарасъ, стоя спиной къ столу и разсматривая часы, — пессимизмъ совершенно чуждъ англо-саксонской расѣ… То, что называютъ пессимизмомъ у Свифта и Байрона, — только жгучій, ѣдкій протестъ противъ несовершенства жизни и человѣка… А холоднаго, разсудочнаго и пассивнаго пессимизма у нихъ не встрѣтишь…
Затѣмъ, какъ бы вдругъ вспомнивъ о Ѳомѣ, онъ обернулся къ нему, заложилъ руки за спину и, дрыгая ляжкой, сказалъ:
— Вы поднимаете очень важные вопросы… И… если они серьезно занимаютъ васъ… вамъ надо почитать книгъ… Въ нихъ вы найдете немало очень цѣнныхъ сужденій о смыслѣ жизни.. Вы какъ — читаете книги?
— Нѣтъ! — кратко отвѣтилъ Ѳома.
— А!…
— Не люблю ихъ…
— Ага!… Но однако онѣ могли бы кое въ чемъ помочь вамъ… — сказалъ Тарасъ, и по губамъ его скользнула улыбка…
— Книги? Если люди помочь мнѣ въ мысляхъ моихъ не могутъ — книги и подавно… — угрюмо проговорилъ Ѳома.
Ему стало скучно и неловко съ этимъ равнодушнымъ человѣкомъ. Онъ хотѣлъ бы уйти, но въ то же время ему хотѣлось сказать Любови что-нибудь обидное объ ея братѣ, и онъ ждалъ, не выйдетъ ли Тарасъ изъ комнаты. Любовь мыла посуду; лицо у нея было сосредоточенно и задумчиво, а руки двигались вяло. Тарасъ, расхаживая по комнатѣ, останавливался предъ горками съ серебромъ, посвистывалъ, щелкалъ пальцами по стеклу и разсматривалъ вещи, прищуривая глаза. Маятникъ часовъ мелькалъ за стекломъ футляра, точно чья-то широкая, ухмыляющаяся рожа, и монотонно отбивалъ секунды… Ѳома, замѣтивъ, что Любовь нѣсколько разъ вопросительно, съ непріязнью и ожиданіемъ взглянула на него, понялъ, что онъ стѣсняетъ ее, и она ждетъ не дождется, когда онъ уйдетъ.
— Я у васъ ночую… — сказалъ онъ, улыбаясь ей. — Надо мнѣ поговорить съ крестнымъ. Да и скучно дома одному…
— Такъ ты поди, скажи Марѳушѣ, чтобъ она приготовила тебѣ постель въ угловой… — торопливо посовѣтовала Любовь.
— Могу…
Онъ всталъ и вышелъ изъ столовой. И тотчасъ же услыхалъ, что Тарасъ негромко спросилъ сестру о чемъ-то.
„Про меня!“ — подумалъ онъ. Вдругъ въ головѣ его мелькнула злая мысль: — „Послушать бы… что скажутъ умные люди…“
Онъ засмѣялся тихонько и, ступая на цыпочки, безшумно прошелъ въ другую комнату, тоже смежную со столовой. Огня тутъ не было, и лишь узкая лента свѣта изъ столовой, проходя сквозь непритворенную дверь, лежала на темномъ полу. Ѳома тихо, съ замираніемъ въ сердцѣ и злорадно усмѣхаясь, подошелъ вплоть къ двери и остановился…
— Тяжелый парень… — говорилъ Тарасъ.
Раздалась пониженная и торопливая рѣчь Любови:
— Онъ тутъ все кутилъ… Безобразничалъ — ужасно! Вдругъ какъ-то началось у него… Сначала избилъ въ клубѣ зятя вице-губернатора. Папаша возился, возился, чтобъ загасить скандалъ, и хорошо еще, что избитый оказался человѣкомъ очень дурной репутаціи… Шулеръ онъ… и вообще — темная личность… Однако слишкомъ двѣ тысячи стоило это отцу… А пока отецъ хлопоталъ по поводу одного скандала, Ѳома чуть не утопилъ цѣлую компанію на Волгѣ.
— Ха-ха! Вотъ чудовище! И онъ же занимается изслѣдованіями о смыслѣ жизни…
— Другой разъ, ѣхалъ на пароходѣ съ компаніей такихъ же, какъ самъ, кутилъ, и вдругъ говоритъ имъ: молитесь Богу! Всѣхъ васъ сейчасъ пошвыряю въ воду! Онъ страшно сильный… Тѣ — кричать… А онъ: хочу послужить отечеству, хочу очистить землю отъ дрянныхъ людей…
— Ну? Это остроумно!
— Ужасный человѣкъ! Сколько онъ натворилъ за эти годы дикихъ выходокъ… Сколько прожилъ денегъ!
— А… скажи — отецъ управляетъ его дѣломъ на какихъ условіяхъ — не знаешь?
— Не знаю! У него полная довѣренность есть… А что?
— Такъ… Солидное дѣло! Разумѣется, поставлено оно на чисто-русскую ногу, т.-е. — отвратительно… И тѣмъ не менѣе — прекрасное дѣло! Оно, если имъ заняться какъ слѣдуетъ, можетъ быть… богатѣйшимъ золотымъ пріискомъ…
— Ѳома совершенно ничего не дѣлаетъ… Все въ рукахъ отца…
— Да? Это прекрасно…
— Знаешь, порой мнѣ кажется, что у Ѳомы это… вдумчивое настроеніе… рѣчи эти — искренни, и что онъ можетъ быть очень… порядочнымъ… Но я не могу помирить его скандальной жизни съ его рѣчами и сужденіями… Никакъ не могу!
— Да и не стоитъ объ этомъ заботиться… Недоросль и лѣнтяй — ищетъ оправданія своей лѣни…
— Нѣтъ, видишь ли, иногда онъ бываетъ… какъ ребенокъ… Особенно раньше бывало..
— Ну, я и сказалъ: недоросль. Стоитъ ли говорить о невѣждѣ и дикарѣ, который самъ хочетъ быть дикаремъ и невѣждой, чего онъ не скрываетъ? Ты видишь: онъ разсуждаетъ такъ же, какъ медвѣдь въ баснѣ оглобли гнулъ…
— Очень ты строгъ…
— Да, я строгъ! Люди этого требуютъ… Мы всѣ, русскіе, отчаянные распустехи… Къ счастью, жизнь слагается такъ, что волей-неволей мы понемножку подтягиваемся… Мечты юношамъ и дѣвамъ, а серьезнымъ людямъ — серьезное дѣло…
— Иногда мнѣ очень жалко Ѳому… Что съ нимъ будетъ?
— Это меня не касается… Я думаю, что ничего не будетъ особеннаго — ни хорошаго, ни дурного… Безалаберный парень… проживетъ деньги, разорится… что же еще? Э, ну его! Такіе, какъ онъ, теперь ужъ рѣдки… Теперь купецъ понимаетъ силу образованія… А онъ, этотъ твой молочный братъ, онъ погибнетъ…
— Вѣрно, баринъ! — сказалъ Ѳома, отворивъ дверь и являясь на порогѣ. Блѣдный, нахмуривъ брови и скрививъ губы, онъ въ упоръ смотрѣлъ на Тараса и глухо говорилъ: — Вѣрно! Пропаду я и — аминь! Скорѣе бы только!
Любовь со страхомъ на лицѣ вскочила со стула и подбѣжала къ Тарасу, спокойно стоявшему среди комнаты, засунувъ руки въ карманы.
— Ѳома! О! Стыдно! Ты подслушивалъ… ахъ, Ѳома! — растерянно говорила она.
— Молчи ты! Овечка… — сказалъ ей Ѳома.
— Н-да, подслушивать у дверей не хорошо-о! — медленно выговорилъ Тарасъ, не спуская съ Ѳомы пренебрежительнаго взгляда.
— Пускай не хорошо! — махнувъ рукой, сказалъ Ѳома. — Али я виноватъ въ томъ, что правду только подслушать можно?
— Уйди, Ѳома! Пожалуйста! — просила Любовь, прижимаясь къ брату.
— Вы, можетъ быть, имѣете что-нибудь сказать мнѣ? — спокойно спросилъ Тарасъ.
— Я? — воскликнулъ Ѳома. — Что я могу сказать? Ничего не могу!… Это вы вотъ — вы, чай, все можете…
— Значитъ, вамъ со мной не о чемъ разговаривать? — снова спросилъ Тарасъ.
— Нѣтъ!
— Это мнѣ пріятно…
Онъ повернулся бокомъ къ Ѳомѣ и спросилъ у Любови:
— Какъ ты думаешь — скоро вернется отецъ?
Ѳома посмотрѣлъ на него и, чувствуя что-то похожее на уваженіе къ этому человѣку, осторожно пошелъ вонъ изъ дома. Ему не хотѣлось идти къ себѣ, въ огромный пустой домъ, гдѣ каждый шагъ его будилъ звучное эхо, и онъ пошелъ по улицѣ, окутанной тоскливо-сѣрыми сумерками поздней осени. Ему думалось о Тарасѣ Маякинѣ.
„Твердый какой… Въ отца… только не такъ суетливъ… Чай, тоже — выжига… А Любка — чуть ли не святымъ его считала… дуреха! Какъ онъ меня отчитывалъ! Судья… А она — добрая ко мнѣ…“
Но всѣ эти мысли не возбуждали въ немъ никакихъ чувствъ — ни обиды противъ Тараса, ни симпатіи къ Любови. Онъ несъ въ себѣ что-то тяжелое и неудобное, непонятное ему. Это выросло въ груди у него, и казалось ему, что его сердце распухло и ноетъ, точно отъ нарыва. Онъ прислушивался къ этой неотвязной и неукротимой боли, отмѣчалъ, что она съ каждымъ часомъ все растетъ, усиливается, и, не зная, чѣмъ укротить ее, тупо ждалъ, чѣмъ она разрѣшится.
Вотъ мимо него промчался рысакъ крестнаго. Ѳома видѣлъ въ пролеткѣ маленькую фигурку Якова Маякина, но и она не возбудила въ немъ ничего. Фонарщикъ пробѣжалъ мимо Ѳомы, обогналъ его, подставилъ лѣстницу къ фонарю и полѣзъ по ней. А она вдругъ поѣхала подъ его тяжестью, и онъ, обнявъ фонарный столбъ, сердито и громко обругался. Какая-то дѣвушка толкнула Ѳому узломъ въ бокъ и сказала:
— Ахъ, извините…
Онъ взглянулъ на нее и ничего не отвѣтилъ. Потомъ съ неба посыпалась изморось, — маленькія, едва видныя капельки сырости заволакивали огни фонарей и окна магазиновъ сѣроватой пылью. Отъ этой пыли стало тяжело дышать…
— Къ Ежову что ли пойти ночевать? Выпить съ нимъ… — подумалъ Ѳома и пошелъ къ Ежову, не имѣя никакого желанія ни видѣть фельетониста, ни пить съ нимъ…
У Ежова на диванѣ сидѣлъ какой-то лохматый парень въ блузѣ и въ сѣрыхъ штанахъ. Лицо у него было темное, точно копченое, глаза большіе, неподвижные и сердитые, надъ толстыми губами торчали щетинистые солдатскіе усы. Сидѣлъ онъ на диванѣ съ ногами, обнявъ ихъ большущими ручищами и положивъ на колѣни подбородокъ. Ежовъ сидѣлъ бокомъ въ креслѣ, перекинувъ ноги черезъ его ручку. Среди книгъ и бумагъ на столѣ стояла бутылка водки и въ комнатѣ пахло чѣмъ-то соленымъ.
— Ты что бродишь? — спросилъ Ежовъ Ѳому и, кивнувъ на него головой, сказалъ человѣку, сидѣвшему на диванѣ: — Гордѣевъ!
Тотъ взглянулъ на вошедшаго и рѣзкимъ, скрипящимъ голосомъ сказалъ:
— Краснощековъ…
Ѳома сѣлъ въ уголъ дивана, объявивъ Ежову:
— Я ночевать пришелъ…
— Ну такъ что? Говори дальше, Василій…
Тотъ искоса взглянулъ на Ѳому и заскрипѣлъ:
— По-моему, вы напрасно наваливаетесь такъ на глупыхъ-то людей… Мазаньелло дуракъ былъ, но то, что надо, исполнилъ въ лучшемъ видѣ. И какой-нибудь Винкельридъ — тоже дуракъ, навѣрно… а однако, кабы онъ не воткнулъ въ себя имперскихъ пикъ, глядишь — швейцарцевъ-то и вздули бы. Мало ли такихъ дураковъ! Но однако — они герои… А умники-то — трусы.. Гдѣ бы ему ударить изо всей силы по препятствію, онъ соображаетъ: а что отсюда выйдетъ? а какъ бы даромъ не пропасть? И стоитъ передъ дѣломъ, какъ колъ… пока не околѣетъ. А дуракъ — онъ храбрый! Прямо лбомъ въ стѣну — хрясь! Разобьетъ башку — ну что жъ? Телячьи головы не дороги… А коли онъ трещину въ стѣнѣ сдѣлаетъ… умники ее въ ворота расковыряютъ, пройдутъ и — честь себѣ припишутъ… Нѣтъ, Николай Матвѣичъ, храбрость дѣло хорошее и безъ ума…
— Василій, ты говоришь глупости! — сказалъ Ежовъ, протягивая къ нему руку.
— А, конечно! — согласился Василій. — Гдѣ мнѣ лаптемъ щи хлебать… А все-таки я не слѣпой… И вотъ вижу: ума много, а толку нѣтъ. Пока умники-то судятъ да рядятъ, какъ бы поумнѣе дѣйствовать, дураки ихъ въ бараній рогъ гнутъ… Только и всего…
— Подожди! — сказалъ Ежовъ.
— Не могу! У меня сегодня дежурство… Я и то, чай, опоздалъ… Я завтра зайду, — можно?
— Валяй! Я тебя разпатроню!
— Такое ваше дѣло…
Василій медленно расправился, всталъ съ дивана, взялъ большой, черной лапой желтую, сухонькую ручку Ежова и тиснулъ ее.
— Прощайте!
Затѣмъ кивнулъ головой Ѳомѣ и бокомъ полѣзъ въ дверь.
— Видалъ? — спросилъ Ежовъ у Ѳомы, указывая рукой на дверь, за которой еще раздавались тяжелые шаги.
— Что за человѣкъ?
— Помощникъ машиниста, Васька Краснощековъ… Вотъ возьми съ него примѣръ: пятнадцати лѣтъ началъ грамотѣ учиться человѣкъ, а въ двадцать восемь прочиталъ, чортъ его знаетъ, сколько хорошихъ книгъ, да два языка изучилъ въ совершенствѣ… За границу вонъ ѣдетъ…
— Зачѣмъ? — спросилъ Ѳома.
— Учиться… посмотрѣть, какъ тамъ люди живутъ… А ты вотъ — киснешь… чего ради?
— Насчетъ дураковъ дѣльно онъ говорилъ! — задумчиво сказалъ Ѳома.
— Не знаю, ибо я — не дуракъ…
— Дѣльно! Тупому человѣку надо сразу дѣйствовать… Навалился, опрокинулъ…
— Пошла писать губернія! — воскликнулъ Ежовъ. — Ты мнѣ лучше вотъ что скажи: правда, что къ Маякину сынъ воротился?
— Правда…
— Та-акъ!..
— А что?
— Ничего!
— А по рожѣ твоей видать, что есть что-то…
— Знаемъ мы этого сына… слышали о немъ…
— А я его видѣлъ…
— Ну? Каковъ?
— А… чортъ его знаетъ! Что мнѣ до него?
— На отца похожъ?
— Толще… круглѣе… серьезности больше… такой онъ… холодный…
— Значитъ, еще хуже Яшки будетъ… Ну, ты, братъ, смотри теперь въ оба! А то они тебя огложутъ…
— Ну и пускай!
— Ограбятъ… нищимъ будешь… Этотъ Тарасъ тестя своего въ Екатеринбургѣ такъ ловко обтяпалъ…
— Пусть и меня обтяпаетъ, коли хочетъ. Я ему за это кромѣ спасиба ни слова не скажу…
— Это ты все о старомъ?
— О немъ…
— Чтобы освободиться?
— Ну, да…
— Брось! На что тебѣ свобода? Что ты будешь съ ней дѣлать? Вѣдь ты ни къ чему не способенъ, безграмотенъ… полѣна дровъ навѣрно не расколешь?! Вотъ если бъ мнѣ освободиться отъ необходимости пить водку и ѣсть хлѣбъ!
Ежовъ вскочилъ на ноги и, ставъ противъ Ѳомы, сталъ говорить высокимъ голосомъ и точно декламируя:
— Я собралъ бы остатки моей истерзанной души и вмѣстѣ съ кровью сердца плюнулъ бы въ рожи нашей интеллег-генціи, чор-ртъ ее побери! Я бъ имъ сказалъ: букашки! вы, лучшій сокъ моей страны! Фактъ вашего бытія оплаченъ кровью и слезами десятковъ поколѣній русскихъ людей, о! гниды! Какъ вы дорого стоите своей странѣ! Что же вы дѣлаете для нея? Превратили ли вы слезы прошлаго въ перлы? Что дали вы жизни? Что сдѣлали? Позволили побѣдить себя? Что дѣлаете? Позволяете издѣваться надъ собой…
Онъ въ ярости затопалъ ногами и, сцѣпивъ зубы, смотрѣлъ на Ѳому горящимъ, злымъ взглядомъ, похожій на освирѣпѣвшее хищное животное.
— Я сказалъ бы имъ: вы! Вы слишкомъ много разсуждаете, но вы мало умны и совершенно безсильны и — трусы всѣ вы! Ваше сердце набито моралью и добрыми намѣреніями, но оно мягко и тепло, какъ перина, духъ творчества спокойно и крѣпко спитъ въ немъ, и оно не бьется у васъ, а медленно покачивается, какъ люлька. Окунувъ перстъ въ кровь сердца моего, я бы намазалъ на ихъ лбахъ клейма моихъ упрековъ, и они, нищіе духомъ, несчастные въ своемъ самодовольствѣ, страдали бы… о, ужъ тогда они страдали бы! Бичъ мой тонокъ, и тверда рука! И я слишкомъ люблю, чтобъ жалѣть! Они страдали бы! А теперь они — не страдаютъ, ибо слишкомъ много, слишкомъ часто и громко говорятъ о своихъ страданіяхъ! Лгутъ! Истинное страданіе молчаливо, а истинная страсть не знаетъ преградъ себѣ!… Страсти, страсти! Когда онѣ возродятся въ сердцахъ людей? Всѣ мы несчастны отъ безстрастія…
Задохнувшись, онъ закашлялся и кашлялъ долго, прыгая по комнатѣ и размахивая руками, какъ безумный. И снова сталъ предъ Ѳомой съ блѣднымъ лицомъ и налившимися кровью глазами. Дышалъ онъ тяжело, губы у него вздрагивали, обнажая мелкіе и острые зубы. Растрепанный, съ короткими волосами на головѣ, онъ походилъ на ерша, выброшеннаго изъ воды… Ѳома не первый разъ видѣлъ его такимъ и, какъ всегда, заражался его возбужденіемъ. Онъ слушалъ кипучую рѣчь маленькаго человѣка молча, не стараясь понять ея смысла, не желая знать, противъ кого она направлена, — глотая лишь одну ея силу. Слова Ежова брызгали на него, какъ кипятокъ, и грѣли его душу.
— Я скажу имъ, этимъ несчастнымъ бездѣльникамъ: смотрите! Жизнь идетъ и оставляетъ васъ сзади себя!
— Эхъ! Здорово! — воскликнулъ Ѳома съ восхищеніемъ и завозился на диванѣ. — Герой ты, Николай! У-у! Валяй ихъ! Сыпь въ глаза прямо!
Но Ежовъ не нуждался въ поощреніи, онъ, казалось, даже не слышалъ восклицаній Ѳомы и продолжалъ:
— Я знаю мѣру силъ моихъ, я знаю — мнѣ закричатъ: молчать! Мнѣ скажутъ: цыцъ! Скажутъ умно, скажутъ спокойно, издѣваясь надо мной, съ высоты величія своего скажутъ… Я знаю — я маленькая птичка, о, я не соловей! Я неучъ по сравненію съ ними, я только фельетонистъ, человѣкъ для потѣхи публики… Пускай кричатъ и оборвутъ меня, пускай! Пощечина упадетъ на щеку, а сердце все-таки будетъ биться! И я скажу имъ: да, я неучъ! И первое мое преимущество предъ вами есть то, что я не знаю ни одной книжной истины, коя для меня была бы дороже человѣка! Человѣкъ есть вселенная, и да здравствуетъ вовѣки онъ, носящій въ себѣ весь міръ! А вы, скажу я, вы ради слова, въ которомъ можетъ быть не всегда и есть содержаніе, понятное вамъ, — вы зачастую ради слова наносите другъ другу язвы и раны, ради слова брызжете другъ на друга желчью, насилуете душу… За это жизнь сурово взыщетъ съ васъ, повѣрьте: разразится буря, и она смететъ и смоетъ васъ съ земли, какъ дождь и вѣтеръ пыль съ дерева! На языкѣ людскомъ есть только одно слово, содержаніе коего всѣмъ ясно и дорого, и когда это слово произносятъ, оно звучитъ такъ: свобода!
— Круши! — взревѣлъ Ѳома, вскочивъ съ дивана и хватая Ежова за плечи. Сверкающими глазами онъ заглядывалъ въ лицо Ежова, наклонясь къ нему, и съ тоской, съ горестью почти застоналъ: — Э-эхъ! Николка… Милый, жаль мнѣ тебя до смерти! Такъ жаль — сказать не могу!
— Что такое? Что ты? — отталкивая его, крикнулъ Ежовъ, удивленный и сбитый съ позиціи неожиданнымъ порывомъ и странными словами Ѳомы.
— Эхъ, братъ! — говорилъ Ѳома, понижая голосъ, отчего онъ становился убѣдительнѣе и гуще. — Живая ты душа… за что пропадаешь?
— Кто? Я? Пропадаю? Врешь!
— Милый! Ничего ты не скажешь никому! Некому! Кто тебя услышитъ? Только я вотъ…
— Пошелъ ты къ чорту! — злобно крикнулъ Ежовъ, отскакивая отъ него, какъ обожженный.
А Ѳома шелъ на него и говорилъ убѣдительно и съ великой грустью:
— Ты говори! Говори мнѣ! Я вынесу твои слова, куда надо… Я ихъ понимаю… И, ахъ, какъ я ожгу людей! Погоди только!… Придетъ мнѣ случай…
— Уйди! — истерически закричалъ Ежовъ, прижавшись спиной къ стѣнѣ подъ напоромъ Ѳомы. Онъ стоялъ растерянный, подавленный, обозленный и отмахивался отъ простертыхъ къ нему рукъ Ѳомы. А въ это время дверь въ комнату отворилась и на порогѣ стала какая-то вся черная женщина. Лицо у нея было злое, возмущенное, щека завязана платкомъ. Она закинула голову, протянула къ Ежову руку и заговорила съ шипѣніемъ и свистомъ:
— Николай Матвѣевичъ! Извините… это невозможно! Звѣрскій вой… ревъ… Каждый день гости… Полиція ходитъ… Нѣтъ, я больше терпѣть не могу! У меня нервы… Извольте завтра очистить квартиру… Вы не въ пустынѣ живете… вокругъ васъ — люди… А еще образованный человѣкъ! Писатель! Всѣмъ людямъ нуженъ покой… У меня зубы… Завтра же прошу васъ… Наклею билетики… заявлю полиціи…
Она говорила быстро, и большая часть ея словъ исчезала въ свистѣ и шипѣніи; выдѣлялись лишь тѣ слова, которыя она выкрикивала визгливымъ, раздраженнымъ голосомъ. Концы платка торчали на головѣ у нея, какъ маленькіе рожки, и тряслись отъ движенія ея челюсти. Ѳома при видѣ ея взволнованной и смѣшной фигуры постепенно началъ отступать къ дивану, а Ежовъ стоялъ и, потирая себѣ лобъ, съ напряженіемъ всматривался и вслушивался въ ея рѣчь…
— Такъ и знайте! — крикнула она, а за дверью еще разъ сказала: — Завтра же! Какое безобразіе…
— Ч-чортъ! — прошепталъ Ежовъ, тупо глядя на дверь.
— Н-да-а! Какая? Строго! — удивленно поглядывая на него, сказалъ Ѳома, и усѣлся на диванъ.
Ежовъ, поднявъ плечи, подошелъ къ столу, налилъ половину чайнаго стакана водки, проглотилъ ее и сѣлъ у стола, низко опустивъ голову. Съ минуту молчали. Потомъ Ѳома робко и негромко сказалъ:
— Какъ все это произошло… глазомъ не успѣли моргнуть и — вдругъ такая раздѣлка… а?
— Ты! — вскинувъ голову, заговорилъ Ежовъ вполголоса, озлобленно и дико глядя на Ѳому. — Ты молчи! Ты… чортъ тебя возьми… Ложись и спи!… Чудовище… Кошмаръ… у!
И онъ погрозилъ Ѳомѣ кулакомъ. Потомъ налилъ еще водки и снова выпилъ…
Черезъ нѣсколько минутъ Ѳома, раздѣтый, лежалъ на диванѣ и сквозь полузакрытые глаза слѣдилъ за Ежовымъ, неподвижно въ изломанной позѣ сидѣвшимъ за столомъ. Онъ смотрѣлъ въ полъ, и губы его тихо шевелились… Ѳома былъ удивленъ — онъ не понималъ, за что разсердился на него Ежовъ? Не за то же, что ему отказали отъ квартиры? Вѣдь онъ самъ кричалъ…
— О дьяволъ… — прошепталъ Ежовъ и заскрипѣлъ зубами.
Ѳома осторожно поднялъ голову съ подушки. Ежовъ, глубоко и шумно вздыхая, снова протянулъ руку къ бутылкѣ… Тогда Ѳома тихонько сказалъ ему:
— Пойдемъ лучше куда-нибудь въ гостиницу… Еще не поздно…
Ежовъ посмотрѣлъ на него и странно засмѣялся, потирая голову руками. Потомъ всталъ со стула и кратко сказалъ Ѳомѣ:
— Одѣвайся!…
И видя, какъ медленно и неуклюже Ѳома заворочался на диванѣ, онъ нетерпѣливо и со злобой закричалъ:
— Ну, скорѣе возись!… Олицетвореніе нелѣпости… оглобля символическая!
— А ты не ругайся! — миролюбиво улыбаясь, сказалъ Ѳома. — Стоитъ ли сердиться изъ-за того, что баба расквакалась?
Ежовъ взглянулъ на него, плюнулъ и рѣзко захохоталъ…
XIII.
— Всѣ ли здѣся? — спросилъ Илья Ефимовичъ Кононовъ, стоя на носу своего новаго парохода и сіяющими глазами оглядывая толпу гостей. — Кажись всѣ!
И поднявъ кверху свое толстое и красное, счастливое лицо, онъ крикнулъ капитану, уже стоявшему на мостикѣ у рупора:
— Отваливай, Петруха!
— Есть!…
Капитанъ обнажилъ огромную лысую голову, истово перекрестился, взглянувъ на небо, провелъ рукой по широкой, черной бородѣ, крякнулъ и скомандовалъ:
— Назадъ!
Гости внимательно и молча прослѣдили за дѣйствіями капитана и, слѣдуя его примѣру, тоже стали креститься, при чемъ ихъ картузы и цилиндры мелькнули въ воздухѣ, какъ стая черныхъ птицъ.
— Благослови-ко, Господи! — умиленно воскликнулъ Кононовъ.
— Отдай кормовую! Впередъ! — командовалъ капитанъ.
Огромный „Илья Муромецъ“ могучимъ вздохомъ выпустилъ въ бортъ пристани густой клубъ бѣлаго пара и плавно, лебедемъ, двинулся противъ теченія.
— Экъ пошелъ! — съ восхищеніемъ сказалъ коммерціи совѣтникъ Лупъ Григорьевъ Рѣзниковъ, человѣкъ высокій, худой и благообразный. — Не дрогнулъ. Какъ барыня въ плясъ!
— Средній ходъ!…
— Не судно — Левіафанъ! — благочестиво вздыхая, молвилъ рябой и сутулый Трофимъ Зубовъ, соборный староста и первый въ городѣ ростовщикъ.
День былъ сѣрый; сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось въ водѣ рѣки и придало ей холодный свинцовый отблескъ. Блистая свѣжестью окраски, пароходъ плылъ по одноцвѣтному фону рѣки огромнымъ, яркимъ пятномъ, и черный дымъ его дыханія тяжелой тучей стоялъ въ воздухѣ, какъ бѣлый, съ розоватыми кожухами и ярко-красными колесами, онъ легко рѣзалъ носомъ холодную воду и разгонялъ ее по берегамъ, а стекла въ круглыхъ окнахъ бортовъ и въ окнахъ рубки ярко блестѣли, точно улыбались самодовольной, торжествующей улыбкой.
— Господа почтенная компанія! — снявъ шляпу съ головы, возгласилъ Кононовъ, низко кланяясь гостямъ. — Какъ теперь мы, такъ сказать, воздали Богу — Богови, то позвольте, дабы музыканты воздали кесарю — кесарево!
И, не ожидая отвѣта гостей, онъ, приставивъ кулакъ ко рту, крикнулъ:
— Музыка! „Славься“ играй!
Военный оркестръ, стоявшій за машиной, грянулъ маршъ.
А Макаръ Бобровъ, директоръ-учредитель мѣстнаго купеческаго банка, сталъ подпѣвать пріятнымъ баскомъ, отбивая тактъ пальцами на своемъ огромномъ животѣ:
— Славься, сла-авься, нашъ руссскій царь — тра-ра-та! Бумъ!
— Прошу, господа, за столъ! Пожалуйте! Чѣмъ Богъ послалъ… хе-хе! Покорнѣйше прошу… — приглашалъ Кононовъ, толкаясь въ тѣсной группѣ гостей.
Ихъ было человѣкъ тридцать, все солидные люди, цвѣтъ мѣстнаго купечества. Тѣ изъ нихъ, которые были постарше, лысые и сѣдые, одѣлись въ старомодные сюртуки, картузы и сапоги бутылками. Но такихъ было немного: преобладали цилиндры, штиблеты и модныя визитки. Всѣ они толпились на носу парохода и постепенно, уступая просьбамъ Кононова, шли на корму, покрытую парусиной, гдѣ стояли столы съ закуской. Лупъ Рѣзниковъ шелъ подъ руку съ Яковомъ Маякинымъ и, наклонясь къ его уху, что-то нашептывалъ ему, а тотъ слушалъ и тонко улыбался. Ѳома, котораго крестный привелъ на торжество послѣ долгихъ увѣщаній, — не нашелъ себѣ товарища среди этихъ непріятныхъ ему людей и одиноко держался въ сторонѣ отъ нихъ, угрюмый и блѣдный. Послѣдніе два дня онъ въ компаніи съ Ежовымъ сильно пилъ, и теперь у него трещала голова съ похмелья. Ему было неловко въ этой солидной и веселой компаніи; гулъ голосовъ, громъ музыки и шумъ парохода — все это раздражало его.
Онъ чувствовалъ настоятельную потребность опохмелиться, и ему не давала покоя мысль о томъ, почему это крестный былъ сегодня такъ ласковъ съ нимъ и зачѣмъ привелъ его сюда, въ компанію этихъ первыхъ въ городѣ купцовъ? Зачѣмъ онъ такъ убѣдительно уговаривалъ и даже упрашивалъ его идти къ Кононову на молебенъ и обѣдъ?
— А ты не дури, пойдемъ-ко! — вспоминалъ Ѳома увѣщанія крестнаго. — Чего дичишься? Характеръ у человѣка отъ природы, а по богатству ты немногихъ ниже… Надо держаться со всѣми вровень… пойдемъ!
— А когда же, папаша, вы со мной серьезно говорить будете? — спрашивалъ Ѳома, слѣдя за игрой лица и зеленыхъ глазъ Якова Тарасовича.
— Это насчетъ освобожденія твоего отъ дѣла? Хе-хе! Поговоримъ… поговоримъ, другъ мой! Чу-удакъ ты… Что же? — въ монастырь пойдешь, имѣніе бросимши? По примѣру святыхъ подвижниковъ?… а?
— Тамъ ужъ… увижу!… — отвѣтилъ Ѳома.
— Такъ… Ну, а пока, до монастыря-то, — ѣдемъ! Сбирайся живо… Потри себѣ вывѣску-то чѣмъ-нибудь мокренькимъ, а то она у тебя очень вспухла. Да окропись одеколономъ, — у Любови возьми, — чтобы не воняло отъ тебя кабакомъ-то… Айда!
Пріѣхавъ на пароходъ во время молебна, Ѳома сталъ въ сторонкѣ и всю службу наблюдалъ за купцами.
Они стояли въ благоговѣйномъ молчаніи; лица ихъ были благочестиво сосредоточены; молились они истово и усердно, глубоко вздыхая, низко кланяясь, умиленно возводя глаза къ небу. А Ѳома смотрѣлъ то на того, то на другого и вспоминалъ то, что ему было извѣстно о нихъ.
Вотъ Лупъ Рѣзниковъ, — онъ началъ карьеру содержателемъ публичнаго дома и разбогатѣлъ какъ-то сразу. Говорятъ, онъ удушилъ одного изъ своихъ гостей, богатаго сибиряка… Зубовъ въ молодости занимался скупкой крестьянской пряжи. Дважды банкротился… Кононовъ лѣтъ двадцать назадъ судился за поджогъ, а теперь тоже состоитъ подъ слѣдствіемъ за разтленіе малолѣтней. Вмѣстѣ съ нимъ — второй уже разъ, по такому же обвиненію — привлеченъ къ дѣлу и Захаръ Кирилловъ Робустовъ, — толстый и низенькій купецъ съ круглымъ лицомъ и веселыми, голубыми глазами… Среди этихъ людей нѣтъ почти ни одного, о которомъ Ѳомѣ не было бы извѣстно чего-нибудь позорнаго.
И онъ зналъ, что всѣ они навѣрное завидуютъ успѣху Кононова, который изъ года въ годъ все увеличиваетъ количество своихъ пароходовъ. Многіе изъ нихъ въ ссорѣ другъ съ другомъ, и всѣ не даютъ пощады другъ другу въ боевомъ, торговомъ дѣлѣ, и всѣ знаютъ другъ за другомъ нехорошіе, нечестные поступки… Но теперь, собравшись вокругъ Кононова, торжествующаго и счастливаго, они слились въ плотную, темную массу и стояли и дышали, какъ одинъ человѣкъ, сосредоточенно-молчаливые и окруженные чѣмъ-то хотя и невидимымъ, но твердымъ, чѣмъ-то такимъ, что отталкивало Ѳому отъ нихъ и возбуждало въ немъ робость предъ ними.
„Обманщики“… — думалъ онъ, ободряя себя.
А они тихонько покашливали, вздыхали, крестились, кланялись и, окруживъ духовенство плотной стѣной, стояли непоколебимо и твердо, какъ большіе, черные камни.
„Притворяются!“ — восклицалъ про-себя Ѳома. А стоявшій о бокъ съ нимъ горбатый и кривой Павлинъ Гущинъ, не такъ давно пустившій по міру дѣтей своего полоумнаго брата, проникновенно шепталъ, глядя единственнымъ глазомъ въ тоскливое небо:
— „Го-осподи! Да не яростію Твоею обличиши мене… ниже гнѣвомъ Твоимъ накажеши мене…“
И Ѳома чувствовалъ, что человѣкъ этотъ взываетъ къ Богу съ непоколебимой, глубочайшей вѣрой въ милость Его.
— „Господи Боже отецъ нашихъ, заповѣдавый Ною, рабу Твоему, устроити кивотъ ко спасенію міра…“ — густымъ басовымъ голосомъ говорилъ священникъ, возводя глаза къ небу и простирая вверхъ руки: — „И сей корабль соблюди и даждь ему ангела блага, мирна… хотящія плыти на немъ сохрани…“
Купечество единодушно, широкими взмахами рукъ осѣняло груди свои знаменіемъ креста, и на всѣхъ лицахъ выражалось одно чувство — вѣры въ силу молитвы…
Всѣ эти картины врѣзались въ память Ѳомы и возбудили въ немъ недоумѣніе предъ людьми, которые, умѣя твердо вѣрить въ милость Бога, были такъ жестки къ человѣку. Онъ упорно слѣдилъ за ними, желая уловить ихъ фальшь, убѣдиться въ ихъ лжи…
Его злила ихъ солидная стойкость, эта единодушная увѣренность въ себѣ, торжествующія лица, громкіе голоса, смѣхъ. Они уже усѣлись за столы, уставленные закусками, и плотоядно любовались огромнымъ, чуть не въ сажень длиной, осетромъ, красиво осыпаннымъ зеленью и крупными раками. Трофимъ Зубовъ, подвязывая салфетку, счастливыми, сладко-прищуренными глазами смотрѣлъ на чудовищную рыбу и говорилъ сосѣду, мукомолу Іонѣ Юшкову:
— Іона Никифорычъ! Гляди — китъ! Вполнѣ для твоей особы футляромъ можетъ быть… а? Ха-ха! Какъ нога въ сапогъ влѣзешь, а? Хе-хе!
Маленькій и кругленькій Іона осторожно протягивалъ коротенькую руку къ серебряному ушату со свѣжей икрой, жадно чмокалъ губами и косилъ глазами на бутылки предъ собой, боясь опрокинуть ихъ.
Противъ Кононова, на козлахъ стоялъ полуведерный боченокъ со старой водкой, выписанной имъ изъ Польши; въ огромной раковинѣ, окованной серебромъ, лежали устрицы и выше всѣхъ яствъ возвышался какой-то разноцвѣтный паштетъ, сдѣланный въ видѣ башни.
— Господа! Прошу! Кто чего желаетъ! — кричалъ Кононовъ. — У меня все сразу пущено… что кому по душѣ… Русское наше, родное — и чужое, иностранное… все сразу! Этакъ-то лучше… Кто чего желаетъ? Кто хочетъ улитокъ, ракушекъ этихъ — а? Изъ Индіи, говорятъ…
А Зубовъ говорилъ своему сосѣду, Маякину:
— Молитва „Во еже устроити корабль“ къ буксирному и рѣчному пароходу не подходяща, т.-е. не то — не подходяща, а одной ея мало… Рѣчной пароходъ, какъ есть, — онъ мѣсто постояннаго жительства команды, долженъ быть приравненъ къ дому… Стало быть, потребно окромя молитвы „Во еже устроити корабль“ — читать еще молитву на основаніе дома… Ты чего выпьешь однако?
— Я человѣкъ не винный, налей мнѣ водочки тминной… — отвѣтилъ Яковъ Тарасовичъ.
Ѳома, усѣвшись на концѣ стола, среди какихъ-то неизвѣстныхъ ему робкихъ и скромныхъ людей, то и дѣло чувствовалъ на себѣ острые взгляды старика.
„Боится, что наскандалю…“ — думалъ Ѳома.
— Братцы! — хрипѣлъ безобразно толстый пароходчикъ Ящуровъ. — Я безъ селедки не могу! Я обязательно отъ селедки начинаю… у меня такая природа…
— Музыка! Вали „Персидскій маршъ“…
— Стой! лучше — „Коль славенъ“…
— Дуй „Коль славенъ“…
Вздохи машины и шумъ пароходныхъ колесъ, слившись со звуками музыки, образовали въ воздухѣ нѣчто похожее на дикую пѣсню зимней вьюги. Свистъ флейты, рѣзкое пѣніе кларнетовъ, угрюмое рычаніе басовъ, дробь маленькаго барабана и гулъ ударовъ въ большой, — все это падало на монотонный и глухой звукъ колесъ, разбивающихъ воду, мятежно носилось въ воздухѣ, поглощало шумъ людскихъ голосовъ и неслось за пароходомъ, какъ ураганъ, заставляя людей кричать во весь голосъ. Иногда въ машинѣ раздавалось злое шипѣніе пара, и въ этомъ звукѣ, неожиданно врывавшемся въ хаосъ гула, воя и криковъ, было что-то раздраженное и презрительное…
— А что ты вексель отказался мнѣ учесть — этого я по гробъ не забуду! — кричалъ кто-то неистовымъ голосомъ.
— Бу-удетъ! развѣ здѣсь счетамъ мѣсто? — раздавался басъ Боброва.
— Братцы! Надо рѣчи говорить!
— Музыка — цыцъ!
— Ты приди ко мнѣ въ банкъ, я тебѣ и объясню, почему не учелъ…
— Рѣчь! Тише…
— Му-узыка, переста-ать!
— „Во лузяхъ“ играй…
— Мадамъ Англу!…
— Не надо! Яковъ Тарасычъ — просимъ!
— Это называется — страсбурскій пирогъ…
— Просимъ! Просимъ!
— Пирогъ? Н-не похоже… ну, все-таки я поѣмъ…
— Тарасычъ! Дѣйствуй…
— Братцы мои! Весело! Ей Богу…
— А въ „Прекрасной Еленѣ“ она, голубчикъ, выходила совсѣмъ почти голенькая… — вдругъ прорвался сквозь шумъ тонкій и умиленный голосъ Робустова.
— Погоди! Іаковъ Исава — надулъ? Ага!
— Не могу! Языкъ у меня не молотъ, а самъ я не молодъ…
— Яша! Всѣ просимъ!…
— Уважь!
— Въ головы выберемъ!…
— Тарасычъ! Не ломайся!
— Шш! Тише! Господа! Яковъ Тарасовичъ скажетъ слово!
— Шш!
И какъ разъ въ то время, когда шумъ замолкъ, раздался чей-то громкій, негодующій шопотъ:
— Ка-акъ он-на меня, шельма, ущипнетъ…
А Бобровъ спросилъ громкимъ басомъ:
— 3-за к..какое мѣсто?
Грянулъ хохотъ, но скоро умолкъ, ибо Яковъ Тарасовичъ Маякинъ, вставши на ноги, откашливался и, поглаживая лысину, осматривалъ купечество ожидающимъ вниманія, серьезнымъ взглядомъ.
— Ну, братцы, разѣвай уши! — съ удовольствіемъ крикнулъ Кононовъ.
— Господа купечество! — заговорилъ Маякинъ усмѣхаясь. — Есть въ рѣчахъ образованныхъ и ученыхъ людей одно иностранное слово, „культура“ называемое. Такъ вотъ насчетъ этого слова я и побесѣдую по простотѣ души…
— Экъ куда метнулъ! — раздался чей-то довольный возгласъ.
— Шш! Смирно!…
— Милостивые государи! — повысивъ голосъ, говорилъ Маякинъ. — Въ газетахъ про насъ, купечество, то и дѣло пишутъ, что мы-де съ этой культурой не знакомы, мы-де ее не желаемъ и не понимаемъ. И называютъ насъ дикими, некультурными людьми… Что же это такое — культура? Обидно мнѣ, старику, слушать этакія рѣчи, и занялся я однажды разсмотрѣніемъ слова — что оно въ себѣ заключаетъ?
Маякинъ замолчалъ, обвелъ глазами публику и, торжествующе усмѣхнувшись, раздѣльно продолжалъ:
— Оказалось, по розыску моему, что слово это значитъ обожаніе, т.-е. любовь, высокую любовь къ дѣлу и порядку жизни. Такъ! — подумалъ я, — такъ! — Значитъ — культурный человѣкъ тотъ будетъ, который любитъ дѣло и порядокъ… который вообще — жизнь любитъ устраивать, жить любитъ, цѣну себѣ и жизни знаетъ… Хорошо! — Яковъ Тарасовичъ вздрогнулъ; морщины разошлись по лицу его лучами отъ улыбающихся глазъ къ губамъ, и вся его лысая голова стала похожа на какую-то темную звѣзду.
Купечество молча и внимательно смотрѣло ему въ ротъ, и всѣ лица были напряжены вниманіемъ. Люди такъ и замерли въ тѣхъ позахъ, въ которыхъ ихъ застала рѣчь Маякина.
— Но, коли такъ, — а именно такъ, — надо толковать это слово, — коли такъ, то — люди, называющіе насъ некультурными и дикими, клевещутъ и изрыгаютъ на насъ хулу! Ибо они только слово это любятъ, но не смыслъ его, а мы любимъ самый корень слова, любимъ сущую его начинку, мы — дѣло любимъ! Мы-то и имѣемъ въ себѣ настоящій культъ къ жизни, т.-е. обожаніе жизни, а не они! Они сужденіе возлюбили, — мы же дѣйствіе… И вотъ, господа купечество, примѣръ нашей культуры, т.-е. любви къ дѣлу, — Волга! Вотъ она, родная наша матушка! Она можетъ каждой каплей воды своей утвердить нашу честь и опровергнуть пустую хулу на насъ… Сто лѣтъ только прошло, государи мои, съ той поры, какъ императоръ Петръ Великій на рѣку эту расшивы пустилъ, а теперь по рѣкѣ тысячи паровыхъ судовъ ходятъ… Кто ихъ строилъ? Русскій мужикъ, совершенно неученый человѣкъ! Всѣ эти огромные пароходищи, баржи — чьи они? Наши! Кѣмъ удуманы? Нами! Тутъ все — наше, тутъ все — плодъ нашего ума, нашей русской смѣтки и великой любви къ дѣлу! Никто ни въ чемъ не помогалъ намъ! Мы сами разбои на Волгѣ выводили, сами на свои рубли дружины нанимали — вывели разбои и завели на Волгѣ, на всѣхъ тысячахъ верстъ длины ея тысячи пароходовъ и разныхъ судовъ. Какой лучшій городъ на Волгѣ? Въ которомъ купца больше… Чьи лучшіе дома въ городѣ? Купеческіе! Кто больше всѣхъ о бѣдномъ печется? Купецъ! По грошику-копеечкѣ собираетъ, сотни тысячъ жертвуетъ. Кто храмы воздвигъ? Мы! Кто государству больше всѣхъ денегъ даетъ? Купцы!… Господа! Только намъ дѣло дорого ради самого дѣла, ради любви нашей къ устройству жизни, только мы и любимъ порядокъ и жизнь! А кто про насъ говоритъ — тотъ говоритъ… и больше ничего! Пускай! Дуетъ вѣтеръ — шумитъ ветла, пересталъ — молчитъ ветла… И не выйдетъ изъ ветлы ни оглобли, ни метлы… безполезное дерево! Отъ безполезности и шумъ… Что они, судьи наши, сдѣлали, чѣмъ жизнь украсили? Намъ это неизвѣстно… А наше дѣло налицо! Господа купечество! Видя въ васъ первыхъ людей жизни, самыхъ трудящихся и любящихъ труды свои, видя въ васъ людей, которые все сдѣлали и все могутъ сдѣлать, — вотъ я всѣмъ сердцемъ моимъ, съ уваженіемъ и любовью къ вамъ поднимаю этотъ свой полный бокалъ — за славное, крѣпкое духомъ, рабочее русское купечество… Многая вамъ лѣта! Здравствуйте во славу матери Россіи! Ура-а!
Рѣзкій, дребезжащій крикъ Маякина вызвалъ оглушительный, восторженный ревъ купечества. Всѣ эти крупныя мясистыя тѣла, возбужденныя виномъ и рѣчью старика, задвигались и выпустили изъ грудей такой дружный, массивный крикъ, что, казалось, все вокругъ дрогнуло и затряслось.
— Яковъ! Труба ты Божія! — кричалъ Зубовъ, протягивая свой бокалъ Маякину.
Опрокидывая стулья, толкая столъ, при чемъ посуда и бутылки звенѣли и падали, купцы лѣзли на Маякина съ бокалами въ рукахъ, возбужденные, радостные, иные со слезами на глазахъ.
— А? Что это сказано? — спрашивалъ Кононовъ, схвативъ за плечо Робустова и потрясая его. — Ты — пойми! Великая сказана рѣчь!
— Яковъ Тарасовичъ! Дай — облобызаю!
— Качать Маякина!
— Музыка, играй…
— Тушъ! Маршъ… Персидскій…
— Не надо музыку! Къ чорту!
— Тутъ вотъ она, музыка! Эхъ, Яковъ Тарасовичъ! Го-олова!
— Малъ бѣхъ во братіи моей… но ума имамы…
— Врешь, Трофимъ!
— Яковъ! Умрешь ты скоро… эхъ, жаль! Такъ жаль… нельзя сказать!
— Ну, какія же это будутъ похороны!
— Господа! Оснуемъ капиталъ имени Маякина! Кладу тыщу!
— Молчать! Погодите!
— Господа! — весь вздрагивая, снова началъ говорить Яковъ Тарасовичъ. — И еще потому мы есть первые люди жизни и настоящіе хозяева въ своемъ отечествѣ, что мы — мужики!
— Вѣр-рно!
— Такъ! М-мать честная! Ну, старикъ!
— Стойте! Дай сказать…
— Мы — коренные русскіе люди, и все, что отъ насъ, — коренное русское! Значитъ, оно-то и есть самое настоящее… самое полезное и обязательное…
— Какъ дважды два!
— Просто.
— Мудръ яко, змій!
— И кротокъ, яко…
— Ястребъ! Ха-ха!
Купцы окружили своего оратора тѣснымъ кольцомъ, маслеными глазами смотрѣли на него и уже не могли отъ возбужденія спокойно слушать его рѣчи. Вокругъ него стоялъ гулъ голосовъ и, сливаясь съ шумомъ машины, съ ударами колесъ по водѣ, образовалъ вихрь звуковъ, заглушавшій дребезжащій голосъ старика. Возбужденіе купечества росло; на всѣхъ лицахъ сіяло торжество; къ Маякину тянулись руки съ бокалами; его хлопали по плечу, толкали, цѣловали, умильно заглядывали въ лицо ему. И кто-то въ восторгѣ визжалъ:
— Кам-маринскаго! Русскую!…
— Это мы все сдѣлали! — кричалъ Яковъ Тарасовичъ, указывая на рѣку. — Наше все! Мы жизнь строили!
Вдругъ раздался громкій возгласъ, покрывшій всѣ звуки:
— А! Это вы? Ахъ вы…
И вслѣдъ затѣмъ въ воздухѣ отчетливо раздалось площадное ругательство, произнесенное съ великой злобой глухимъ, но сильнымъ голосомъ. Всѣ сразу услыхали его и на секунду — замолчали, отыскивая глазами того, кто обругалъ ихъ. Въ эту секунду были слышны только тяжелые вздохи машины да скрипъ рулевыхъ цѣпей…
— Это кто лается? — спросилъ Кононовъ, нахмуривъ брови…
— Эхъ! Не можемъ не безобразить! — сокрушенно вздыхая, произнесъ Рѣзниковъ.
— Кто это зря выругался?…
Лица купцовъ отражали тревогу, любопытство, удивленіе, укоризну, и всѣ люди какъ-то безтолково замялись. Только одинъ Яковъ Тарасовичъ былъ спокоенъ и даже какъ будто доволенъ происшедшимъ. Поднявшись на носки, онъ смотрѣлъ, вытянувъ шею, куда-то на конецъ стола, и глазки его странно блестѣли, точно тамъ онъ видѣлъ что-то пріятное для себя.
— Гордѣевъ… — тихо сказалъ Іона Юшковъ…
И всѣ головы поворотились по тому направленію, куда смотрѣлъ Яковъ Маякинъ.
Тамъ, упираясь руками въ столъ, стоялъ Ѳома. Съ лицомъ, искаженнымъ злобой, оскаливъ зубы, онъ молча оглядывалъ купечество горящими, широко раскрытыми глазами. Нижняя челюсть у него тряслась, плечи вздрагивали, и пальцы рукъ, крѣпко вцѣпившись въ край стола, судорожно царапали скатерть. При видѣ его по-волчьи злого лица и этой гнѣвной позы купечество вновь замолчало на секунду.
— Что вытаращили зенки? — спросилъ Ѳома и вновь сопроводилъ вопросъ свой крѣпкимъ ругательствомъ.
— Упился! — качнувъ головой, сказалъ Бобровъ.
— И зачѣмъ его пригласили? — тихо шепталъ Рѣзниковъ.
— Ѳома Игнатьевичъ! — степенно заговорилъ Кононовъ. — Безобразить не надо… Ежели… тово… голова кружится — поди, братъ, тихо, мирно въ каюту и — лягъ! Лягъ, милый, и…
— Цыцъ, ты! — зарычалъ Ѳома, поводя на него глазами. — Не смѣй со мной говорить! Я не пьянъ… я всѣхъ трезвѣе здѣсь! Понялъ?…
— Да ты погоди-ка, душа… тебя кто звалъ сюда? — покраснѣвъ отъ обиды, спросилъ Кононовъ.
— Это я его привелъ! — раздался голосъ Маякина…
— А! Ну, тогда… конечно… Извините, Ѳома Игнатьевичъ… Но какъ ты его, Яковъ, привелъ… тебѣ его и укротить надо… А то — нехорошо…
Ѳома молчалъ и улыбался. И купцы молчали, глядя на него.
— Эхъ, Ѳомка! — заговорилъ Маякинъ. — Опять ты позоришь старость мою…
— Папаша крестный! — оскаливая зубы, сказалъ Ѳома. — Я еще ничего не сдѣлалъ, значитъ рано мнѣ рацеи читать… Я не пьянъ… я не пилъ, а все слушалъ… Господа купцы! Позвольте мнѣ рѣчь держать? Вотъ уважаемый вами мой крестный говорилъ… а теперь крестника послушайте…
— Какія рѣчи? — сказалъ Рѣзниковъ. — Зачѣмъ разговоры? Сошлись повеселиться…
— Нѣтъ ужъ, ты оставь, Ѳома Игнатьевичъ…
— Лучше выпей чего-нибудь…
— Выпьемъ-ко! Ахъ, Ѳома… славнаго ты отца сынъ!
Ѳома оттолкнулся отъ стола, выпрямился и все улыбаясь слушалъ ласковыя, увѣщевающія рѣчи. Среди этихъ солидныхъ людей онъ былъ самый молодой и красивый. Стройная фигура его, обтянутая сюртукомъ, выгодно выдѣлялась изъ кучи жирныхъ тѣлъ съ толстыми животами. Его смуглое лицо съ большими глазами было правильнѣе и свѣжѣе обрюзглыхъ, красныхъ рожъ, стоявшихъ противъ него съ выраженіемъ ожиданія и недоумѣнія. Онъ выпятилъ грудь впередъ, стиснулъ зубы и, распахнувъ полы сюртука, сунулъ руки въ карманы…
— Лестью да лаской вы мнѣ теперь рта не замажете! — сказалъ онъ твердо и съ угрозой. — Будете слушать или нѣтъ, а я говорить буду… Выгнать здѣсь меня некуда…
Онъ качнулъ головой и, приподнявъ плечи, объявилъ спокойно:
— Но ежели кто пальцемъ тронетъ — убью! Клянусь Господомъ Богомъ… сколько смогу — убью!
Толпа людей, стоявшихъ противъ него, колыхнулась, какъ кусты подъ вѣтромъ. Раздался тревожный шопотъ. Лицо Ѳомы потемнѣло, глаза стали круглыми…
— Ну, говорилось тутъ, что вы это жизнь дѣлали — и что вы сдѣлали самое настоящее и вѣрное…
Ѳома глубоко вздохнулъ и съ невыразимой ненавистью осмотрѣлъ лица слушателей, вдругъ какъ-то странно надувшіяся, точно они вспухли… Купечество молчало, все плотнѣе прижимаясь другъ къ другу. Въ заднихъ рядахъ кто-то бормоталъ:
— Насчетъ чего онъ? А? П-по писанію, али отъ ума?
— О, с-сволочи! — воскликнулъ Гордѣевъ, качая головой. — Что вы сдѣлали? Не жизнь вы сдѣлали — тюрьму… Не порядокъ вы устроили — цѣпи на человѣка выковали… Душно, тѣсно, повернуться негдѣ живой душѣ… Погибаетъ человѣкъ!… Душегубы вы… Понимаете ли, что только терпѣніемъ человѣческимъ вы живы?
— Это что же такое? — воскликнулъ Рѣзниковъ, въ негодованіи и гнѣвѣ всплескивая руками. — Илья Ефимовъ? Что такое? Я такихъ рѣчей слышать не могу…
— Гордѣевъ! — закричалъ Бобровъ. — Смотри — ты говоришь неладно…
— За такія рѣчи ой-ой-ой! — внушительно сказалъ Зубовъ.
— Цыцъ! — взревѣлъ Ѳома, и глаза у него налились кровью. — Захрюкали…
— Господа! — зазвучалъ, какъ скрипъ подпилка по желѣзу, спокойно-зловѣщій голосъ Маякина. — Не троньте его!… Покорнѣйше прошу… не препятствуйте… Пусть полаетъ… пусть его потѣшится… Отъ его словъ вы не изломитесь…
— Ну, нѣтъ, покорно благодарю! — крикнулъ Юшковъ.
А рядомъ съ Ѳомой стоялъ Смолинъ и шепталъ ему въ ухо:
— Перестаньте, голубчикъ! Что вы, съ ума сошли? Они васъ…
— Пошелъ прочь! — твердо сказалъ Ѳома, блеснувъ на него гнѣвными глазами. — Иди вонъ къ Маякину, лижи его… авось кусокъ перепадетъ!
Смолинъ свистнулъ сквозь зубы и отошелъ въ сторону. И купечество одинъ за другимъ стало расходиться по пароходу. Это еще болѣе раздражило Ѳому: онъ хотѣлъ бы приковать ихъ къ мѣсту своими словами и — не находилъ въ себѣ такихъ сильныхъ словъ.
— Вы сдѣлали жизнь? — крикнулъ онъ. — Кто вы? Мошенники, грабители…
Нѣсколько человѣкъ обернулось къ Ѳомѣ, точно онъ ихъ позвалъ.
— Кононовъ! Скоро тебя за дѣвочку судить будутъ? Въ каторгу осудятъ… прощай, Илья! Напрасно пароходы строишь… Въ Сибирь на казенномъ повезутъ…
Кононовъ опустился на стулъ; лицо его налилось кровью, и онъ молча погрозилъ кулакомъ. Ѳома хрипло сказалъ:
— Ладно… хорошо… я этого не-е забуду…
Ѳома увидѣлъ его искаженное лицо съ трясущимися губами и понялъ, какимъ оружіемъ и сильнѣе всего онъ ударитъ этихъ людей.
— Ха-ха-ха! Строители жизни! Гущинъ — подаешь ли милостыню племяшамъ-то? Подавай хоть по копейкѣ въ день… не мало — шестьдесятъ семь тысячъ укралъ ты у нихъ… Бобровъ! Зачѣмъ на любовницу навралъ, что обокрала она тебя, и въ тюрьму ее засадилъ? Коли надоѣла — сыну бы отдалъ… все равно, онъ теперь съ другой твоей шашни завелъ… А ты не зналъ? Эхъ, свинья толстая… ха-ха! А ты, Лупъ — открой опять веселый домъ, да и лупи тамъ гостей, какъ липки… Потомъ тебя черти облупятъ, ха-ха!… Съ такой благочестивой рожей хорошо мошенникомъ быть!… Кого ты убилъ тогда, Лупъ?
Ѳома говорилъ, прерывая рѣчь свою злораднымъ, громкимъ хохотомъ, и видѣлъ, что слова его хорошо дѣйствуютъ на этихъ людей. Прежде, когда онъ держалъ рѣчь ко всѣмъ имъ, они отвертывались отъ него, отходили въ сторону, собирались въ группы и издали смотрѣли на своего обличителя презрительными и злыми глазами. Онъ видѣлъ улыбки на ихъ лицахъ, онъ чувствовалъ въ каждомъ ихъ движеніи что-то пренебрежительное и понималъ, что слова его хотя и злятъ ихъ, но не задѣваютъ такъ глубоко, какъ бы ему хотѣлось. Все это охлаждало его гнѣвъ, и уже въ немъ зарождалось горькое сознаніе неудачи своего нападенія на нихъ… Но какъ только онъ заговорилъ о каждомъ отдѣльно, — отношеніе слушателей къ нему быстро и рѣзко измѣнилось.
Когда Кононовъ грузно сѣлъ на стулъ, точно не выдержавъ тяжести суровыхъ словъ Ѳомы, — Ѳома замѣтилъ, что на лицахъ нѣкоторыхъ изъ купцовъ мелькнули ѣдкія и злыя улыбки. Онъ услышалъ чей-то одобрительный и удивленный шопотъ:
— Вотъ — здо-орово!
Этотъ шопотъ придалъ силы Ѳомѣ, и онъ съ увѣренностью, страстно началъ швырять упреки, насмѣшки и ругательства въ тѣхъ, кто попадался ему на глаза. Онъ радостно рычалъ, видя, какъ дѣйствуютъ его слова. Его слушали молча, внимательно; нѣсколько человѣкъ подвинулись поближе къ нему.
Раздавались протестующія восклицанія, но не громкія, краткія, и каждый разъ, когда Ѳома выкрикивалъ чье-либо имя, — всѣ молчали и слушали и злорадно, искоса поглядывали въ сторону обличаемаго товарища.
Бобровъ смущенно смѣялся, но его маленькіе глазки сверлили Ѳому, какъ буравчики. А Лупъ Рѣзниковъ, взмахивая руками, неуклюже подпрыгивалъ и, задыхаясь, говорилъ:
— Будьте свидѣтелями… Что такое? Нѣ-ѣтъ! Я этого не прощу! Я къ мировому… Что такое? — И вдругъ тонкимъ голосомъ завизжалъ, протянувъ къ Ѳомѣ руки:
— Связать его!…
Ѳома хохоталъ.
— Правду не свяжешь, врешь! Она и связанная не онѣмѣетъ…
— Хо-орошо! — тянулъ Кононовъ глухимъ, надорваннымъ голосомъ.
— Вотъ, господа купечество! — звенѣлъ Маякинъ. — Прошу полюбоваться — вотъ онъ каковъ!
Купцы одинъ за другимъ подвигались къ Ѳомѣ, и на лицахъ ихъ онъ видѣлъ гнѣвъ, любопытство, злорадное чувство удовольствія, боязнь… Кто-то изъ тѣхъ скромныхъ людей, среди которыхъ онъ сидѣлъ, шепталъ Ѳомѣ:
— Такъ ихъ!.. Дай вамъ, Господи… Валяйте ихъ! Это зачтется…
— Робустовъ! — кричалъ Ѳома. — Что смѣешься? Чему радъ? Быть и тебѣ на каторгѣ…
— Ссадить его на берегъ! — вдругъ заоралъ Робустовъ, вскакивая на ноги.
А Кононовъ кричалъ капитану:
— Назадъ! Въ городъ! Къ губернатору…
И кто-то внушительно, дрожащимъ отъ волненія голосомъ говорилъ:
— Это подстроено… Это нарочно… Научили его… напоили для храбрости…
— Нѣтъ, это бунтъ!
— Вяжи его! Просто — вяжи его!
Ѳома схватилъ бутылку изъ-подъ шампанскаго и взмахнулъ ею въ воздухѣ.
— Суньтесь-ка! Нѣтъ, ужъ видно придется вамъ послушать меня…
Онъ снова съ веселой яростью, обезумѣвшій отъ радости при видѣ того, какъ корчились и метались эти люди подъ ударами его рѣчей, началъ выкрикивать имена и площадныя ругательства, и снова негодующій шумъ сталъ тише. Люди, которыхъ не зналъ Ѳома, смотрѣли на него съ жаднымъ любопытствомъ, одобрительно, нѣкоторые даже съ радостнымъ удивленіемъ. Одинъ изъ нихъ, маленькій, сѣдой старичокъ съ розовыми щеками и мышиными глазками, вдругъ обратился къ обиженнымъ Ѳомой купцамъ и сладкимъ голосомъ пропѣлъ:
— Это — отъ совѣсти слова! Это — ничего! Надо претерпѣть… Пророческое обличеніе… Вѣдь грѣшны! Вѣдь, правду надо говорить, о-очень мы…
На него зашипѣли, а Зубовъ даже толкнулъ его въ плечо. Онъ поклонился низко и — исчезъ въ толпѣ…
— Зубовъ! — кричалъ Ѳома. — Сколько ты людей по міру пустилъ? Снится ли тебѣ Иванъ Петровъ Мякинниковъ, что удавился изъ-за тебя? Правда ли, что каждую обѣдню ты изъ церковной кружки десять цѣлковыхъ крадешь?
Зубовъ не ожидалъ нападенія и замеръ на мѣстѣ съ поднятой кверху рукой. Но потомъ онъ завизжалъ тонкимъ голосомъ, странно подскочивъ на мѣстѣ:
— А! Ты и меня? И-и меня?
И вдругъ, надувши щёки, онъ съ яростью началъ грозить кулакомъ Ѳомѣ, визгливымъ голосомъ возглашая:
— Р-рече без-зумецъ въ сердцѣ своемъ — нѣсть Богъ!… Къ архіерею поѣду! Фармазонъ! Каторга тебѣ!
Суматоха на пароходѣ росла, и Ѳома при видѣ этихъ озлобленныхъ, растерявшихся, обиженныхъ имъ людей чувствовалъ себя сказочнымъ богатыремъ, избивающимъ чудовищъ. Они суетились, размахивали руками, говорили что-то другъ другу — одни красные отъ гнѣва, другіе блѣдные, всѣ одинаково безсильные остановить потокъ его издѣвательствъ надъ ними.
— Матросовъ! — кричалъ Рѣзниковъ, дергая Кононова за плечо. — Что ты, Илья? А? Пригласилъ насъ на посмѣяніе?
— Противъ одного щенка… — визжалъ Зубовъ.
Около Якова Тарасовича Маякина собралась толпа и слушала его тихую рѣчь со злобой и утвердительно кивая головами.
— Дѣйствуй, Яковъ! — громко говорилъ Робустовъ. — Мы всѣ свидѣтели… валяй!
И надъ общимъ гуломъ голосовъ раздавался громкій, карающій голосъ Ѳомы:
— Вы не жизнь строили — вы помойную яму сдѣлали! Грязищу и духоту развели вы дѣлами своими. Есть у васъ совѣсть? Помните вы Бога? Пятакъ — вотъ вашъ Богъ! А совѣсть вы прогнали… Куда вы ее прогнали? Кровопійцы! Чужой силой живете… чужими руками работаете! За все это заплатите вы!… Издыхать будете — все зачтется вамъ! Все — до капельки слезъ… сколько народу кровью плакало отъ великихъ дѣлъ вашихъ? И въ аду вамъ, сволочамъ, мѣста нѣтъ по заслугамъ вашимъ… Не въ огнѣ, а въ грязи кипящей варить васъ будутъ. Вѣками не избудете мученій… Бросятъ черти васъ въ котлы и нальютъ туда… ха-ха-ха! нальютъ! ха-ха-ха! Почтенное купечество… строители жизни… о дьяволы!…
Ѳома залился громкимъ хохотомъ и, схватившись за бока, закачался на ногахъ, высоко вскинувъ голову.
Въ этотъ моментъ нѣсколько человѣкъ быстро перемигнулись, сразу бросились на Ѳому и сдавили его своими тѣлами. Началась возня…
— По-опалъ! — произнесъ кто-то задыхающимся голосомъ.
— А-а? Вы такъ? — хрипло крикнулъ Ѳома.
Съ полминуты цѣлая куча черныхъ тѣлъ возилась на одномъ мѣстѣ, тяжело топая ногами, и изъ нея раздавались глухіе возгласы:
— Вали его наземь!…
— Руку держите… руку! О-ой…
— За-а бороду?
— Салфетки дай… вяжи салфетками…
— Кус-саться?!
— Та-акъ! Что? Ага-а!
— Не бей! Не смѣй бить…
— Готовъ!…
— Здоровый!…
— Отнесемъ его сюда… къ борту…
— На вѣтерокъ… хе-хе!
Ѳому волокомъ оттащили къ борту и, положивъ его къ стѣнкѣ капитанской каюты, отошли отъ него, оправляя костюмы и вытирая потныя лица. Онъ, утомленный борьбой и обезсиленный позоромъ своего пораженія, лежалъ молча, оборванный, выпачканный въ чемъ-то, крѣпко связанный по рукамъ и ногамъ салфетками и полотенцами. Налитыми кровью, круглыми глазами онъ смотрѣлъ на небо, взглядъ его былъ тупъ и тусклъ, какъ у идіота, а грудь вздымалась неровно и тяжело…
Теперь настала очередь издѣваться надъ нимъ. Началъ Зубовъ. Онъ подошелъ къ нему, потолкалъ его ногою въ бокъ и сладкимъ голосомъ, весь вздрагивая отъ наслажденія мстить, спросилъ:
— Что, пророкъ громоподобный, ась? Ну-ка восчувствуй сладость плѣна вавилонскаго, хе-хе-хе!
— Погоди… — хрипящимъ голосомъ сказалъ Ѳома, не глядя на него. — Погоди… отдохну… Языка вы мнѣ не связали… — Но говоря это, Ѳома уже понималъ, что больше онъ ничего не можетъ ни сдѣлать, ни сказать. И не потому не можетъ, что связали его, а потому, что сгорѣло въ немъ что-то, и темно, пусто стало въ душѣ…
Къ Зубову подошелъ Рѣзниковъ. Потомъ одинъ за другимъ стали приближаться другіе… Бобровъ, Кононовъ и еще нѣсколько человѣкъ съ Яковомъ Маякинымъ впереди ушли въ рубку, озабоченно и негромко разговаривая о чемъ-то.
Пароходъ на всѣхъ парахъ шелъ къ городу. Отъ сотрясенія его корпуса на столахъ дрожали и звенѣли бутылки, и этотъ дребезжащій жалобный звукъ былъ слышенъ Ѳомѣ яснѣе всего. Надъ нимъ стояла толпа людей и говорила ему злыя, обидныя вещи.
Но лица этихъ людей Ѳома видѣлъ какъ сквозь туманъ, и слова ихъ не задѣвали его сердца. Въ немъ, изъ глубины его души, росло какое-то большое, горькое чувство; онъ слѣдилъ за его ростомъ и хотя еще не понималъ его, но уже ощущалъ что-то тоскливое, что-то унизительное…
— Ты подумай, — шарлатанъ ты! — что ты надѣлалъ съ собой? — говорилъ Рѣзниковъ. — Какая теперь жизнь тебѣ возможна? Вѣдь теперь никто изъ насъ плюнуть на тебя не захочетъ!
— Что я сдѣлалъ? — старался понять Ѳома. Купечество стояло вокругъ него сплошной темной массой…
— Н-ну, — сказалъ Ящуровъ, — теперь, Ѳомка, твое дѣло кончено…
— М-мы тебя… — тихо промычалъ Зубовъ.
— Развяжите! — сказалъ Ѳома.
— Ну, нѣтъ! Покорнѣйше благодаримъ!
— Развяжите…
— Ладно! Полежишь и такъ…
— Позовите крестнаго…
Но Яковъ Тарасовичъ самъ пришелъ въ это время. Подошелъ, остановился надъ Ѳомой, пристально, суровыми глазами оглядѣлъ его вытянутую фигуру и — тяжело вздохнулъ.
— Ну, Ѳома… — заговорилъ онъ.
— Велите развязать меня… — тихо, убитымъ голосомъ попросилъ Ѳома.
— Опять буянить будешь? Нѣтъ ужъ, полежи такъ… — отвѣтилъ ему крестный.
— Я больше слова не скажу… клянусь Богомъ! Развяжите… стыдно мнѣ! Христа ради… вѣдь я не пьяный… Ну, не развязывайте рукъ…
— Божишься, что не будешь буянить? — спросилъ Маякинъ.
— О Господи! Не буду… не буду… — простоналъ Ѳома.
Ему развязали ноги, но руки оставили связанными. Когда онъ поднялся, то посмотрѣлъ на всѣхъ и съ жалкой улыбкой сказалъ тихонько:
— Ваша взяла…
— Всегда возьметъ! — отвѣтилъ ему крестный, сурово усмѣхаясь.
Ѳома, согнувшись, съ руками связанными за спиной, молча пошелъ къ столу, не поднимая глазъ ни на кого. Онъ сталъ ниже ростомъ и похудѣлъ. Растрепанные волосы падали ему на лобъ и виски; разорванная и смятая грудь рубахи высунулась изъ-подъ жилета, и воротникъ закрывалъ ему губы. Онъ вертѣлъ головой, чтобъ сдвинуть воротникъ подъ подбородокъ, и — не могъ сдѣлать этого. Тогда сѣденькій старичокъ подошелъ къ нему, поправилъ, что нужно, съ улыбкой взглянулъ ему въ глаза и сказалъ:
— Надо претерпѣть…
Теперь, при Маякинѣ, люди, издѣвавшіеся надъ Ѳомой, — молчали, вопросительно и съ любопытствомъ поглядывая на старика и ожидая отъ него чего-то. Онъ былъ спокоенъ, но глаза у него поблескивали какъ-то несообразно событію, — довольно, свѣтло…
— Дайте водки мнѣ… — попросилъ Ѳома, усѣвшись за столъ и опершись о край его грудью. Его согнутая фигура была жалка и безпомощна. Вокругъ него говорили вполголоса, ходили съ какой-то осторожностью. И всѣ поглядывали то на него, то на Маякина, усѣвшагося противъ него. Старикъ не сразу далъ водки крестнику. Сначала онъ пристально осмотрѣлъ его, потомъ неторопясь налилъ рюмку и наконецъ, молча, поднесъ ее къ губамъ Ѳомы. Ѳома высосалъ водку и попросилъ:
— Еще!
— Будетъ!… — отвѣтилъ Маякинъ.
И вслѣдъ затѣмъ наступила тяжелая для всѣхъ минута полнаго молчанія. Къ столу подходили безшумно, на цыпочкахъ и, подойдя, вытягивали шеи, чтобъ увидать Ѳому.
— Ну, Ѳомка, понимаешь ты теперь, что надѣлалъ? — спросилъ Маякинъ. Говорилъ онъ тихо, но всѣ слышали его вопросъ.
Ѳома качнулъ головой и промолчалъ.
— Прощенья тебѣ — нѣтъ! — продолжалъ Маякинъ твердо и повышая голосъ. — Хотя всѣ мы — христіане, но прощенья тебѣ не будетъ отъ насъ… Такъ и знай…
Ѳома поднялъ голову и задумчиво сказалъ:
— А про васъ, папаша, я забылъ… Ничего вы не услышали отъ меня…
— Вотъ-съ! — съ горечью вскричалъ Маякинъ, указывая рукой на крестника. — Видите?
Раздался глухой протестующій ропотъ.
— Ну, да все равно! — со вздохомъ продолжалъ Ѳома. — Все равно! Ничего… никакого толку не вышло…
И онъ снова согнулся надъ столомъ.
— Чего ты хотѣлъ? — спросилъ крестный сурово.
— Чего? — Ѳома поднялъ голову, посмотрѣлъ на купцовъ и усмѣхнулся. — Хотѣлъ ужъ…
— Пьяница! Мерзецъ!
— Я — не пьянъ! — угрюмо возразилъ Ѳома. — Я всего выпилъ двѣ рюмки… Я совсѣмъ трезвый былъ…
— Стало быть, — сказалъ Бобровъ, — твоя правда, Яковъ Тарасовичъ: не въ умѣ онъ…
— Я? — воскликнулъ Ѳома.
Но на него не обратили вниманія. Рѣзниковъ, Зубовъ и Бобровъ наклонились къ Маякину и тихо начали о чемъ-то говорить.
„Опека…“ — уловилъ Ѳома одно слово…
— Я въ умѣ! — сказалъ онъ, откидываясь на спинку стула и глядя на купцовъ мутными глазами. — Я понимаю, чего хотѣлъ. Хотѣлъ сказать правду… Хотѣлъ обличить васъ…
Его вновь охватило волненіе, и онъ вдругъ дернулъ руки, пытаясь освободить ихъ.
— Э-э! Погоди! — воскликнулъ Бобровъ, хватая его за плечи. — Придержите-ка его.
— Ну, держите! — съ тоской и горечью сказалъ Ѳома. — Держите… А на что я вамъ?
— Сиди смирно! — сурово крикнулъ ему крестный.
Ѳома замолчалъ. Онъ уже понялъ, что все, что онъ сдѣлалъ, — ни къ чему не повело, что его рѣчи не пошатнули купцовъ. Вотъ они окружаютъ его плотной толпой, и ему даже не видно ничего изъ-за нихъ. Они спокойны, тверды, относятся къ нему, какъ къ пьяницѣ и буяну, и что-то замышляютъ противъ него. Онъ чувствовалъ себя жалкимъ, ничтожнымъ, раздавленнымъ этой темной массой крѣпкихъ духомъ, умныхъ и солидныхъ людей… Ему казалось, что съ той поры, какъ онъ ругалъ ихъ, прошло уже много времени, такъ много, что онъ самъ себѣ казался теперь какимъ-то чужимъ и непонимающимъ того, что онъ сдѣлалъ этимъ людямъ и зачѣмъ сдѣлалъ. Онъ даже чувствовалъ въ себѣ обидное что-то, похожее на стыдъ за себя предъ собой. У него першило въ горлѣ, и въ груди онъ чувствовалъ что-то постороннее — точно какая-то пыль или пепелъ осыпалъ сердце его, и оно билось тяжело, неровно. Желая объяснить свой поступокъ себѣ самому, онъ медленно и раздумчиво говорилъ, не глядя ни на кого:
— Хотѣлъ сказать правду… Развѣ это жизнь?
— Дуракъ! — презрительно сказалъ Маякинъ. — Какую ты можешь сказать правду? Что ты понимаешь?
— У меня сердце изболѣло… я понимаю! Какое всѣ вы имѣете передъ Богомъ оправданіе? Для чего живете? Нѣтъ, я чувствую… я правду чувствовалъ!
— Кается! — сказалъ Рѣзниковъ съ усмѣшкой.
— Пускай его! — пренебрежительно отозвался Бобровъ.
Кто-то добавилъ:
— И по рѣчамъ его очень видно, что помутился онъ разумомъ…
— Правду говорить — не всякому дано! — сурово и поучительно заговорилъ Яковъ Тарасовичъ, поднявъ руку кверху. Ее, правду, не сердцемъ, а умомъ ловятъ… понимаешь ты это? Ежели ты почувствовалъ — это пустяки! И корова чувствуетъ, когда ей хвостъ ломаютъ. А ты — пойми! Все пойми! И врага пойми… Ты догадайся, о чемъ онъ во снѣ думаетъ, тогда и валяй!
По обыкновенію Маякинъ увлекся было изложеніемъ своей практической философіи, но во-время понявъ, что побѣжденнаго бою не учатъ, остановился. Ѳома тупо посмотрѣлъ на него и странно закачалъ головой…
— Баранъ! — сказалъ Маякинъ.
— Отстань отъ меня! — жалобно попросилъ Ѳома. — Все ваше! Ну — чего еще вамъ? Ну, смяли… разбили… такъ меня и надо! Кто я? О Господи!…
Всѣ внимательно прислушивались къ его рѣчамъ, и въ этомъ вниманіи было что-то предубѣжденное, зловѣщее…
— Жилъ я, — говорилъ Ѳома глухимъ голосомъ. — Смотрѣлъ… Думалъ. Нарвало у меня въ сердцѣ отъ думъ! И вотъ — прорвался нарывъ… Теперь я — обезсилѣлъ совсѣмъ! Точно вся кровь вытекла… До этого дня жилъ… все-таки думалъ, что… вотъ, молъ, правду скажу… Ну, сказалъ…
Онъ говорилъ однотонно, безцвѣтно, и рѣчь его походила на бредъ…
— Сказалъ… и только себя опустошилъ… больше ничего! Никакого знака не осталось отъ моихъ рѣчей… Все цѣло!… А во мнѣ — вспыхнуло… сгорѣло и — нѣтъ ничего больше… На что теперь надѣяться?… И все — какъ было, такъ и осталось…
Яковъ Тарасовичъ ѣдко засмѣялся.
— Что же, — ты думалъ языкомъ гору слизать? Накопилъ злобы на клопа, а пошелъ на медвѣдя? Такъ что ли? Юродивый!… Отецъ бы твой видѣлъ тебя теперь… эхъ!
— А все-таки, — вдругъ увѣренно и громко сказалъ Ѳома, и вновь глаза его вспыхнули, — все-таки — ваша во всемъ вина! Вы испортили жизнь! Вы все стѣснили… отъ васъ удушье… отъ васъ! И хоть слаба моя правда противъ васъ… а все-таки — правда! Вы — окаянные! Будь вы прокляты всѣ…
Онъ забился на стулѣ, пытаясь освободить руки, и закричалъ, свирѣпо сверкая глазами:
— Развяжите руки!
Его окружили тѣснѣе; лица купцовъ стали строже, и Рѣзниковъ внушительно сказалъ ему:
— Не шуми, не буянь! Скоро въ городѣ будемъ… Не срамись… да и насъ не срами… Не прямо же съ пристани — въ сумасшедшій домъ тебя?
— Да-а?! — воскликнулъ Ѳома. — Такъ вы меня въ сумасшедшій до-омъ?
Ему не отвѣтили. Онъ посмотрѣлъ на ихъ лица и поникъ головой.
— Веди себя смирно!… развяжемъ!… — сказалъ кто-то.
— Не надо! — тихо заговорилъ Ѳома. — Все равно… Наплевать! Ничего не будетъ…
И рѣчь его снова приняла характеръ бреда.
— Я пропалъ… знаю! Только не отъ вашей силы… а отъ своей слабости… да! Вы тоже черви передъ Богомъ… И — погодите! Задохнетесь… Я пропалъ — отъ слѣпоты… Я увидалъ много и ослѣпъ… Какъ сова… Мальчишкой, помню… гонялъ я сову въ оврагѣ… она полетитъ и треснется обо что-нибудь… Солнце ослѣпило ее… Избилась вся и — пропала… А отецъ тогда сказалъ мнѣ: вотъ такъ и человѣкъ: иной мечется, мечется, изобьется, измучится и бросится куда попало… лишь бы отдохнуть… Эй! развяжите мнѣ руки…
Лицо его поблѣднѣло, глаза закрылись, плечи задрожали. Оборванный и измятый, онъ закачался на стулѣ, ударяясь грудью о край стола, и сталъ что-то шептать.
Купечество многозначительно переглядывалось. Иные, толкая другъ друга подъ бока, молча кивали головами на Ѳому. Лицо Якова Маякина было неподвижно и темно, точно высѣченное изъ камня.
— Можетъ, развязать? — шепталъ Бобровъ.
— Вотъ ужъ поближе подъѣдемъ…
— Нѣтъ, не надо… — вполголоса сказалъ Маякинъ. — Оставимъ его здѣсь… а кто-нибудь пусть пошлетъ за каретой… Прямо въ больницу…
— А гдѣ мнѣ отдохнуть? — вновь забормоталъ Ѳома. — Куда я кинусь? — И онъ замеръ въ изломанной, неудобной позѣ, весь искривившись, съ выраженіемъ боли на лицѣ…
Маякинъ всталъ съ мѣста и пошелъ къ рубкѣ, тихо сказавъ:
— Постерегите… какъ бы, чего добраго, въ воду не прыгнулъ…
— А жалко парня… — сказалъ Бобровъ, посмотрѣвъ вслѣдъ Якову Тарасовичу.
— Никто въ дурости его неповиненъ… — хмуро отвѣтилъ Рѣзниковъ.
— Яковъ-то… — кивнувъ головой вслѣдъ Маякину, шопотомъ сказалъ Зубовъ.
— Что Яковъ? Онъ тутъ не проигралъ…
— Н-да-а… онъ теперь… хе-хе…
— Опечетъ… хе-хе-хе!
Ихъ тихій смѣхъ и шопотъ сливались со вздохами машины и должно быть не достигали до слуха Ѳомы. Онъ неподвижно смотрѣлъ предъ собой тусклымъ взглядомъ, и только губы у него чуть вздрагивали…
— Сынъ къ нему явился… — шепталъ Бобровъ.
— Я его знаю, сына-то, — сказалъ Ящуровъ. — Встрѣчалъ въ Перми…
— Что за человѣкъ?
— Дѣловой… умный парень…
— Ну?
— Большимъ орудуетъ дѣломъ въ Усольѣ…
— Стало быть — этотъ Якову не нуженъ… Н-да… вонъ оно что!
— Глядите — плачетъ!
— О?
Ѳома сидѣлъ, откинувшись на спинку стула и склонивъ голову на плечо. Глаза его были закрыты и изъ-подъ рѣсницъ одна за другой выкатывались слезы. Онѣ текли по щекамъ на усы… Губы Ѳомы судорожно вздрагивали и слезы падали съ усовъ на грудь. Онъ молчалъ и не двигался, только грудь его вздымалась тяжело и неровно. Купцы посмотрѣли на блѣдное, страдальчески осунувшееся, мокрое отъ слезъ лицо его съ опущенными книзу углами губъ и тихо, молча стали отходить прочь отъ него…
И вотъ Ѳома остался одинъ со связанными за спиной руками предъ столомъ, покрытымъ грязной посудой и разными остатками пира. Порой онъ медленно открывалъ тяжелыя опухшія рѣсницы, и глаза его сквозь слезы, тускло и уныло смотрѣли на столъ, гдѣ все было грязно, опрокинуто, разрушено…
•••
Прошло года три.
Съ годъ тому назадъ Яковъ Тарасовичъ Маякинъ умеръ. Умирая въ полномъ сознаніи, онъ остался вѣренъ себѣ и за нѣсколько часовъ до смерти говорилъ сыну, дочери и зятю:
— Ну, ребята, — живите богато! Поѣлъ Яковъ всякихъ злаковъ, значитъ Якову пора долой со двора… Видите — умираю, а не унываю… И это мнѣ Господь зачтетъ… Я Его, Всеблагого, только шутками безпокоилъ, а стономъ и жалобами — никогда! Охъ!… Господи! Радъ я, что умѣючи пожилъ… по милости Твоей! Прощайте, дѣтушки… Живите дружно… и не мудрствуйте очень-то. Знайте — не тотъ святъ, кто отъ грѣха прячется да спокойненько лежитъ… Трусостью отъ грѣха не оборонишься… про это и говоритъ притча о талантахъ… А кто хочетъ отъ жизни толку добиться — тотъ грѣха не боится… Ошибку Господь ему проститъ… Господь назначилъ человѣка на устроеніе жизни… а ума ему не такъ ужъ много далъ… значитъ, строго искать недоимокъ не станетъ… Ибо святъ Онъ и многомилостивъ…
Умеръ онъ послѣ краткой, но очень мучительной агоніи…
Ежова за что-то выслали изъ города, вскорѣ послѣ происшествія на пароходѣ.
Въ городѣ возникъ новый крупный торговый домъ подъ фирмой „Тарасъ Маякинъ и Африканъ Смолинъ“…
За всѣ три года о Ѳомѣ не слышно было ничего. Говорили, что послѣ выхода изъ больницы Маякинъ отправилъ его куда-то на Уралъ къ родственникамъ матери.
Недавно Ѳома явился на улицахъ города. Онъ какой-то истертый, измятый и полоумный. Почти всегда выпивши, онъ появляется — то мрачный, съ нахмуренными бровями и съ опущенной на грудь головой, то улыбающійся жалкой и грустной улыбкой блаженненькаго. Иногда онъ буянитъ, но это рѣдко случается. Живетъ онъ у сестры на дворѣ, во флигелькѣ…
Знающіе его купцы и горожане часто смѣются надъ нимъ. Идетъ Ѳома по улицѣ, и вдругъ кто-нибудь кричитъ ему:
— Эй ты, пророкъ! Подь сюда!
Ѳома очень рѣдко подходитъ къ зовущему его, — онъ избѣгаетъ людей и не любитъ говорить съ ними. Но если онъ подойдетъ, — ему говорятъ:
— Ну-ка, насчетъ свѣтопреставленія скажи слово, а? Хе-хе-хе! Про-орокъ!
☆☆☆
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.