Рудинъ
Романъ въ ХІІ главахъ съ эпилогомъ
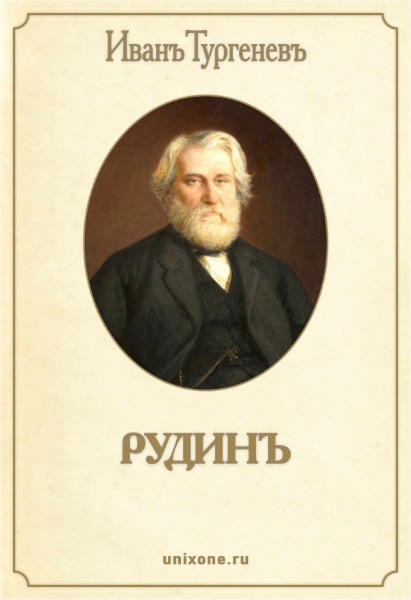
І.
Было тихое лѣтнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистомъ небѣ, но поля еще блестѣли росой; изъ недавно проснувшихся долинъ вѣяло душистой свѣжестью, и въ лѣсу, еще сыромъ и не шумномъ, весело распѣвали раннія птички. На вершинѣ пологаго холма, сверху до низу покрытаго только-что зацвѣтшею рожью, виднѣлась небольшая деревенька. Къ этой деревенькѣ, по узкой проселочной дорожкѣ, шла молодая женщина, въ бѣломъ кисейномъ платьѣ, круглой соломенной шляпѣ и съ зонтикомъ въ рукѣ. Казачекъ издали слѣдовалъ за ней.
Она шла не торопясь, и какъ бы наслаждаясь прогулкой. Кругомъ, по высокой, зыбкой ржи, переливаясь то серебристо-зеленой, то красноватой рябью, съ мягкимъ шелестомъ бѣжали длинныя волны; въ вышинѣ звенѣли жаворонки. Молодая женщина шла изъ собственнаго своего села, отстоявшаго не болѣе версты отъ деревеньки, куда она направляла путь; звали ее Александрой Павловной Липиной. Она была вдова, бездѣтна и довольно богата, жила вмѣстѣ съ своимъ братомъ, отставнымъ штабсъ-ротмистромъ Сергѣемъ Павлычемъ Волынцевымъ. Онъ не былъ женатъ и распоряжался ея имѣніемъ.
Александра Павловна дошла до деревеньки, остановилась у крайней избушки, весьма ветхой и низкой, и, подозвавъ своего казачка, велѣла ему войти въ нее и спросить о здоровьѣ хозяйки. Онъ скоро вернулся въ сопровожденіи дряхлаго мужика съ бѣлой бородой.
— Ну, что? — спросила Александра Павловна.
— Жива еще… — проговорилъ старикъ.
— Можно войти?
— Отчего же? можно.
Александра Павловна вошла въ избу. Въ ней было тѣсно, и душно, и дымно… Кто-то закопошился и застоналъ на лежанкѣ. Александра Павловна оглянулась и увидѣла въ полумракѣ желтую и сморщенную голову старушки, повязанной клѣтчатымъ платкомъ. Покрытая по самую грудь тяжелымъ армякомъ, она дышала съ трудомъ, слабо разводя худыми руками.
Александра Павловна приблизилась къ старушкѣ и прикоснулась пальцами до ея лба… онъ такъ и пылалъ.
— Какъ ты себя чувствуешь, Матрена? — спросила она, наклонившись надъ лежанкой.
— О-охъ! — простонала старушка, всмотрѣвшись въ Александру Павловну. — Плохо, плохо, родная! Смертный часикъ пришелъ, голубушка!
— Богъ милостивъ, Матрена: можетъ быть, ты поправишься. Ты приняла лѣкарство, которое я тебѣ прислала?
Старушка тоскливо заохала и не отвѣчала. Она не разслышала вопроса.
— Приняла, — проговорилъ старикъ, остановившійся у двери.
Александра Павловна обратилась къ нему.
— Кромѣ тебя при ней никого нѣтъ? — спросила она.
— Есть дѣвочка — ея внучка, да все вотъ отлучается. Не посидитъ: такая егозливая. Воды подать испить бабкѣ — и то лѣнь. А я самъ старъ: куда мнѣ!
— Не перевезти ли ее ко мнѣ въ больницу!
— Нѣтъ! зачѣмъ въ больницу? все одно помирать-то. Пожила довольно; видно, ужъ такъ Богу угодно. Съ лежанки не сходитъ. Гдѣ-жъ ей въ больницу! Ее станутъ поднимать, она и помретъ.
— Охъ, — застонала больная: — красавица-барыня, сироточку-то мою не оставь; наши господа далеко, а ты…
Старушка умолкла. Она говорила черезъ силу.
— Не безпокойся, — промолвила Александра Павловна; — все будетъ сдѣлано. Вотъ, я тебѣ чаю и сахару принесла. Если захочется, выпей… Вѣдь самоваръ у васъ есть? прибавила она, взглянувъ на старика.
— Самоваръ-то? Самовара у насъ нѣту, а достать можно.
— Такъ достань, а то я пришлю свой. Да прикажи внучкѣ, чтобы она не отлучалась. Скажи ей, что это стыдно.
Старикъ ничего не отвѣчалъ, а свертокъ съ чаемъ и сахаромъ взялъ въ обѣ руки.
— Ну, прощай, Матрена! — проговорила Александра Павловна: — я къ тебѣ еще приду, а ты не унывай и лѣкарство принимай аккуратно…
Старуха приподняла голову и потянулась къ Александрѣ Павловнѣ.
— Дай барыня, ручку, — пролепетала она.
Александра Павловна не дала ей руки, нагнулась и поцѣловала ее въ лобъ.
— Смотри же, — сказала она, уходя, старику: — лѣкарство ей давайте непремѣнно, какъ написано. И чаемъ ее напойте…
Старикъ опять ничего не отвѣчалъ и только поклонился.
Свободно вздохнула Александра Павловна, очутившись на свѣжемъ воздухѣ. Она раскрыла зонтикъ и хотѣла-было идти домой, какъ вдругъ изъ-за угла избушки выѣхалъ, на низенькихъ бѣговыхъ дрожкахъ, человѣкъ лѣтъ тридцати, въ старомъ пальто изъ сѣрой коломянки и такой же фуражкѣ. Увидѣвъ Александру Павловну, онъ тотчасъ остановилъ лошадь и обернулся къ ней лицомъ. Широкое, безъ румянца, съ небольшими, блѣдно-сѣрыми глазками и бѣлесоватыми усами, оно подходило подъ цвѣтъ его одежды.
— Здравствуйте, — проговорилъ онъ съ лѣнивой усмѣшкой: — что́ это вы тутъ такое дѣлаете, позвольте узнать?
— Я навѣщала больную… А вы откуда, Михайло Михайлычъ?
Человѣкъ, называвшійся Михайло Михайлычемъ, посмотрѣлъ ей въ глаза и опять усмѣхнулся.
— Это вы хорошо дѣлаете, — продолжалъ онъ, — что больную навѣщаете; только не лучше ли вамъ ее въ больницу перевезти?
— Она слишкомъ слаба: ее нельзя тронуть.
— А больницу свою вы не намѣрены уничтожить?
— Уничтожить? зачѣмъ!
— Да такъ.
— Что за странная мысль! Съ чего это вамъ въ голову пришло?
— Да вы вотъ съ Ласунской все знаетесь и, кажется, находитесь подъ ея вліяніемъ. А по ея словамъ, больницы, училища — это все пустяки, ненужныя выдумки. Благотвореніе должно быть личное, просвѣщеніе тоже: это все дѣло души… такъ кажется, она выражается. Съ чьего это голоса она поетъ, желалъ бы я знать?
Александра Павловна засмѣялась.
— Дарья Михайловна умная женщина, я ее очень люблю и уважаю; но и она можетъ ошибаться, и я не каждому ея слову вѣрю.
— И прекрасно дѣлаете, — возразилъ Михайло Михайлычъ, все не слѣзая съ дрожекъ: — потому что она сама словамъ своимъ плохо вѣритъ. А я очень радъ, что встрѣтилъ васъ.
— А что?
— Хорошъ вопросъ! Какъ будто не всегда пріятно васъ встрѣтить! Сегодня вы такъ же свѣжи и милы, какъ это утро.
Александра Павловна опять засмѣялась.
— Чему же вы смѣетесь?
— Какъ чему? Если бы вы могли видѣть, съ какой вялой и холодной миной вы произнесли вашъ комплиментъ! Удивляюсь, какъ вы не зѣвнули на послѣднемъ словѣ.
— Съ холодной миной… Вамъ все огня нужно; а огонь никуда не годится. Вспыхнетъ, надымитъ и погаснетъ.
— И согрѣетъ, — подхватила Александра Павловна.
— Да… и обожжетъ.
— Ну, что-жъ, что обожжетъ! И это не бѣда. Все же лучше, чѣмъ…
— А вотъ я посмотрю, то ли вы заговорите, когда хоть разъ хорошенько обожжетесь, — перебилъ ее съ досадой Михайло Михайлычъ и хлопнулъ возжой по лошади. — Прощайте!
— Михайло Михайлычъ, постойте! — закричала Александра Павловна: — когда вы у насъ будете?
— Завтра; поклонитесь вашему брату.
И дрожки покатились.
Александра Павловна посмотрѣла въ слѣдъ Михаилу Михайловичу.
„Какой мѣшокъ!“ подумала она. Сгорбленный, запыленный, съ фуражкой на затылкѣ, изъ-подъ которой безпорядочно торчали косицы желтыхъ волосъ, онъ дѣйствительно, походилъ на большой мучной мѣшокъ.
Александра Павловна отправилась тихонько назадъ по дорогѣ домой. Она шла съ опущенными глазами. Близкій топотъ лошади заставилъ ее остановиться и поднять голову… Ей на встрѣчу ѣхалъ ея братъ верхомъ; рядомъ съ нимъ шелъ молодой человѣкъ небольшого роста, въ легонькомъ сюртучкѣ на распашку, легонькомъ галстучкѣ и легонькой сѣрой шляпѣ, съ тросточкой въ рукѣ. Онъ уже давно улыбался Александрѣ Павловнѣ, хотя и видѣлъ, что она шла въ раздумьѣ, ничего не замѣчая, а какъ только она остановилась, подошелъ къ ней и радостно, почти нѣжно произнесъ:
— Здравствуйте, Александра Павловна, здравствуйте!
— А! Константинъ Діомидычъ? здравствуйте! — отвѣтила она. — Вы отъ Дарьи Михайловны?
— Точно такъ-съ, точно такъ-съ, — подхватилъ съ сіяющимъ лицомъ молодой человѣкъ: — отъ Дарьи Михайловны. Дарья Михайловна послала меня къ вамъ-съ; я предпочелъ идти пѣшкомъ… Утро такое чудесное, всего четыре версты разстоянія. Я прихожу — васъ дома нѣтъ-съ. Мнѣ вашъ братецъ говоритъ, что вы пошли въ Семеновку, и сами, — собираются въ поле: я вотъ съ ними и пошелъ-съ, къ вамъ на встрѣчу. Да-съ. Какъ это пріятно!
Молодой человѣкъ говорилъ по-русски чисто и правильно, но съ иностраннымъ произношеніемъ, хотя трудно было опредѣлить, съ какимъ именно. Въ чертахъ лица его было нѣчто азіатское. Длинный носъ съ горбиной, большіе неподвижные глаза на выкатѣ, крупныя красныя губы, покатый лобъ, черные какъ смоль волосы, — все въ немъ изобличало восточное происхожденіе, но молодой человѣкъ именовался но фамиліи Пандалевскимъ и называлъ своею родиной Одессу, хотя и воспитывался гдѣ-то въ Бѣлоруссіи, на счетъ благодѣтельной и богатой вдовы. Другая вдова опредѣлила его на службу. Вообще, дамы среднихъ лѣтъ охотно покровительствовали Константину Діомидычу: онъ умѣлъ искать, умѣлъ находить въ нихъ. Онъ и теперь жилъ у богатой помѣщицы, Дарьи Михайловны Ласунской, въ качествѣ пріемыша или нахлѣбника. Онъ былъ весьма ласковъ, услужливъ; чувствителенъ и втайнѣ сластолюбивъ, обладалъ пріятнымъ голосомъ, порядочно игралъ на фортепіано и имѣлъ привычку, когда говорилъ съ кѣмъ-нибудь, такъ и впиваться въ него главами. Онъ одѣвался очень чистенько и платье носилъ чрезвычайно долго, тщательно выбривалъ свой широкій подбородокъ и причесывалъ волосокъ къ волоску.
Александра Павловна выслушала его рѣчь до конца и обратилась къ брату.
— Сегодня мнѣ все встрѣчи: сейчасъ я разговаривала съ Лежневымъ.
— А, съ нимъ! онъ ѣхалъ куда-нибудь?
— Да; и вообрази, на бѣговыхъ дрожкахъ, въ какомъ-то полотняномъ мѣшкѣ, весь въ пыли… Какой онъ чудакъ!
— Да, быть можетъ; только онъ славный человѣкъ.
— Кто это? Г-нъ Лежневъ? — спросилъ Пандалевскій, какъ бы удивясь.
— Да, Михайло Михайлычъ Лежневъ, — возразилъ Волынцевъ. — Однако, прощай, сестра: мнѣ пора ѣхать въ поле; у тебя гречиху сѣютъ. Г-нъ Пандалевскій тебя проведетъ домой…
И Волынцевъ пустилъ лошадь рысью.
— Съ величайшимъ удовольствіемъ! — воскликнулъ Константинъ Діомидычъ и предложилъ Александрѣ Павловнѣ руку.
Опа подала ему свою, и оба отправились по дорогѣ въ ея усадьбу.
•••
Вести подъ руку Александру Павловну доставляло, повидимому, большое удовольствіе Константину Діомидычу; онъ выступалъ маленькими шагами, улыбался, а восточные глаза его даже покрылись влагой, что, впрочемъ, съ ними случалось не рѣдко: Константину Діомидычу ничего не стоило умилиться и пролить слезу. И кому бы не было пріятно вести подъ руку хорошенькую женщину, молодую и стройную? Объ Александрѣ Павловнѣ вся …ая губернія единогласно говорила, что она прелесть; и …ая губернія не ошибалась. Одинъ ея прямой, чуть-чуть вздернутый носикъ могъ свести съ ума любого смертнаго, не говоря уже о ея бархатныхъ карихъ глазкахъ, золотисто-русыхъ волосахъ, ямкахъ на круглыхъ щечкахъ и другихъ красотахъ. Но лучше всего въ ней было выраженіе ея миловиднаго лица: довѣрчивое, добродушное и кроткое, оно и трогало, и привлекало. Александра Павловна глядѣла и смѣялась, какъ ребенокъ; барыни находили ее простенькой… Можно ли было чего-нибудь еще желать?
— Васъ Дарья Михайловна ко мнѣ прислала, говорите вы? — спросила она Пандалевскаго.
— Да-съ, прислала-съ, — отвѣчалъ онъ, выговаривая букву с, какъ англійское th: — онѣ непремѣнно желаютъ и велѣли васъ убѣдительно просить, чтобы вы пожаловали сегодня къ нимъ обѣдать… Онѣ (Пандалевскій, когда говорилъ о третьемъ лицѣ, особенно о дамѣ, строго придерживался множественнаго числа): — онѣ ждутъ къ себѣ новаго гостя, съ которымъ непремѣнно желаютъ васъ познакомить.
— Кто это?
— Нѣкто Муффель, баронъ, камеръ-юнкеръ изъ Петербурга. Дарья Михайловна недавно съ нимъ познакомились у князя Гарина и съ большой похвалой о немъ отзываются, какъ о любезномъ и образованномъ молодомъ человѣкѣ. Г-нъ баронъ занимаются также литературой, или, лучше сказать… ахъ, какая прелестная бабочка! извольте обратить ваше вниманіе… лучше сказать, политической экономіей. Онъ написалъ статью о какомъ-то очень интересномъ вопросѣ — и желаетъ подвергнуть ее на судъ Дарьѣ Михайловнѣ.
— Политико-экономическую статью?
— Съ точки зрѣнія языка-съ, Александра Павловна, съ точки зрѣнія языка-съ. Вамъ, я думаю, извѣстно, что и въ этомъ Дарья Михайловна знатокъ-съ. Жуковскій съ ними совѣтовался, а благодѣтель мой, проживающій въ Одессѣ благопотребный старецъ Роксоланъ Медіаровичъ Ксандрыка… Вамъ, навѣрное, извѣстно имя этой особы?
— Нисколько, и не слыхивала.
— Не слыхивали о такомъ мужѣ? Удивительно! Я хотѣлъ сказать, что и Роксоланъ Медіаровичъ очень былъ всегда высокаго мнѣнія о познаніяхъ Дарьи Михайловны въ россійскомъ языкѣ.
— А не педантъ этотъ баронъ? — спросила Александра Павловна.
— Никакъ нѣтъ-съ; Дарья Михайловна разсказываютъ, что, напротивъ, свѣтскій человѣкъ въ немъ сейчасъ виденъ. О Бетховенѣ говорилъ съ такимъ краснорѣчіемъ, что даже старый князь почувствовалъ восторгъ… Это я, признаюсь, послушалъ бы: вѣдь это по моей части. Позвольте вамъ предложить этотъ прекрасный полевой цвѣтокъ.
Александра Павловна взяла цвѣтокъ и, пройдя нѣсколько шаговъ, уронила его на дорогу… До дому ея оставалось шаговъ двѣсти, не болѣе. Недавно выстроенный и выбѣленный, онъ привѣтливо выглядывалъ своими широкими, свѣтлыми окнами изъ густой зелени старинныхъ липъ и кленовъ.
— Такъ какъ-же-съ прикажете доложить Дарьѣ Михайловнѣ, — заговорилъ Пандалевскій, слегка обиженный участью поднесеннаго имъ цвѣтка: — пожалуете вы къ обѣду? Онѣ и братца вашего просятъ.
— Да, мы пріѣдемъ, непремѣнно. А что́ Наташа?
— Наталья Алексѣевна, слава Богу, здоровы-съ… Но мы уже прошли поворотъ къ имѣнью Дарьи Михайловны. Позвольте мнѣ раскланяться.
Александра Павловна остановилась.
— А вы развѣ не зайдете къ намъ? — спросила она нерѣшительнымъ голосомъ.
— Душевно бы желалъ-съ, но боюсь опоздать. Дарьѣ Михайловнѣ угодно послушать новый этюдъ Тальберга: такъ надо приготовиться и подучить. Притомъ, я, признаюсь, сомнѣваюсь, чтобы моя бесѣда могла доставить вамъ какое-нибудь удовольствіе.
— Да нѣтъ… почему же…
Пандалевскій вздохнулъ и выразительно опустилъ глаза.
— До свиданія, Александра Павловна! — проговорилъ онъ, помолчавъ немного, поклонился и отступилъ шагъ назадъ.
Александра Павловна повернулась и пошла домой.
Константинъ Діомидычъ также пустился во свояси. Съ лица его тотчасъ исчезла вся сладость: самоувѣренное, почти суровое выраженіе появилось на немъ. Даже походка Константина Діомидыча измѣнилась: онъ теперь и шагалъ шире, и наступалъ тяжелѣе. Онъ прошелъ версты двѣ, развязно помахивая палочкой, и вдругъ опять осклабился: онъ увидѣлъ возлѣ дороги молодую, довольно смазливую крестьянскую дѣвушку, которая выгоняла телятъ изъ овса. Константинъ Діомидычъ осторожно, какъ котъ, подошелъ къ дѣвушкѣ и заговорилъ съ ней. Та сперва молчала, краснѣла и посмѣивалась, наконецъ закрыла губы рукавомъ, отворотилась и промолвила:
— Ступай, баринъ, право…
Константинъ Діомидычъ погрозилъ ей пальцемъ и велѣлъ ей принести себѣ васильковъ.
— На что тебѣ васильковъ? вѣнки, что-ль, плесть? — возразила дѣвушка: — да ну, ступай же, право…
— Послушай, моя любезная красоточка, — началъ-было Константинъ Діомидычъ…
— Да ну, ступай, — перебила его дѣвушка: — баричи, вонъ, идутъ.
Константинъ Діомидычъ оглянулся. Дѣйствительно, по дорогѣ бѣжали Ваня и Петя, сыновья Дарьи Михайловны; за ними шелъ ихъ учитель, Басистовъ, молодой человѣкъ двадцати-двухъ лѣтъ, только что окончившій курсъ. Басистовъ былъ рослый малый, съ простымъ лицомъ, большимъ носомъ, крупными губами и свиными глазками, некрасивый и неловкій, но добрый, честный и прямой. Онъ одѣвался небрежно, не стригъ волосъ, — не изъ щегольства, а отъ лѣни; любилъ поѣсть, любилъ поспать, но любилъ также хорошую книгу, горячую бесѣду и всей душой ненавидѣлъ Пандалевскаго.
Дѣти Дарьи Михайловны обожали Басистова и ужъ нисколько его не боялись; со всѣми остальными въ домѣ онъ былъ на короткой ногѣ, что́ не совсѣмъ нравилось хозяйкѣ, какъ она ни толковала о томъ, что для нея предразсудковъ не существуетъ.
— Здравствуйте, мои миленькіе! — заговорилъ Коистантинъ Діомидычъ, — какъ вы рано сегодня гулять пошли! А я, — прибавилъ онъ, обращаясь къ Басистову: — уже давно вышелъ; моя страсть — наслаждаться природой.
— Видѣли мы какъ вы наслаждаетесь природой, — пробормоталъ Басистовъ.
— Вы матеріалистъ: ужъ сейчасъ Богъ знаетъ, что́ думаете. Я васъ знаю!
Пандалевскій, когда говорилъ съ Басистовымъ или подобными ему людьми, легко раздражался и букву с произносилъ чисто, даже съ маленькимъ свистомъ.
— Что же, вы у этой дѣвки, небось, дорогу спрашивали? — проговорилъ Басистовъ, поводя глазами и вправо и влѣво.
Онъ чувствовалъ, что Пандалевскій глядитъ ему прямо въ лицо, а это ему было крайне непріятно.
— Я повторяю, вы матеріалистъ и больше ничего. Вы непремѣнно желаете во всемъ видѣть одну прозаическую сторону…
— Дѣти! — скомандовалъ вдругъ Басистовъ: — видите вы на лугу ракиту: посмотримъ, кто скорѣе до нея добѣжитъ… разъ! два! три!
И дѣти бросились во всѣ ноги къ ракитѣ. Басистовъ устремился за ними.
„Мужикъ!“ подумалъ Пандалевскій: — „испортитъ онъ этихъ мальчишекъ… Совершенный мужикъ!“
И, съ удовольствіемъ окинувъ взглядомъ свою собственную опрятную и изящную фигурку, Константинъ Діомидычъ ударилъ раза два растопыренными пальцами по рукаву сюртука, встряхнулъ воротникомъ и отправился далѣе. Вернувшись къ себѣ въ комнату, онъ надѣлъ старенькій халатъ и съ озабоченнымъ лицомъ сѣлъ за фортепіано.
ІІ.
Домъ Дарьи Михайловны Ласунской считался чуть ли не первымъ по всей …ой губерніи. Огромный, каменный, сооруженный по рисункамъ Растрелли во вкусѣ прошедшаго столѣтія, онъ величественно возвышался на вершинѣ холма, у подошвы котораго протекала одна изъ главныхъ рѣкъ средней Россіи. Сама Дарья Михайловна была знатная и богатая барыня, вдова тайнаго совѣтника. Хотя Пандалевскій и разсказывалъ про нее, что она знаетъ всю Европу, да и Европа ее знаетъ! — однако, Европа ее знала мало; даже въ Петербургѣ она важной роли не играла; за то въ Москвѣ ее всѣ знали и ѣздили къ ней. Она принадлежала къ высшему свѣту и слыла за женщину нѣсколько странную, не совсѣмъ добрую, но чрезвычайно умную. Въ молодости она была очень хороша собою. Поэты писали ей стихи, молодые люди въ нее влюблялись, важные господа волочились за ней. Но съ тѣхъ поръ прошло лѣтъ двадцать-пять или тридцать, и прежнихъ прелестей не осталось и слѣда. „Неужели, спрашивалъ себя невольно всякій, кто только видѣлъ ее въ первый разъ, — неужели эта худенькая, желтенькая, востроносая и еще не старая женщина была когда-то красавицей? Неужели это она, та самая, о которой бряцали лиры?… И всякій внутренно удивлялся перемѣнчивости всего земного. Правда, Пандалевскій находилъ, что у Дарьи Михайловны удивительно сохранились ея великолѣпные глаза; но вѣдь тотъ же Пандалевскій утверждалъ, что ее вся Европа знаетъ.
Дарья Михайловна пріѣзжала каждое лѣто къ себѣ въ деревню съ своими дѣтьми (у нея ихъ было трое: дочь Наталья, семнадцати лѣтъ, и два сына, десяти и девяти лѣтъ) и жила открыто, то-есть принимала мужчинъ, особенно холостыхъ; провинціальныхъ барынь она терпѣть не могла. За то и доставалось же ей отъ этихъ барынь! Дарья Михайловна, по ихъ словамъ, была и горда, и безнравственна, и тиранка страшная; а главное — она позволяла себѣ такія вольности въ разговорѣ, что ужасти! Дарья Михайловна, дѣйствительно, не любила стѣснять себя въ деревнѣ, и въ свободной простотѣ ея обхожденія замѣчался легкій оттѣнокъ презрѣнія столичной львицы къ окружавшимъ ее, довольно темнымъ и мелкимъ существамъ… Она и съ городскими знакомыми обходилась очень развязно, даже насмѣшливо; но оттѣнка презрѣнія не было.
Кстати, читатель: замѣтили ли вы, что человѣкъ, необыкновенно разсѣянный въ кружкѣ подчиненныхъ, никогда не бываетъ разсѣянъ съ лицами высшими? Отчего бы это? Впрочемъ, подобные вопросы ни къ чему не ведутъ.
Когда Константинъ Діомидычъ, вытвердивъ, наконецъ, тальберховскій этюдъ, спустился изъ своей чистой и веселенькой комнаты въ гостиную, онъ уже засталъ все домашнее общество собраннымъ. Салонъ уже начался. На широкой кушеткѣ, подобравъ подъ себя ноги и вертя въ рукахъ новую французскую брошюру, расположилась хозяйка; у окна, за пяльцами, сидѣли: съ одной стороны, дочь Дарьи Михайловны, а съ другой m-lle Boncourt — гувернантка, старая и сухая дѣва лѣтъ шестидесяти, съ накладкой черныхъ волосъ подъ разноцвѣтнымъ чепцомъ и хлопчатой бумагой въ ушахъ; въ углу, возлѣ двери, помѣстился Басистовъ и читалъ газету; подлѣ него Петя и Ваня играли въ шашки, а прислонясь къ печкѣ и заложивъ руки за спину, стоялъ господинъ небольшого роста, взъерошенный и сѣдой, съ смуглымъ лицомъ и бѣглыми черными глазками — нѣкто Африканъ Семенычъ Пигасовъ.
Странный человѣкъ былъ этотъ господинъ Пигасовъ. Озлобленный противу всего и всѣхъ — особенно противъ женщинъ — онъ бранился съ утра до вечера, иногда очень мѣтко, иногда довольно тупо, но всегда съ наслажденіемъ. Раздражительность его доходила до ребячества; его смѣхъ, звукъ его голоса, все его существо казалось пропитаннымъ желчью. Дарья Михайловна охотно принимала Пигасова: онъ потѣшалъ ее своими выходками. Онѣ, точно, были довольно забавны. Все преувеличивать было его страстью. Напримѣръ: о какомъ бы несчастьѣ при немъ ни говорили — разсказывали ли ему, что громомъ зажгло деревню, что вода прорвала мельницу, что мужикъ себѣ топоромъ руку отрубилъ — онъ всякій разъ съ сосредоточеннымъ ожесточеніемъ спрашивалъ: — „А какъ ее зовутъ?“ то-есть, какъ зовутъ женщину, отъ которой произошло то несчастіе, потому что, но его увѣреніямъ, всякому несчастію причиной женщина, стоитъ только хорошенько вникнуть въ дѣло. Онъ однажды бросился на колѣни передъ почти незнакомой ему барыней, которая приставала къ нему съ угощеніемъ, и началъ слезно, но съ написанной на лицѣ яростью умолять ее, чтобы она его пощадила, что онъ ничѣмъ передъ ней не провинился и впередъ у ней никогда не будетъ. Разъ лошадь помчала подъ-гору одну изъ прачекъ Дарьи Михайловны, опрокинула ее въ ровъ и чуть не убила. Пигасовъ съ тѣхъ поръ иначе не называлъ эту лошадь, какъ „добрый, добрый конекъ“, а самую гору и ровъ находилъ чрезвычайно живописными мѣстами. Пигасову въ жизни не повезло — онъ эту дурь и напустилъ на себя. Онъ происходилъ отъ бѣдныхъ родителей. Отецъ его занималъ разныя мелкія должности, едва зналъ грамотѣ и не заботился о воспитаніи сына; кормилъ, одѣвалъ его — и только. Мать его баловала, но скоро умерла. Пигасовъ самъ себя воспиталъ, самъ опредѣлилъ себя въ уѣздное училище, потомъ въ гимназію, выучился языкамъ французскому, нѣмецкому и даже латинскому, и выйдя изъ гимназіи съ отличнымъ аттестатомъ, отправился въ Дерптъ, гдѣ постоянно боролся съ нуждою, но выдержалъ трехгодичный курсъ до конца. Способности Пигасова не выходили изъ разряда обыкновенныхъ; терпѣніемъ и настойчивостью онъ отличался, но особенно сильно было въ немъ чувство честолюбія, желаніе попасть въ хорошее общество, не отстать отъ другихъ, на зло судьбѣ. Онъ и учился прилежно, и въ дерптскій университетъ поступилъ изъ честолюбія. Бѣдность сердила его и развила въ немъ наблюдательность и лукавство. Онъ выражался своеобразно; онъ съ молоду присвоилъ себѣ особый родъ желчнаго и раздражительнаго краснорѣчія. Мысли его не возвышались надъ общимъ уровнемъ; а говорилъ онъ такъ, что могъ казаться не только умнымъ, но даже очень умнымъ человѣкомъ. Получивъ степень кандидата, Пигасовъ рѣшился посвятить себя ученому званію: онъ понялъ, что на всякомъ другомъ поприщѣ онъ бы никакъ не могъ угнаться за своими товарищами (онъ старался выбирать ихъ изъ высшаго круга и умѣлъ къ нимъ поддѣлаться, даже льстилъ имъ, хотя все ругался). Но тутъ въ немъ, говоря попросту, матеріала не хватило. Самоучка не изъ любви къ наукѣ, Пигасовъ въ сущности зналъ слишкомъ мало. Онъ жестоко провалился на диспутѣ, между тѣмъ, какъ жившій съ нимъ въ одной комнатѣ другой студентъ, надъ которымъ онъ постоянно смѣялся, человѣкъ весьма ограниченный, по получившій правильное и прочное воспитаніе, восторжествовалъ вполнѣ. Неудача эта взбѣсила Пигасова: онъ бросилъ въ огонь всѣ свои книги и тетради и поступилъ на службу. Сначала дѣло шло недурно: чиновникъ онъ былъ хоть куда, не очень распорядительный, за то крайне самоувѣренный и бойкій; но ему захотѣлось поскорѣе выскочить въ люди — онъ запутался, споткнулся и принужденъ былъ выйдти въ отставку. Года три просидѣлъ онъ у себя въ благопріобрѣтенной деревенькѣ и вдругъ женился на богатой, полуобразованной помѣщицѣ, которую поймалъ на удочку своихъ развязныхъ и насмѣшливыхъ манеръ. Но нравъ Пигасова уже слишкомъ раздражился и окисъ; онъ тяготился семейной жизнью… Жена его, поживъ съ нимъ нѣсколько лѣтъ, уѣхала тайкомъ въ Москву и продала какому-то ловкому аферисту свое имѣніе, а Пигасовъ только-что построилъ въ немъ усадьбу. Потрясенный до основанія этимъ послѣднимъ ударомъ, Пигасовъ затѣялъ-было тяжбу съ женою, но ничего не выигралъ… Онъ доживалъ свой вѣкъ одиноко, разъѣзжалъ по сосѣдямъ, которыхъ бранилъ за глаза и даже въ глаза, и которые принимали его съ какимъ-то напряженнымъ полухохотомъ, хотя серьезнаго страха онъ имъ не внушалъ, — и никогда книги въ руки не бралъ. У него было около ста душъ; мужики его не бѣдствовали.
— А! Constantin! — проговорила Дарья Михайловна, какъ только Пандалевскій сошелъ въ гостиную: — Alexandrine будетъ?
— Александра Павловна велѣла васъ благодарить и за особенное удовольствіе себѣ поставляютъ, — выразилъ Константинъ Діомидычъ, пріятно раскланиваясь на всѣ стороны и прикасаясь толстой, но бѣлой ручкой съ ногтями, остриженными треугольникомъ, къ превосходно причесаннымъ волосамъ.
— И Волынцевъ тоже будетъ?
— И они-съ.
— Такъ какъ же, Африканъ Семенычъ, — продолжала Дарья Михайловна, обратясь къ Пигасову: — по вашему, всѣ барышни неестественны?
У Пигасова губы скрутились на бокъ, и онъ нервически задергалъ локтемъ.
— Я говорю, — началъ онъ неторопливымъ голосомъ — онъ въ самомъ сильномъ припадкѣ ожесточенія говорилъ медленно и отчетливо: — я говорю, что барышни вообще — о присутствующихъ, разумѣется, я умалчиваю…
— Но это не мѣшаетъ вамъ и о нихъ думать, — перебила Дарья Михайловна.
— Я о нихъ умалчиваю, — повторилъ Пигасовъ. — Всѣ барышни вообще неестественны въ высшей степени — неестественны въ выраженіи чувствъ своихъ. Испугается ли, напримѣръ, барышня, обрадуется ли чему, или опечалится, она непремѣнно сперва придастъ тѣлу своему какой-нибудь этакій изящный изгибъ (и Пигасовъ пребезобразно выгнулъ свой станъ и оттопырилъ руки) и потомъ ужъ крикнетъ: ахъ! или засмѣется, или заплачетъ. Мнѣ, однако (и тутъ Пигасовъ самодовольно улыбнулся), удалось-таки добиться однажды истиннаго, неподдѣльнаго выраженія ощущенія отъ одной замѣчательно неестественной барышни!
— Какимъ это образомъ?
Глаза Пигасова засверкали.
— Я ее хватилъ въ бокъ осиновымъ коломъ сзади. Она какъ взвизгнетъ, а я ей: браво! браво! Вотъ это голосъ природы, это былъ естественный крикъ… Вы и впередъ всегда такъ поступайте!
Всѣ въ комнатѣ засмѣялись.
— Что́ вы за пустяки говорите, Африканъ Семенычъ! — воскликнула Дарья Михайловна. — Повѣрю ли я, что вы станете дѣвушку толкать коломъ въ бокъ!
— Ей-Богу, коломъ, пребольшимъ коломъ, въ родѣ тѣхъ, которые употребляются при защитѣ крѣпостей.
— Mais c’est une horreur ce que vous dîtes là, monsieur, — возопила m-lle Boncourt, грозно посматривая на расхохотавшихся дѣтей.
— Да не вѣрьте ему, — промолвила Дарья Михайловна: — развѣ вы его не знаете?
Но негодующая француженка долго не могла успокоиться и все что-то бормотала себѣ подъ носъ.
— Вы можете мнѣ не вѣрить, — продолжалъ хладнокровнымъ голосомъ Пигасовъ: — но я утверждаю, что я сказалъ сущую правду. Кому-жъ это знать, коли не мнѣ? Послѣ этого вы, пожалуй, также не повѣрите, что наша сосѣдка Чепузова, Елена Антоновна, сама, замѣтьте — сама, мнѣ разсказала, какъ она уморила своего родного племянника?
— Вотъ еще выдумали!
— Позвольте, позвольте! Выслушайте и судите сами. Замѣтьте, я на нее клеветать не желаю, я ее даже люблю, на сколько, то-есть, можно любить женщину; у ней во всемъ домѣ нѣтъ ни одной книги, кромѣ календаря, и читать она не можетъ иначе, какъ вслухъ — чувствуетъ отъ этого упражненія испарину и жалуется потомъ, что у ней глаза пупомъ полѣзли… Словомъ, женщина она хорошая, и горничныя у ней толстыя. Зачѣмъ мнѣ на нее клеветать?
— Ну! — замѣтила Дарья Михайловна: — взобрался Африканъ Семенычъ на своего конька — теперь не слѣзетъ съ него до вечера.
— Мой конекъ… А у женщинъ ихъ цѣлыхъ три, съ которыхъ онѣ никогда не слѣзаютъ — развѣ когда спятъ.
— Какіе же это три конька?
— Попрекъ, намекъ, и упрекъ.
— Знаете ли что, Африканъ Семенычъ, — начала Дарья Михайловна: — вы не даромъ такъ озлоблены на женщинъ. Какая-нибудь, должно быть, васъ…
— Обидѣла, вы хотите сказать? — перебилъ ее Пигасовъ.
Дарья Михайловна немного смутилась; она вспомнила о несчастномъ бракѣ Пигасова… и только головой кивнула.
— Меня одна женщина точно обидѣла, — промолвилъ Пигасовъ: — хоть и добрая была, очень добрая…
— Кто же это такая?
— Мать моя, — произнесъ Пигасовъ, понизивъ голосъ.
— Ваша мать? Чѣмъ же она могла васъ обидѣть!
— А тѣмъ, что родила…
Дарья Михайловна наморщила брови.
— Мнѣ кажется, — заговорила она: — разговоръ нашъ принимаетъ невеселый оборотъ… Constantin, сыграйте намъ новый этюдъ Тальберга… Авось, звуки музыки укротятъ Африкана Семеныча. Орфей укрощалъ же дикихъ звѣрей.
Константинъ Діомидычъ сѣлъ за фортепіано и сыгралъ этюдъ весьма удовлетворительно. Сначала Наталья Алексѣевна слушала со вниманіемъ, потомъ опять принялась за работу.
— Mersi, c’est charmant, — промолвила Дарья Михайловна: — люблю Тальберга. Il est si distingué. Что́ вы задумались, Африканъ Семенычъ?
— Я думалъ, — началъ медленно Пигасовъ: — что есть три разряда эгоистовъ: эгоисты, которые сами живутъ и жить даютъ другимъ; эгоисты, которые сами живутъ и не даютъ жить другимъ; наконецъ эгоисты, которые и сами не живутъ, и другимъ не даютъ… Женщины, бо́льшею частію, принадлежатъ къ третьему разряду.
— Какъ это любезно! Одному я только удивляюсь, Африканъ Семенычъ, какая у васъ самоувѣренность въ сужденіяхъ; точно вы никогда ошибиться не можете.
— Кто говоритъ! и я ошибаюсь; мужчина тоже можетъ ошибаться. Но знаете ли, какая разница между ошибкою нашего брата и ошибкою женщины? Не знаете? Вотъ какая: мужчина можетъ, напримѣръ, сказать, что дважды-два не четыре, а пять или три съ половиною; а женщина скажетъ, что дважды-два — стеариновая свѣчка.
— Я уже это, кажется, слышала отъ васъ… Но позвольте спросить, какое отношеніе имѣетъ ваша мысль о трехъ родахъ эгоистовъ къ музыкѣ, которую вы сейчасъ слышали?
— Никакого, да я и не слушалъ музыки.
— Ну, „ты, батюшка, я вижу, неисправимъ, хоть брось“, — возразила Дарья Михайловна, слегка искажая Грибоѣдовскій стихъ. — Что́ же вы любите, коли вамъ и музыка не нравится? литературу, что ли?
— Я литературу люблю, да только не нынѣшнюю.
— Почему!
— А вотъ почему. Я недавно переѣзжалъ черезъ Оку на паромѣ съ какимъ-то бариномъ. Паромъ присталъ къ крутому мѣсту: надо было втаскивать экипажи на рукахъ. У барина была коляска претяжёлая. Пока перевозчики надсаживались, втаскивая коляску на берегъ, баринъ такъ кряхтѣлъ, стоя на паромѣ, что даже жалко его становилось… Вотъ, подумалъ я, новое примѣненіе системы раздѣленія работъ! Такъ и нынѣшняя литература: другіе везутъ, дѣло дѣлаютъ, а она кряхтитъ.
Дарья Михайловна улыбнулась.
— И это называется воспроизведеніемъ современнаго быта, — продолжалъ неугомонный Пигасовъ: — глубокимъ сочувствіемъ къ общественнымъ вопросамъ и еще какъ-то… Охъ, ужъ эти мнѣ громкія слова!
— А вотъ женщины, на которыхъ вы такъ нападаете — тѣ, по-крайней мѣрѣ, не употребляютъ громкихъ словъ.
Пигасовъ пожалъ плечомъ.
— Не употребляютъ, потому что онѣ не умѣютъ.
Дарья Михайловна слегка покраснѣла.
— Вы начинаете дерзости говорить, Африканъ Семенычъ! — замѣтила она съ принужденной улыбкой.
Все затихло въ комнатѣ.
— Гдѣ это Золотоноша? — спросилъ вдругъ одинъ изъ мальчиковъ у Басистова.
— Въ Полтавской губерніи, мой милѣйшій, — подхватилъ Пигасовъ: — въ самой Хохландіи. (Онъ обрадовался случаю перемѣнить разговоръ). — Вотъ, мы толковали о литературѣ, продолжалъ онъ: — если-бъ у меня были лишнія деньги, я бы сейчасъ сдѣлался малороссійскимъ поэтомъ.
— Это что́ еще? хорошъ поэтъ! — возразила Дарья Михайловна: — развѣ вы знаете по малороссійски!
— Нимало; да оно и не нужно.
— Какъ не нужно?
— Да такъ же, не нужно. Сто́итъ только взять листъ бумаги и написать наверху: „Дума“; потомъ начать такъ: „гой, ты доля моя, доля!“ или: „сѣде казачино Наливайко на курганѣ!“ а тамъ: „по-пидъ горо́ю, по-пидъ зелено́ю, грае, грае воропае, гопъ! гопъ!“ или что-нибудь въ этомъ родѣ. И дѣло въ шляпѣ. Печатай и издавай. Малороссъ прочтетъ, подопретъ рукою щеку и непремѣнно заплачетъ, — такая чувствительная душа!
— Помилуйте! — воскликнулъ Басистовъ. — Что вы это такое говорите? Это ни съ чѣмъ несообразно. Я жилъ въ Малороссіи, люблю ее и языкъ ея знаю… „грае, грае воропае“ совершенная безсмыслица.
— Можетъ быть, а хохолъ все-таки заплачетъ. Вы говорите: языкъ… Да развѣ существуетъ малороссійскій языкъ? Я попросилъ разъ одного хохла перевести слѣдующую, первую попавшуюся мнѣ фразу: „грамматика есть искусство правильно читать и писать“. Знаете, какъ онъ это перевелъ: „храматыка е выскусьтво правильно чытаты ы пысаты“… Что-жъ, это языкъ, по вашему? самостоятельный языкъ? Да скорѣй, чѣмъ съ этимъ согласиться, я готовъ позволить лучшаго своего друга истолочь въ ступѣ…
Басистовъ хотѣлъ возражать.
— Оставьте его, — промолвила Дарья Михайловна: — вѣдь вы знаете, отъ него кромѣ парадоксовъ ничего не услышишь.
Пигасовъ язвительно улыбнулся. Лакей вошелъ и доложилъ о пріѣздѣ Александры Павловны и ея брата.
Дарья Михайловна встала на встрѣчу гостямъ.
— Здравствуйте, Alexandrine! — заговорила она, подходя къ ней: — какъ вы умно сдѣлали, что пріѣхали… Здравствуйте, Сергѣй Павлычъ!
Волынцевъ пожалъ Дарьѣ Михайловнѣ руку и подошелъ къ Натальѣ Алексѣевнѣ.
— А что, этотъ баронъ, вашъ новый знакомый, пріѣдетъ сегодня? — спросилъ Пигасовъ.
— Да, пріѣдетъ.
— Онъ, говорятъ, великій филозо́фъ: такъ Гегелемъ и брызжетъ.
Дарья Михайловна ничего не отвѣчала, усадила Александру Павловну на кушетку и сама помѣстилась возлѣ нея.
— Философія, — продолжалъ Пигасовъ: — высшая точка зрѣнія! Вотъ еще смерть моя: эти высшія точки зрѣнія. И что́ можно увидать сверху? Небось, коли захочешь лошадь купать, не съ каланчи на нее смотрѣть станешь!
— Вамъ этотъ баронъ хотѣлъ привезти статью какую-то? — спросила Александра Павловна.
— Да, статью, — отвѣчала съ преувеличенною небрежностью Дарья Михайловна: — объ отношеніяхъ торговли къ промышленности въ Россіи… Но не бойтесь: мы ее здѣсь читать не станемъ… я васъ не за тѣмъ позвала. Le baron est aussi aimable que savant. И такъ хорошо говоритъ по-русски! C’est un vrai torrent… il vous entraine.
— Такъ хорошо по-русски говоритъ, — проворчалъ Пигасовъ: — что заслуживаетъ французской похвалы.
— Поворчите еще, Африканъ Семенычъ, поворчите… Это очень идетъ къ вашей взъерошенной прическѣ… Однако, что же онъ не ѣдетъ? Знаете-ли что, messieurs et mesdames, — прибавила Дарья Михайловна, взглянувъ кругомъ: — пойдемте въ садъ… До обѣда еще около часу осталось, а погода славная…
Все общество поднялось и отправилось въ садъ.
Садъ у Дарьи Михайловны доходилъ до самой рѣки. Въ немъ было много старыхъ липовыхъ аллей, золотисто-темныхъ и душистыхъ, съ изумрудными просвѣтами по концамъ, много бесѣдокъ изъ акаціи, и сирени.
Волынцевъ вмѣстѣ съ Натальей и m-lle Boncourt забрались въ самую глушь сада. Волынцевъ шелъ рядомъ съ Натальей и молчалъ. M-lle Boncourt слѣдовала немного поодаль.
— Что же вы дѣлали сегодня? — спросилъ наконецъ Волынцевъ, подергивая концы своихъ прекрасныхъ темно-русыхъ усовъ.
Онъ чертами лица очень походилъ на сестру; но въ выраженіи ихъ было меньше игры и жизни, и глаза его красивые и ласковые, глядѣли какъ-то грустно.
— Да ничего, — отвѣчала Наталья: — слушала, какъ Пигасовъ бранится, вышивала по канвѣ, читала.
— А что́ такое вы читали?
— Я читала… исторію крестовыхъ походовъ, — проговорила Наталья съ небольшой запинкой.
Волынцевъ посмотрѣлъ на нее.
— А ! — произнесъ онъ наконецъ: — это должно быть интересно.
Онъ сорвалъ вѣтку и началъ вертѣть ей по воздуху. Они прошли еще шаговъ двадцать.
— Что это за баронъ, съ которымъ ваша матушка познакомилась? — спросилъ опять Волынцевъ.
— Камеръ-юнкеръ, пріѣзжій; maman его очень хвалитъ.
— Ваша матушка способна увлекаться.
— Это доказываетъ, что она еще очень молода сердцемъ, — замѣтила Наталья.
— Да. Я скоро пришлю вамъ вашу лошадь. Она уже почти совсѣмъ выѣзжена. Мнѣ хочется, чтобы она съ мѣста поднимала въ галопъ, и я этого добьюсь.
— Merci… Однако, мнѣ совѣстно. Вы сами ее выѣзжаете… это, говорятъ, очень трудно.
— Чтобы доставить вамъ малѣйшее удовольствіе, вы знаете, Наталья Алексѣевна, я готовъ… я… и не такіе пустяки…
Волынцевъ замялся.
Наталья дружелюбно взглянула на него и еще разъ сказала: merci.
— Вы знаете, — продолжалъ Сергѣй Павлычъ послѣ долгаго молчанья: — что нѣтъ такой вещи… Но къ чему я это говорю? вѣдь вы все знаете!
Въ это мгновеніе въ домѣ прозвенѣлъ колоколъ.
— Ah! la cloche du diner! — воскликнула m-lle Boncourt: — rentrons.
„Quel dommage“, подумала про себя старая француженка, взбираясь на ступеньки балкона вслѣдъ за Волынцевымъ и Натальей: — quel dommage que ce charmant garçon ait si peu de ressources dans la conversation… что́ по-русски можно такъ — перевести: ты, мой милый, милъ, но плохъ немножко.
Баронъ къ обѣду не пріѣхалъ. Его прождали съ полчаса. Разговоръ за столомъ не клеился. Сергѣй Павлычъ только посматривалъ на Наталью, возлѣ которой сидѣлъ, и усердно наливалъ ей воды въ стаканъ. Пандалевскій тщетно старался занять сосѣдку свою, Александру Павловну: онъ весь закипалъ сладостью, а она чуть не зѣвала.
Басистовъ каталъ шарики изъ хлѣба и ни о чемъ не думалъ; даже Пигасовъ молчалъ и, когда Дарья Михайловна замѣтила ему, что онъ очень не любезенъ сегодня, угрюмо отвѣтилъ: когда же я бываю любезнымъ? Это не мое дѣло… И, усмѣхнувшись горько, прибавилъ: — потерпите маленько. Вѣдь я квасъ, du prostoі русскій квасъ; а вотъ вашъ камеръ-юнкеръ…
— Браво! — воскликнула Дарья Михайловна. — Пигасовъ ревнуетъ, заранѣе ревнуетъ!
Но Пигасовъ ничего не отвѣтилъ ей и только посмотрѣлъ изъ подлобья.
Пробило семь часовъ и всѣ опять собрались въ гостиную.
— Видно, не будетъ, — сказала Дарья Михайловна…
Но вотъ, раздался стукъ экипажа, небольшой тарантасъ въѣхалъ на дворъ, и черезъ нѣсколько мгновеній лакей вошелъ въ гостиную и подалъ Дарьѣ Михайловнѣ письмо на серебряномъ блюдечкѣ. Она пробѣжала его до конца и, обратясь къ лакею, спросила:
— А гдѣ же господинъ, который привезъ это письмо?
— Въ экипажѣ сидитъ-съ. Прикажете принять-съ?
— Проси.
Лакей вышелъ.
— Вообразите, какая досада, — продолжала Дарья Михайловна: — баронъ получилъ предписаніе тотчасъ вернуться въ Петербургъ. Онъ прислалъ мнѣ свою статью съ однимъ господиномъ Рудинымъ, своимъ пріятелемъ. Баронъ хотѣлъ мнѣ его представить — онъ очень его хвалилъ. Но какъ это досадно! я надѣялась, что баронъ поживетъ здѣсь…
— Дмитрій Николаевичъ Рудинъ, — доложилъ лакей.
ІІІ.
Вошелъ человѣкъ лѣтъ тридцати-пяти, высокаго роста, нѣсколько сутуловатый, курчавый, смуглый, съ лицомъ неправильнымъ, но выразительнымъ и умнымъ, съ жидкимъ блескомъ въ быстрыхъ, темно-синихъ глазахъ, съ прямымъ, широкимъ носомъ и красиво очерченными губами. Платье на немъ было не ново и узко, словно онъ изъ него выросъ.
Онъ проворно подошелъ къ Дарьѣ Михайловнѣ, поклонясь короткимъ поклономъ, сказалъ ей, что онъ давно желалъ имѣть честь представиться ей, и что пріятель его, баронъ, очень сожалѣлъ о томъ, что не могъ проститься лично.
Тонкій звукъ голоса Рудина не соотвѣтствовалъ его росту и его широкой груди.
— Садитесь… очень рада, — промолвила Дарья Михайловна и, познакомивъ его со всѣмъ обществомъ, спросила, здѣшній ли онъ, или заѣзжій.
— Мое имѣніе въ Т****ой губерніи, — отвѣчалъ Рудинъ, держа шляпу на колѣняхъ: — а здѣсь я недавно. Я пріѣхалъ по дѣлу и поселился пока въ вашемъ уѣздномъ городѣ.
— У кого?
— У доктора. Онъ мой старинный товарищъ по университету.
— А! у доктора… Его хвалятъ. Онъ, говорятъ, свое дѣло разумѣетъ. А съ барономъ вы давно знакомы?
— Я нынѣшней зимой въ Москвѣ съ нимъ встрѣтился и теперь провелъ у него около недѣли.
— Онъ очень умный человѣкъ — баронъ.
— Да-съ.
Дарья Михайловна понюхала узелокъ носового платка, напитанный одеколономъ.
— Вы служите? — спросила она.
— Кто? я-съ?
— Да.
— Нѣтъ… Я въ отставкѣ.
Наступило небольшое молчаніе. Общій разговоръ возобновился.
— Позвольте полюбопытствовать, — началъ Пигасовъ, обратясь къ Рудину: — вамъ извѣстно содержаніе статьи, присланной господиномъ барономъ?
— Извѣстно.
— Статья эта трактуетъ объ отношеніяхъ торговли… или нѣтъ, бишь, промышленности къ торговлѣ въ нашемъ отечествѣ… Такъ, кажется, вы изволили выразиться, Дарья Михайловна?
— Да, она объ этомъ… — проговорила Дарья Михайловна и приложила руку ко лбу.
— Я, конечно, въ этихъ дѣлахъ судья плохой, — продолжалъ Пигасовъ: — но я долженъ сознаться, что мнѣ самое заглавіе статьи кажется чрезвычайно… какъ бы это сказать поделикатнѣе?… чрезвычайно темнымъ и запутаннымъ.
— Почему же оно вамъ такъ кажется?
Пигасовъ усмѣхнулся и посмотрѣлъ вскользь на Дарью Михайловну.
— А вамъ оно ясно? — проговорилъ онъ, снова обративъ свое лисье личико къ Рудину.
— Мнѣ? Ясно.
— Гм… Конечно, это вамъ лучше знать.
— У васъ голова болитъ? — спросила Александра Павловна Дарью Михайловну.
— Нѣтъ. Это у меня такъ… C’est nerveux.
— Позвольте полюбопытствовать, — заговорилъ опять носовымъ голоскомъ Пигасовъ: — вашъ знакомецъ, господинъ баронъ Муффель… такъ, кажется, ихъ зовутъ?
— Точно такъ.
— Господинъ баронъ Муффель спеціально занимается политической экономіей, или только такъ, посвящаетъ этой интересной наукѣ часы досуга, остающагося среди свѣтскихъ удовольствій и занятій по службѣ?
Рудинъ пристально посмотрѣлъ на Пигасова.
— Баронъ въ этомъ дѣлѣ дилетантъ, — отвѣчалъ онъ, слегка краснѣя: — но въ его статьѣ много справедливаго и любопытнаго.
— Не могу спорить съ вами, не зная статьи… Но смѣю спросить, сочиненіе вашего пріятеля, барона Муффеля, вѣроятно, болѣе придерживается общихъ разсужденій, нежели фактовъ?
— Въ немъ есть и факты, и разсужденія, основанныя на фактахъ.
— Такъ-съ, такъ съ. Доложу вамъ, по моему мнѣнію… а я могу-таки, при случаѣ, свое слово молвить: я три года въ Дерптѣ выжилъ… всѣ эти, такъ-называемыя, общія разсужденія, гипотезы тамъ, системы… извините меня, я провинціалъ, правду-матку рѣжу прямо… никуда не годятся. Это все одно умствованіе — этимъ только людей морочатъ. Передавайте, господа, факты, и будетъ съ васъ.
— Въ самомъ дѣлѣ! — возразилъ Рудинъ. — Ну, а смыслъ фактовъ передавать слѣдуетъ?
— Общія разсужденія, — продолжалъ Пигасовъ: — смерть моя эти общія разсужденія, обозрѣнія, заключенія. Все это основано на такъ-называемыхъ убѣжденіяхъ, всякій толкуетъ о своихъ убѣжденіяхъ, и еще уваженія къ нимъ требуетъ, носится съ ними… Эхъ!
И Пигасовъ потрясъ кулакомъ въ воздухѣ. Пандалевскій разсмѣялся.
— Прекрасно! — промолвилъ Рудинъ: — стало-быть, по вашему, убѣжденій нѣтъ?
— Нѣтъ — и не существуетъ.
— Это ваше убѣжденіе?
— Да.
— Какъ-же вы говорите, что ихъ нѣтъ? Вотъ вамъ уже одно на первый случай.
Всѣ въ комнатѣ улыбнулись и переглянулись.
— Позвольте, позвольте, однако, — началъ-было Пигасовъ…
Но Дарья Михайловна захлопала въ ладоши, воскликнула: браво, браво, разбитъ Пигасовъ, разбитъ! и тихонько вынула шляпу изъ рукъ Рудина.
— Погодите радоваться, сударыня: успѣете! — заговорилъ съ досадой Пигасовъ. — Недостаточно сказать, съ видомъ превосходства, острое словцо: надобно доказать, опровергнуть… Мы отбились отъ предмета спора.
— Позвольте, — хладнокровно замѣтилъ Рудинъ: — дѣло очень просто. Вы не вѣрите въ пользу общихъ разсужденіи, вы не вѣрите въ убѣжденія…
— Не вѣрю, не вѣрю, ни во что́ не вѣрю!
— Очень хорошо. Вы скептикъ.
— Не вижу необходимости употреблять такое ученое слово. Впрочемъ…
— Не перебивайте же! — вмѣшалась Дарья Михайловна.
— „Кусь, кусь, кусь!“ — сказалъ про себя въ это мгновенье Пандалевскій и весь осклабился.
— Это слово выражаетъ мою мысль, — продолжалъ Рудинъ. — Вы его понимаете: отчего же не употреблять его? Вы ни во что не вѣрите… Почему же вѣрите вы въ факты?
— Какъ почему? вотъ прекрасно! Факты — дѣло извѣстное, всякій знаетъ, что́ такое факты… Я сужу о нихъ по опыту, по собственному чувству.
— Да развѣ чувство не можетъ обмануть васъ? Чувство вамъ говоритъ, что солнце вокругъ земли ходитъ… или, можетъ быть, вы не согласны съ Коперникомъ? Вы и ему не вѣрите?
Улыбка опять промчалась по всѣмъ лицамъ, и глаза всѣхъ устремились на Рудина. „А онъ человѣкъ не глупый“, подумалъ каждый.
— Вы все изволите шутить, — заговорилъ Пигасовъ. — Конечно, это очень оригинально, но къ дѣлу нейдетъ.
— Въ томъ, что́ я сказалъ до сихъ норъ, — возразилъ Рудинъ: — къ сожалѣнію, слишкомъ мало оригинальнаго. Это все очень давно извѣстно и тысячу разъ было говорено. Дѣло не въ томъ…
— А въ чемъ же? — спросилъ не безъ наглости Пигасовъ.
Въ спорѣ онъ сперва подтрунивалъ надъ противникомъ, потомъ становился грубымъ, а наконецъ дулся и умолкалъ.
— Вотъ въ чемъ, — продолжалъ Рудинъ: — я, признаюсь, не могу не чувствовать искренняго сожалѣнія, когда умные люди при мнѣ нападаютъ…
— На системы? — перебилъ Пигасовъ.
— Да, пожалуй, хоть на системы. Что́ васъ пугаетъ такъ это слово? Всякая система основана на знаніи основныхъ законовъ, началъ жизни…
— Да ихъ узнать, открыть ихъ нельзя… помилуйте!
— Позвольте. Конечно, не всякому они доступны, и человѣку свойственно ошибаться. Однако, вы, вѣроятно, согласитесь со мною, что, напримѣръ, Ньютонъ открылъ хотя нѣкоторые изъ этихъ основныхъ законовъ. Онъ былъ геній, положимъ; но открытія геніевъ тѣмъ и велики, что становятся достояніемъ всѣхъ. Стремленіе къ отысканію общихъ началъ въ частныхъ явленіяхъ есть одно изъ коренныхъ свойствъ человѣческаго ума, и вся наша образованность…
— Вотъ вы куда-съ! — перебилъ растянутымъ голосомъ Пигасовъ. — Я практическій человѣкъ и во всѣ эти метафизическія тонкости не вдаюсь и не хочу вдаваться.
— Прекрасно! Это въ вашей волѣ. Но замѣтьте, что самое ваше желаніе быть исключительно практическимъ человѣкомъ есть уже своего рода система, теорія…
— Образованность, говорите вы! — подхватилъ Пигасовъ: — вотъ еще чѣмъ удивить вздумали! очень нужна она, эта хваленая образованность! Гроша мѣднаго не дамъ я за вашу образованность!
— Однако, какъ вы дурно спорите, Африканъ Семенычъ! — замѣтила Дарья Михайловна, внутренно весьма довольная спокойствіемъ и изящной учтивостью новаго своего знакомца. — „C’est un homme comme il faut“, подумала она, съ доброжелательнымъ вниманіемъ взглянувъ въ лицо Рудину. „Надо его приласкать“. Эти послѣднія слова она мысленно произнесла по-русски.
— Образованность я защищать не стану, — продолжалъ, помолчавъ немного, Рудинъ — она не нуждается въ моей защитѣ. Вы ея не любите… у всякаго свой вкусъ. Притомъ, это завело бы насъ слишкомъ далеко. Позвольте вамъ только напомнить старую поговорку: „Юпитеръ, ты сердишься: стало-быть, ты виноватъ“. Я хотѣлъ сказать, что всѣ эти нападенія на системы, на общія разсужденія и т. д. — потому особенно огорчительны, что, вмѣстѣ съ системами, люди отрицаютъ вообще знаніе, науку и вѣру въ нее, стало-быть, и вѣру въ самихъ себя, въ свои силы. А людямъ нужна эта вѣра: имъ нельзя жить одними впечатлѣніями, имъ грѣшно бояться мысли и не довѣрять ей. Скептицизмъ всегда отличался безплодностію и безсиліемъ…
— Это все слова! — пробормоталъ Пигасовъ.
— Можетъ быть. Но позвольте вамъ замѣтить, что, говоря: „это все слова!“ — мы часто сами желаемъ отдѣлаться отъ необходимости сказать что-нибудь подѣльнѣе однихъ словъ.
— Чего-съ? — спросилъ Пигасовъ и прищурилъ глаза.
— Вы поняли, что́ я хотѣлъ сказать вамъ, — возразилъ съ невольнымъ, но тотчасъ сдержаннымъ нетерпѣніемъ, Рудинъ. — Повторяю, если у человѣка нѣтъ крѣпкаго начала, въ которое онъ вѣритъ, нѣтъ почвы, на которой онъ стоитъ твердо, какъ можетъ онъ дать себѣ отчетъ въ подробностяхъ, въ значеніи, въ будущности своего народа? ка́къ можетъ онъ знать, что́ онъ долженъ самъ дѣлать, если…
— Честь и мѣсто! — отрывисто проговорилъ Пигасовъ, поклонился и отошелъ въ сторону, ни на кого не глядя.
Рудинъ посмотрѣлъ на него, усмѣхнулся слегка и умолкъ.
— Ага! обратился въ бѣгство! — заговорила Дарья Михайловна. — Не безпокойтесь, Дмитрій… Извините, — прибавила она съ привѣтливой улыбкой: — какъ васъ по батюшкѣ.
— Николаичъ.
— Не безпокойтесь, любезный Дмитрій Николаичъ. Онъ никого изъ насъ не обманулъ. Онъ желаетъ показать видъ, что не хочетъ больше спорить… Онъ чувствуетъ, что не можетъ спорить съ вами. А вы лучше присядьте-ка къ намъ поближе, да поболтаемте.
Рудинъ пододвинулъ свое кресло.
— Какъ это мы до сихъ норъ не познакомились? — продолжала Дарья Михайловна. Это меня удивляетъ… Читали-ли вы эту книгу? C’est de Tocqueville, vous savez!
И Дарья Михайловна протянула Рудину французскую брошюру.
Рудинъ взялъ тоненькую книжонку въ руки, перевернулъ въ ней нѣсколько страницъ и, положивъ ее обратно на столъ, отвѣчалъ, что собственно этого сочиненія г-на Токвиля онъ не читалъ, но часто размышлялъ о затронутомъ имъ вопросѣ. Разговоръ завязался. Рудинъ сперва какъ будто колебался, не рѣшался высказаться, не находилъ словъ, но наконецъ разгорѣлся и заговорилъ. Черезъ четверть часа одинъ его голосъ раздавался въ комнатѣ. Всѣ столпились въ кружокъ около него.
Одинъ Пигасовъ оставался въ отдаленіи, въ углу, подлѣ камина. Рудинъ говорилъ умно, горячо, дѣльно; выказалъ много знанія, много начитанности. Никто не ожидалъ найти въ немъ человѣка замѣчательнаго… Онъ былъ такъ посредственно одѣтъ, о немъ такъ мало ходило слуховъ. Всѣмъ непонятно казалось и странно, какимъ это образомъ вдругъ, въ деревнѣ, могъ проявиться такой умница. Тѣмъ болѣе удивилъ онъ и, можно сказать, очаровалъ всѣхъ, начиная съ Дарьи Михайловны… Она гордилась своей находкой и уже заранѣе думала о томъ, какъ она выведетъ Рудина въ свѣтъ. Въ первыхъ ея впечатлѣніяхъ было много почти дѣтскаго, несмотря на ея года. Александра Павловна, правду сказать, поняла мало изо всего, что говорилъ Рудинъ, но была очень удивлена и обрадована; братъ ея тоже дивился; Пандалевскій наблюдалъ за Дарьей Михайловной и завидовалъ; Пигасовъ думалъ: „дамъ пятьсотъ рублей — еще лучше соловья достану!“… Но больше всѣхъ были поражены Басистовъ и Наталья. У Басистова чуть дыханье не захватило; онъ сидѣлъ все время съ раскрытымъ ртомъ и выпученными глазами — и слушалъ, слушалъ какъ отроду не слушалъ никого, а у Натальи лицо покрылось алой краской, и взоръ ея, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнѣлъ, и заблисталъ…
— Какіе у него славные глаза! — шепнулъ ей Волынцевъ.
— Да, хороши.
— Жаль только, что руки велики и красны.
Наталья ничего не отвѣчала.
Подали чай. Разговоръ сталъ болѣе общимъ, но уже по одной внезапности, съ которой всѣ замолкали, лишь только Рудинъ раскрывалъ ротъ, можно было судить о силѣ произведеннаго впечатлѣнія. Дарьѣ Михайловнѣ вдругъ захотѣлось подразнить Пигасова. Она подошла къ нему и вполголоса проговорила: „Что же вы молчите и только улыбаетесь язвительно? Попытайтесь-ка, схватитесь съ нимъ опять“, и не дождавшись его отвѣта, подозвала рукою Рудина.
— Вы про него еще одной вещи не знаете, — сказала она ему, указывая на Пигасова: — онъ ужасный ненавистникъ женщинъ, безпрестанно нападаетъ на нихъ; пожалуйста, обратите его на путь истины.
Рудинъ посмотрѣлъ на Пигасова… поневолѣ свысока: онъ былъ выше его двумя головами. Пигасова чуть не покоробило со злости, и желчное лицо его поблѣднѣло.
— Дарья Михайловна ошибается, — началъ онъ невѣрнымъ голосомъ: — я не на однихъ женщинъ нападаю: я до человѣческаго рода не большой охотникъ.
— Что же вамъ могло дать такое дурное мнѣніе о немъ? — спросилъ Рудинъ.
Пигасовъ глянулъ ему прямо въ глаза.
— Вѣроятно, изученіе собственнаго сердца, въ которомъ я съ каждымъ днемъ открываю все болѣе и болѣе дряни. Я сужу о другихъ по себѣ. Можетъ, быть это и несправедливо, и я гораздо хуже другихъ, но что́ прикажете дѣлать? привычка!
— Я васъ понимаю и сочувствую вамъ, — возразилъ Рудинъ. — Какая благородная душа не испытала жажда самоуниженія? Но не слѣдуетъ останавливаться на этомъ безвыходномъ положеніи.
— Покорно благодарю за выдачу моей душѣ аттестата въ благородствѣ, — возразилъ Пигасовъ: — а положеніе мое — ничего, недурно, такъ что если даже есть изъ него выходъ, то Богъ съ нимъ! я его искать не стану.
— Но это значитъ — извините за выраженіе — предпочитать удовлетвореніе своего самолюбія желанію быть и жить въ истинѣ…
— Да еще бы! — воскликнулъ Пигасовъ: — самолюбіе — это и я понимаю, и вы, надѣюсь, понимаете, и всякій понимаетъ: а истина — что́ такое истина? Гдѣ она, эта истина?
— Вы повторяетесь, предупреждаю васъ, — замѣтила Дарья Михайловна.
Пигасовъ поднялъ плечи.
— Такъ что-жъ за бѣда? Я спрашиваю: гдѣ истина! Даже философы не знаютъ, что́ она такое. Кантъ говоритъ: вотъ она, молъ, что́; а Гегель — нѣтъ, врешь, она вотъ что́.
— А вы знаете, что́ говоритъ о ней Гегель? — спросилъ, не возвышая голоса, Рудинъ.
— Я повторяю, — продолжалъ разгорячившійся Пигасовъ: — что я не могу понять, что́ такое истина. По моему, ея вовсе и нѣтъ на свѣтѣ, то-есть, слово-то есть, да самой вещи нѣтъ.
— Фи! фи! — воскликнула Дарья Михайловна: — какъ вамъ не стыдно это говорить, старый вы грѣшникъ! Истины нѣтъ? Для чего же жить послѣ этого на свѣтѣ?
— Да ужъ я думаю, Дарья Михайловна, — возразилъ съ досадой Пигасовъ: — что вамъ, во всякомъ случаѣ, легче было бы жить безъ истины, чѣмъ безъ вашего повара Степана, который такой мастеръ варить бульоны! И на что вамъ истина, скажите на милость? вѣдь чепчика изъ нея сшить нельзя!
— Шутка не возраженіе, — замѣтила Дарья Михайловна; — особенно, когда сбивается на клевету…
— Не знаю, какъ истина, а правда, видно, глаза колетъ, — пробормоталъ Пигасовъ и съ сердцемъ отошелъ въ сторону.
А Рудинъ заговорилъ о самолюбіи, и очень дѣльно заговорилъ. Онъ доказывалъ, что человѣкъ безъ самолюбія ничтоженъ, что самолюбіе — архимедовъ рычагъ, которымъ землю съ мѣста можно сдвинуть, но что, въ то же время, тотъ только заслуживаетъ названіе человѣка, кто умѣетъ овладѣть своимъ самолюбіемъ, какъ всадникъ конемъ, кто свою личность приноситъ въ жертву общему благу…
— Себялюбіе, — такъ заключилъ онъ: — самоубійство. Себялюбивый человѣкъ засыхаетъ, словно одинокое, безплодное дерево; но самолюбіе, какъ дѣятельное стремленіе къ совершенству, есть источникъ всего великаго… Да! человѣку надо надломить упорный эгоизмъ своей личности, чтобы дать ей право себя высказывать!
— Не можете ли вы одолжить мнѣ карандашика? — обратился Пигасовъ къ Басистову.
Басистовъ не тотчасъ понялъ, что́ у него спрашивалъ Пигасовъ.
— Зачѣмъ вамъ карандашъ? — проговорилъ онъ наконецъ.
— Хочу записать вотъ эту послѣднюю фразу г. Рудина. Не записавъ, позабудешь, чего добраго! А согласитесь сами, такая фраза — все равно, что большой шлемъ въ ералашѣ.
— Есть вещи, надъ которыми смѣяться и трунить грѣшно. Африканъ Семенычъ! — съ жаромъ проговорилъ Басистовъ, и отвернулся отъ Пигасова.
Между тѣмъ Рудинъ подошелъ къ Натальѣ. Она встала: лицо ея выразило замѣшательство.
Волынцевъ, сидѣвшій подлѣ нея, тоже всталъ.
— Я вижу фортепіано, — началъ Рудинъ мягко и ласково, какъ путешествующій принцъ: — не вы ли играете на немъ?
— Да, я играю, — проговорила Наталья: — но не очень хорошо. Вотъ, Константинъ Діомидычъ гораздо лучше меня играетъ.
Пандалевскій выставилъ свое лицо и оскалилъ зубы.
— Напрасно вы это говорите, Наталья Алексѣевна: вы играете нисколько не хуже меня.
— Знаете ли вы „Erlkönig“ Шуберта? — спросилъ Рудинъ.
— Знаетъ, знаетъ! — подхватила Дарья Михайловна.- — Садитесь, Constantin… А вы любите музыку, Дмитрій Николаичъ?
Рудинъ только наклонилъ слегка голову и провелъ рукой по волосамъ, какъ бы готовясь слушать… Пандалевскій заигралъ.
Наталья стала возлѣ фортепьяно, прямо напротивъ Рудина. Съ первымъ звуковъ лицо его приняло прекрасное выраженіе. Его темно-синіе глаза медленно блуждали, изрѣдка останавливаясь на Натальѣ. Пандалевскій кончилъ.
Рудинъ ничего не сказалъ и подошелъ къ раскрытому окну. Душистая мгла лежала мягкой пеленою надъ садомъ; дремотной свѣжестью дышали близкія деревья. Звѣзды тихо теплились. Лѣтняя ночь и нѣжилась, и нѣжила. Рудинъ поглядѣлъ въ темный садъ — и обернулся.
— Эта музыка и эта ночь, — заговорилъ онъ: — напомнили мнѣ мое студенческое время въ Германіи: наши сходки, наши серенады…
— А вы были въ Германіи? — спросила Дарья Михайловна.
— Я провелъ годъ въ Гейдельбергѣ и около года въ Берлинѣ.
— И одѣвались студентомъ? Говорятъ, они тамъ какъ-то особенно одѣваются.
— Въ Гейдельбергѣ я носилъ большіе сапоги со шпорами и венгерку со шнурками, и волосы отростилъ до самыхъ плечъ… Въ Берлинѣ студенты одѣваются, какъ всѣ люди.
— Разскажите намъ что-нибудь изъ вашей студенческой жизни, — промолвила Александра Павловна.
Рудинъ началъ разсказывать. Разсказывалъ онъ не совсѣмъ удачно. Въ описаніяхъ его недоставало красокъ. Онъ не умѣлъ смѣшить. Впрочемъ, Рудинъ отъ разсказовъ своихъ заграничныхъ похожденій скоро перешелъ къ общимъ разсужденіямъ о значеніи просвѣщенія и науки, объ университетахъ и жизни университетской вообще. Широкими и смѣлыми чертами набросалъ онъ громадную картину. Всѣ слушали его съ глубокимъ вниманіемъ. Онъ говорилъ мастерски, увлекательно, не совсѣмъ ясно… но самая эта неясность придавала особенную прелесть его рѣчамъ.
Обиліе мыслей мѣшало Рудину выражаться опредѣлительно и точно. Образы смѣнялись образами; сравненія, то неожиданно смѣлыя, то поразительно вѣрныя, возникали за сравненіями. Не самодовольной изысканностью опытнаго говоруна — вдохновеніемъ дышала его нетерпѣливая импровизація. Онъ не искалъ словъ: они сами послушно и свободно приходили къ нему на уста, и каждое слово, казалось, такъ и лилось прямо изъ души, пылало всѣмъ жаромъ убѣжденія. Рудинъ владѣлъ едва ли не высшей тайной — музыкой краснорѣчія. Онъ умѣлъ ударяя по однѣмъ струнамъ сердецъ, заставлять смутно звенѣть и дрожать всѣ другія. Иной слушатель, пожалуй, и не понималъ въ точности, о чемъ шла рѣчь; но грудь его высоко поднималась, какія-то завѣсы разверзались передъ его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди.
Всѣ мысли Рудина казались обращенными въ будущее; это придавало имъ что-то стремительное и молодое… Стоя у окна, не глядя ни на кого въ особенности, онъ говорилъ — и, вдохновенный общимъ сочувствіемъ и вниманіемъ, близостію молодыхъ женщинъ, красотою ночи, увлеченный потокомъ собственныхъ ощущеній, онъ возвысился до краснорѣчія, до поэзіи… Самый звукъ его голоса, сосредоточенный и тихій, увеличивалъ обаяніе; казалось, его устами говорило что-то высшее, для него самого неожиданное… Рудинъ говорилъ о томъ, что́ придаетъ вѣчное значеніе временной жизни человѣка.
— Помню я одну скандинавскую легенду, — такъ кончилъ онъ: — царь сидитъ съ своими воинами въ темномъ и длинномъ сараѣ, вокругъ огня. Дѣло происходитъ ночью, зимой. Вдругъ небольшая птичка влетаетъ въ раскрытыя двери и вылетаетъ въ другія. Царь замѣчаетъ, что эта птичка — какъ человѣкъ въ мірѣ: прилетѣла изъ темноты и улетѣла въ темноту, и недолго побыла въ теплѣ и свѣтѣ… „Царь“ — возражаетъ самый старый изъ воиновъ: — „птичка и во тьмѣ не пропадетъ и гнѣздо свое сыщетъ“… Точно, наша жизнь быстра и ничтожна; но все великое совершается черезъ людей. Сознаніе быть орудіемъ тѣхъ высшихъ силъ должно замѣнить человѣку всѣ другія радости: въ самой смерти найдетъ онъ свою жизнь, свое гнѣздо…
Рудинъ остановился и потупилъ глаза съ улыбкой невольнаго смущенія.
— Vous êtes un poète, — вполголоса проговорила Дарья Михайловна.
И всѣ съ ней внутренно согласились, — всѣ, исключая Пигасова. Не дождавшись конца длинной рѣчи Рудина, онъ тихонько взялъ шляпу и, уходя, озлобленно прошепталъ стоявшему близь двери Пандалевскому:
— Нѣтъ! поѣду къ дуракамъ.
Впрочемъ никто его не удерживалъ и не замѣтилъ его отсутствія.
Люди внесли ужинъ, и полчаса спустя, всѣ разъѣхались и разошлись. Дарья Михайловна упросила Рудина остаться ночевать. Александра Павловна, возвращаясь съ братомъ домой въ каретѣ, нѣсколько разъ принималась ахать и удивляться необыкновенному уму Рудина. Волынцевъ соглашался съ ней, однако замѣтилъ, что онъ иногда выражается немного темно… то-есть не совсѣмъ вразумительно, прибавилъ онъ, желая, вѣроятно, пояснить свою мысль; но лицо его омрачилось, и взглядъ, устремленный въ уголъ кареты, казался еще грустнѣе.
Пандалевскій, ложась спать и снимая свои вышитыя шелкомъ помочи, проговорилъ вслухъ: „очень ловкій человѣкъ!“ и вдругъ, сурово взглянувъ на своего казачка-камердинера, приказалъ ему выйти. Басистовъ цѣлую ночь не спалъ и не раздѣвался: онъ до самаго утра все писалъ письмо къ одному своему товарищу въ Москву, а Наталья хотя и раздѣлась, и легла въ постель, но тоже ни на минуту не уснула и не закрывала даже глазъ. Подперши голову рукою, она глядѣла пристально въ темноту; лихорадочно бились ея жилы, и тяжелый вздохъ часто приподнималъ ея грудь.
ІѴ.
На другое утро, Рудинъ только-что успѣлъ одѣться, какъ явился къ нему человѣкъ отъ Дарьи Михайловны съ приглашеніемъ пожаловать къ ней въ кабинетъ и откушать съ ней чай. Рудинъ засталъ ее одну. Она очень любезно съ нимъ поздоровалась, освѣдомилась, хорошо ли онъ провелъ ночь, сама налила ему чашку чаю, спросила даже, довольно ли сахару, предложила ему папироску и раза два опять повторила, что удивляется, какъ она давно съ нимъ не познакомилась. Рудинъ сѣлъ-было нѣсколько поодаль; но Дарья Михайловна указала ему на небольшое пате́, стоявшее подлѣ ея кресла, и, слегка наклонясь въ его сторону, начала разспрашивать его объ его семействѣ, объ его намѣреніяхъ и предположеніяхъ. Дарья Михайловна говорила небрежно, слушала разсѣянно; но Рудинъ очень хорошо понималъ, что она ухаживала за нимъ, чуть не льстила ему. Не даромъ же она устроила это утреннее свиданіе, не даромъ одѣлась просто, но изящно, à la madame Récamier! Впрочемъ, Дарья Михайловна скоро перестала его разспрашивать: она начала ему разсказывать о себѣ, о своей молодости, о людяхъ, съ которыми она зналась. Рудинъ съ участіемъ внималъ ея разглагольствованіямъ, хотя — странное дѣло! — о какомъ бы лицѣ ни заговорила Дарья Михайловна, на первомъ планѣ оставалась все-таки она, она одна, а то лицо какъ-то скрадывалось и исчезало. За то, Рудинъ узналъ въ подробности, что именно Дарья Михайловна говорила такому-то извѣстному сановнику, какое она имѣла вліяніе на такого-то знаменитаго поэта. Судя по разсказамъ Дарьи Михайловны, можно было подумать, что всѣ замѣчательные люди послѣдняго двадцатипятилѣтія только о томъ и мечтали, какъ бы повидаться съ ней, какъ бы заслужить ея расположеніе. Она говорила о нихъ просто, безъ особенныхъ восторговъ и похвалъ, какъ о своихъ, называя иныхъ чудаками. Она говорила о нихъ, и, какъ богатая оправа вокругъ драгоцѣннаго камня, имена ихъ ложились блестящей каймой вокругъ главнаго имени — вокругъ Дарьи Михайловны…
А Рудинъ слушалъ, покуривая папироску, и молчалъ, лишь изрѣдка вставляя въ рѣчь разболтавшейся барыни небольшія замѣчанія. Онъ умѣлъ и любилъ говорить; вести разговоръ было не по немъ, но онъ умѣлъ также слушать. Всякій, кого онъ только не запугивалъ сначала, довѣрчиво распускался въ его присутствіи; такъ охотно и одобрительно слѣдилъ онъ за нитью чужого разсказа. Въ немъ было много добродушія, — того особеннаго добродушія, которымъ исполнены люди, привыкшіе чувствовать себя выше другихъ. Въ спорахъ онъ рѣдко давалъ высказываться своему противнику и подавлялъ его своей стремительной и страстной діалектикой.
Дарья Михайловна изъяснялась по-русски. Она щеголяла знаніемъ родного языка, хотя галлицизмы, французскія словечки попадались у ней частенько. Она съ намѣреніемъ употребляла простые народные обороты, но не всегда удачно. Ухо Рудина не оскорблялось странной пестротою рѣчи въ устахъ Дарьи Михайловны, да и врядъ ли имѣлъ онъ на это — ухо.
Дарья Михайловна утомилась наконецъ и, прислонясь головой къ задней подушкѣ креселъ, устремила глаза на Рудина и умолкла.
— Я теперь понимаю, — началъ медленнымъ голосомъ Рудинъ, — я понимаю, почему вы каждое лѣто пріѣзжаете въ деревню. Вамъ этотъ отдыхъ необходимъ: деревенская тишина, послѣ столичной жизни, освѣжаетъ и укрѣпляетъ васъ. Я увѣренъ, что вы должны глубоко сочувствовать красотамъ природы.
Дарья Михайловна искоса посмотрѣла на Рудина.
— Природа… да… да, конечно… я ужасно ее люблю; но знаете ли, Дмитрій Николаичъ, и въ деревнѣ нельзя безъ людей. А здѣсь почти никого нѣтъ. Пигасовъ самый умный человѣкъ здѣсь.
— Вчерашній сердитый старикъ? — спросилъ Рудинъ.
— Да, этотъ… Въ деревнѣ, впрочемъ, и онъ годится — хоть разсмѣшитъ иногда.
— Онъ человѣкъ не глупый, — возразилъ Рудинъ: — но онъ на ложной дорогѣ. Я не знаю, согласитесь ли вы со мною, Дарья Михайловна, но въ отрицаніи — въ отрицаніи полномъ и всеобщемъ — нѣтъ благодати. Отрицайте все, и вы легко можете прослыть за умницу: это уловка извѣстная. Добродушные люди сейчасъ готовы заключить, что вы стоите выше того, что отрицаете. А это часто неправда. Во-первыхъ, во всемъ можно сыскать пятна, а во-вторыхъ, если даже вы и дѣло говорите, — вамъ же хуже; вашъ умъ, направленный на одно отрицаніе, бѣднѣетъ, сохнетъ. Удовлетворяя ваше самолюбіе, вы лишитесь истинныхъ наслажденій созерцанія; жизнь — сущность жизни — ускользаетъ отъ вашего мелкаго и желчнаго наблюденія, и вы кончите тѣмъ, что будете лаяться и смѣшить. Порицать, бранить имѣетъ право только тотъ, кто любитъ.
— Voilà m-r Pigassoff enterré, — проговорила Дарья Михайловна. — Какой вы мастеръ опредѣлять человѣка! Впрочемъ, Пигасовъ, вѣроятно, и не понялъ бы васъ. А любитъ онъ только собственную свою особу.
— И бранитъ ее для того, чтобы имѣть право бранить другихъ, — подхватилъ Рудинъ.
Дарья Михайловна засмѣялась.
— Съ больной… какъ это говорится… съ больного на здороваго. Кстати, что вы думаете о баронѣ?
— О баронѣ? Онъ хорошій человѣкъ, съ добрымъ сердцемъ и знающій… но въ немъ нѣтъ характера… и онъ весь свой вѣкъ останется полу-ученымъ, полу-свѣтскимъ человѣкомъ, т. е. дилетантомъ, т. е., говоря безъ обиняковъ, — ничѣмъ… А жаль!
— Я сама того же мнѣнія, — возразила Дарья Михайловна. Я читала его статью… Entre nous… cela а assez peu de fond…
— Кто же еще y васъ тутъ есть? — спросилъ, помолчавъ, Рудинъ.
Дарья Михайловна отряхнула пятымъ пальцемъ пепелъ съ пахитоски.
— Да больше почти никого нѣтъ. Липина, Александра Павловна, которую вы вчера видѣли: она очень мила, — но и только. Братъ ея — тоже прекрасный человѣкъ, un parfait honnête homme. Князя Гарина вы знаете. Вотъ и всѣ. Есть еще два-три сосѣда, но тѣ уже совсѣмъ ничего. Либо ломаются — претензіи страшныя — либо дичатся, или ужъ не кстати развязны. Барынь я, вы знаете, не вижу. Есть еще одинъ сосѣдъ, очень, говорятъ, образованный, даже ученый человѣкъ, но чудакъ ужасный, фантазёръ. Alexandrine его знаетъ, и кажется, къ нему неравнодушна… Вотъ, вамъ бы заняться ею, Дмитрій Николаичъ: это милое существо; ее надо только развить немножко, непремѣнно надо ее развить!
— Она очень симпатична, — замѣтилъ Рудинъ.
— Совершенное дитя, Дмитріи Николаичъ, ребенокъ настоящій. Она была замужемъ, mais c’est tout comme… Если-бъ я была мужчина, я только въ такихъ бы женщинъ влюблялась.
— Неужели?
— Непремѣнно. Такія женщины, по крайней мѣрѣ, свѣжи, а ужъ подъ свѣжесть поддѣлаться нельзя.
— А подо все другое можно? — спросилъ Рудинъ и засмѣялся, что съ нимъ случалось очень рѣдко. Когда онъ смѣялся, лицо его принимало странное, почти старческое выраженіе, глаза ежились, носъ морщился…
— А кто же такой этотъ, какъ вы говорите, чудакъ, къ которому г-жа Липина неравнодушна? — спросилъ онъ.
— Нѣкто Лежневъ, Михайло Михайлычъ, здѣшній помѣщикъ.
Рудинъ изумился и поднялъ голову.
— Лежневъ, Михайло Михайлычъ? — спросилъ онъ: — развѣ онъ сосѣдъ вашъ?
— Да. А вы его знаете?
Рудинъ помолчалъ.
— Я его знавалъ прежде… тому давно. Вѣдь онъ, кажется, богатый человѣкъ? — прибавилъ онъ, пощипывая рукою бахрому кресла.
— Да, богатый, хотя одѣвается ужасно и ѣздитъ на бѣговыхъ дрожкахъ, какъ прикащикъ. Я желала залучить его къ себѣ: онъ, говорятъ, уменъ; у меня же съ нимъ дѣло есть… Вѣдь, вы знаете, я сама распоряжаюсь моимъ имѣніемъ.
Рудинъ наклонилъ голову.
— Да, сама, — продолжала Дарья Михайловна: — я никакихъ иностранныхъ глупостей не ввожу, придерживаюсь своего, русскаго, и видите, дѣла, кажется, идутъ недурно, — прибавила она, проведя рукой кругомъ.
— Я всегда былъ убѣжденъ, — замѣтилъ вѣжливо Рудинъ: — въ крайней несправедливости тѣхъ людей, которые отказываютъ женщинамъ въ практическомъ смыслѣ.
Дарья Михайловна пріятно улыбнулась.
— Вы очень снисходительны, — промолвила она: — но что бишь я хотѣла сказать? О чемъ мы говорили? Да! о Лежневѣ. У меня съ нимъ дѣло по размежеванію. Я его нѣсколько разъ приглашала къ себѣ, и даже сегодня я его жду; но онъ, Богъ его знаетъ, не ѣдетъ… такой чудакъ!
Пологъ передъ дверью тихо распахнулся, и вошелъ дворецкій, человѣкъ высокаго роста, сѣдой и плѣшивый, въ черномъ фракѣ, бѣломъ галстухѣ и бѣломъ жилетѣ.
— Что ты? — спросила Дарья Михайловна и, слегка обратясь къ Рудину, прибавила вполголоса — n’est ce pas, comme il ressemble a Canning?
— Михайло Михайлычъ Лежневъ пріѣхали, — доложилъ дворецкій: — прикажете принять?
— Ахъ, Боже мой! — воскликнула Дарья Михайловна: — вотъ легокъ на поминѣ. Проси!
Дворецкій вышелъ.
— Такой чудакъ, пріѣхалъ наконецъ, и то не кстати: нашъ разговоръ перервалъ.
Рудинъ поднялся съ мѣста; но Дарья Михайловна его остановила.
— Куда же вы? Мы можемъ толковать и при васъ. А я желаю, чтобы вы его опредѣлили, какъ Пигасова. Когда вы говорите, vous gravez comme avec un burin. Останьтесь.
Рудинъ хотѣлъ-было что-то сказать, но подумалъ и остался.
Михайло Михайлычъ, уже знакомый читателю, вошелъ въ кабинетъ. На немъ было то же сѣрое пальто, и въ загорѣлыхъ рукахъ онъ держалъ ту же старую фуражку. Онъ спокойно поклонился Дарьѣ Михайловнѣ и подошелъ къ чайному столу.
— Наконецъ-то вы пожаловали къ намъ, мосьё Лежневъ! — проговорила Дарья Михайловна. — Прошу садиться. Вы, я слышала, знакомы, продолжала она, указывая на Рудина.
Лежневъ взглянулъ на Рудина и какъ-то странно улыбнулся.
— Я знаю господина Рудина, — промолвилъ онъ съ небольшимъ поклономъ.
— Мы вмѣстѣ были въ университетѣ, — замѣтилъ вполголоса Рудинъ и опустилъ глаза.
— Мы и послѣ встрѣчались, — холодно проговорилъ Лежневъ.
Дарья Михайловна посмотрѣла съ нѣкоторымъ изумленіемъ на обоихъ и попросила Лежнева сѣсть. Онъ сѣлъ.
— Вы желали меня видѣть, — началъ онъ: — на счетъ размежеванія?
— Да, на счетъ размежеванія, но я и такъ-таки желала васъ видѣть. Вѣдь мы близкіе сосѣди и чуть ли не съ родни.
— Очень вамъ благодаренъ, — возразилъ Лежневъ: — что же касается до размежеванія, то мы съ вашимъ управляющимъ совершенно покончили это дѣло: я на всѣ его предложенія согласенъ.
— Я это знала.
— Только онъ мнѣ сказалъ, что безъ личнаго свиданія съ вами бумаги подписать нельзя.
— Да; это у меня ужъ такъ заведено. Кстати, позвольте спросить, вѣдь у васъ, кажется, всѣ мужики на оброкѣ?
— Точно такъ.
— И вы сами хлопочете о размежеваніи? Это похвально.
Лежневъ помолчалъ.
— Вотъ, я и явился для личнаго свиданія, — проговорилъ онъ.
Дарья Михайловна усмѣхнулась.
— Вижу, что явились. Вы говорите это такимъ тономъ… Вамъ, должно быть, очень не хотѣлось ко мнѣ ѣхать.
— Я никуда не ѣзжу, — возразилъ флегматически Лежневъ.
— Никуда? А къ Александрѣ Павловнѣ вы ѣздите?
— Я съ ея братомъ давно знакомъ.
— Съ ея братомъ! Впрочемъ, я никого не принуждаю… Но, извините меня, Михайло Михайлычъ, я старше васъ годами и могу васъ пожурить: что́ вамъ за охота жить этакимъ бирюкомъ? Или собственно мой домъ вамъ не нравится? я вамъ не нравлюсь?
— Я васъ не знаю, Дарья Михайловна, и потому вы мнѣ не нравиться не можете. Домъ у васъ прекрасный; но, признаюсь вамъ откровенно, я не люблю стѣснять себя. У меня и фрака порядочнаго нѣтъ; перчатокъ нѣтъ; да я и не принадлежу къ вашему кругу.
— По рожденію, по воспитанію, вы принадлежите къ нему, Михайло Михайлычъ! vous êtes des nôtres.
— Рожденіе и воспитаніе въ сторону, Дарья Михайловна! Дѣло не въ томъ…
— Человѣкъ долженъ жить съ людьми, Михайло Михайлычъ! Что за охота сидѣть, какъ Діогенъ въ бочкѣ?
— Во-первыхъ ему тамъ было очень хорошо, а во-вторыхъ, почему вы знаете, что я не съ людьми живу?
Дарья Михайловна закусила губы.
— Это другое дѣло! Мнѣ остается только сожалѣть о томъ, что я не удостоилась попасть въ число людей, съ которыми вы знаетесь.
— Мосьё Лежневъ, — вмѣшался Рудинъ: — кажется преувеличиваетъ весьма похвальное чувство — любовь къ свободѣ.
Лежневъ ничего не отвѣтилъ и только взглянулъ на Рудина. Наступило небольшое молчаніе.
— Итакъ-съ, — началъ Лежневъ, поднимаясь: — я могу считать наше дѣло поконченнымъ и сказать вашему управляющему, чтобы онъ прислалъ ко мнѣ бумаги.
— Можете… хотя, признаться, вы такъ нелюбезны… мнѣ бы слѣдовало отказать вамъ.
— Да вѣдь это размежеваніе гораздо выгоднѣе для васъ, чѣмъ для меня.
Дарья Михайловна пожала плечами.
— Вы не хотите даже позавтракать у меня? — спросила она.
— Покорно васъ благодарю: я никогда не завтракаю, да и тороплюсь домой.
Дарья Михайловна встала.
— Я васъ не удерживаю, — промолвила она, подходя къ окну: — не смѣю васъ удерживать.
Лежневъ началъ раскланиваться.
— Прощайте, мосьё Лежневъ! Извините, что обезпокоила васъ.
— Ничего, помилуйте, — возразилъ Лежневъ и вышелъ.
— Каковъ? — спросила Дарья Михайловна у Рудина. — Я слыхала про него, что онъ чудакъ; но вѣдь ужъ это изъ рукъ вонъ!
— Онъ страдаетъ той же болѣзнью, какъ и Пигасовъ, — проговорилъ Рудинъ: — желаньемъ быть оригинальнымъ. Тотъ прикидывается Мефистофелемъ, этотъ — циникомъ. Во всемъ этомъ много эгоизма, много самолюбія и мало истины, мало любви. Вѣдь это тоже своего рода разсчетъ: надѣлъ на себя человѣкъ маску равнодушія и лѣни, авось, молъ, кто-нибудь подумаетъ: вотъ человѣкъ, сколько талантовъ въ себѣ погубилъ! А поглядѣть попристальнѣе — и талантовъ-то въ немъ никакихъ нѣтъ.
— Et de deux! — промолвила Дарья Михайловна. — Вы ужасный человѣкъ на опредѣленія. Отъ васъ не скроешься.
— Вы думаете? — промолвилъ Рудинъ… Впрочемъ, продолжалъ онъ: — по настоящему, мнѣ бы не слѣдовало говорить о Лежневѣ; я его любилъ, любилъ какъ друга… но потомъ, вслѣдствіе различныхъ недоразумѣній…
— Вы разсорились?
— Нѣтъ. Но мы разстались, и разстались, кажется, навсегда.
— То-то, я замѣтила, вы во все время его посѣщенія были какъ будто не по себѣ… Однако, я весьма вамъ благодарна за сегодняшнее утро. Я чрезвычайно пріятно провела время. Но надо же и честь знать. Отпускаю васъ до завтрака, а сама иду заниматься дѣлами. Мой секретарь, вы его видѣли — Constantin, c’est lui qui est mon sécrétaire — должно быть, уже ждетъ меня. Рекомендую его вамъ: онъ прекрасный, преуслужливый молодой человѣкъ, и въ совершенномъ восторгѣ отъ васъ. До свиданія, cher Дмитрій Николаичъ! Какъ я благодарна барону за то, что онъ познакомилъ меня съ вами!
И Дарья Михайловна протянула Рудину руку. Онъ сперва пожалъ ее, потомъ поднесъ къ губамъ и вышелъ въ залу, а изъ залы на террасу. На террасѣ онъ встрѣтилъ Наталью.
Ѵ.
Дочь Дарьи Михайловны, Наталья Алексѣевна, съ перваго взгляда могла не понравиться. Она еще не успѣла развиться, была худа, смугла, держалась немного сутуловато. Но черты ея лица были красивы и правильны, хотя слишкомъ велики для семнадцатилѣтней дѣвушки. Особенно хорошъ былъ ея чистый и ровный лобъ надъ тонкими, какъ бы надломленными по серединѣ бровями. Она говорила мало, слушала и глядѣла внимательно, почти пристально, — точно она себѣ во всемъ хотѣла дать отчетъ. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась; на лицѣ ея выражалась тогда внутренняя работа мыслей… Едва замѣтная улыбка появится вдругъ на губахъ и скроется; большіе, темные глаза тихо подымутся… Qu’avez vous? спроситъ ее m-lle Boncourt и начнетъ бранить ее, говоря, что молодой дѣвицѣ неприлично задумываться и принимать разсѣянный видъ. Но Наталья не была разсѣянна: напротивъ, она училась прилежно; читала и работала охотно. Она чувствовала глубоко и сильно, но тайно; она и въ дѣтствѣ рѣдко плакала, а теперь даже вздыхала рѣдко, и только блѣднѣла слегка, когда что-нибудь ее огорчало. Мать ее считала добронравной, благоразумной дѣвушкой, называла ее въ шутку: mon honnête homme de fille, но не была слишкомъ высокаго мнѣнія объ ея умственныхъ способностяхъ. „Наташа у меня, къ счастью, холодна — говаривала она — не въ меня… тѣмъ лучше. Она будетъ счастлива“. Дарья Михайловна ошибалась. Впрочемъ, рѣдкая мать понимаетъ дочь свою.
Наталья любила Дарью Михайловну и не вполнѣ ей довѣряла.
— Тебѣ нечего отъ меня скрывать, — сказала ей однажды Дарья Михайловна: — а то бы ты скрытничала: ты таки себѣ на умѣ…
Наталья поглядѣла матери въ лицо и подумала: „для чего же не быть себѣ на умѣ?“
Когда Рудинъ встрѣтилъ ее на террасѣ, она вмѣстѣ съ m-lle Boncourt шла въ комнату, чтобы надѣть шляпу и отправиться въ садъ. Утреннія ея занятія уже кончились. Наталью перестали держать, какъ дѣвочку, m-lle Boncourt давно уже не давала ей уроковъ изъ миѳологіи и географіи; но Наталья должна была каждое утро читать историческія книги, путешествія и другія назидательныя сочиненія — при ней. Выбирала ихъ Дарья Михайловна, будто бы придерживаясь особой, своей системы. На самомъ дѣлѣ, она просто передавала Натальѣ все, что́ ей присылалъ французъ-книгопродавецъ изъ Петербурга, исключая, разумѣется, романовъ Дюма́-фиса и Комп. Эти романы Дарья Михайловна читала сама. M-lle Boncourt особенно строго и кисло посматривала черезъ очки свои, когда Наталья читала историческія книги: по понятіямъ старой француженки, вся исторія была наполнена непозволительными вещами, хотя она сама изъ великихъ мужей древности знала, почему-то только одного Камбиза, а изъ новѣйшихъ временъ — Людовика ХІѴ и Наполеона, котораго терпѣть не могла. Но Наталья читала и такія книги, существованія которыхъ m-lle Boncourt не подозрѣвала: она знала наизусть всего Пушкина…
Наталья слегка покраснѣла при встрѣчѣ съ Рудинымъ.
— Вы идете гулять? — спросилъ онъ се.
— Да. Мы идемъ въ садъ.
— Можно идти съ вами?
Наталья взглянула на m-lle Boncourt.
— Mais certainement, monsieur, avec plaisir, — поспѣшно проговорила старая дѣва.
Рудинъ взялъ шляпу и пошелъ вмѣстѣ съ ними.
Натальѣ было сперва неловко идти рядомъ съ Рудинымъ по одной дорожкѣ; потомъ ей немного легче стало. Онъ началъ разспрашивать ее о ея занятіяхъ, о томъ, какъ ей нравится деревня. Она отвѣчала не безъ робости, но безъ той торопливой застѣнчивости, которую такъ часто и выдаютъ, и принимаютъ за стыдливость. Сердце у ней билось.
— Вы не скучаете въ деревнѣ? — спросилъ Рудинъ, окидывая ее боковымъ взоромъ.
— Какъ можно скучать въ деревнѣ? Я очень рада, что мы здѣсь. Я здѣсь очень счастлива.
— Вы счастливы… Это великое слово. Впрочемъ, это понятно: вы молоды.
Рудинъ произнесъ это послѣднее слово какъ-то странно: не то онъ завидовалъ Натальѣ, не то онъ сожалѣлъ о ней.
— Да! молодость! — прибавилъ онъ. — Вся цѣль науки — дойти сознательно до того, что́ молодости дается даромъ.
Наталья внимательно посмотрѣла на Рудина: она не поняла его.
— Я сегодня цѣлое утро разговаривалъ съ вашей матушкой, — продолжалъ онъ: — она необыкновенная женщина. Я понимаю, почему всѣ наши поэты дорожили ея дружбой. А вы любите стихи? — прибавилъ онъ, помолчавъ немного.
„Онъ меня экзаменуетъ“, подумала Наталья и промолвила: — да, очень люблю.
— Поэзія — языкъ боговъ. Я самъ люблю стихи. Но не въ однихъ стихахъ поэзія: она разлита вездѣ, она вокругъ насъ… Взгляните на эти деревья, на это небо — отовсюду вѣетъ красотою и жизнью; а гдѣ красота и жизнь, тамъ и поэзія.
— Сядемте здѣсь, на скамью, — продолжалъ онъ. — Вотъ такъ. Мнѣ почему-то кажется, что когда вы попривыкнете ко мнѣ (и онъ съ улыбкой посмотрѣлъ ей въ лицо), мы будемъ пріятели съ вами. Какъ вы полагаете?
„Онъ обращается со мной, какъ съ дѣвочкой“, подумала опять Наталья и, не зная, что сказать, спросила его, долго ли онъ намѣренъ остаться въ деревнѣ.
— Все лѣто, осень, а можетъ быть и зиму. Я, вы знаете, человѣкъ очень небогатый; дѣла мои разстроены, да и притомъ, мнѣ уже наскучило таскаться съ мѣста на мѣсто. Пора отдохнуть.
Наталья изумилась.
— Неужели вы находите, что вамъ пора отдыхать? — спросила она робко.
Рудинъ повернулся лицомъ къ Натальѣ.
— Что́ вы хотите этимъ сказать?
— Я хочу сказать, — возразила она съ нѣкоторымъ смущеніемъ: — что отдыхать могутъ другіе; а вы… вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ. Кому же, какъ не вамъ…
— Благодарю за лестное мнѣніе, — перебилъ ее Рудинъ. — Быть полезнымъ… легко сказать! (Онъ провелъ рукою по лицу). Быть полезнымъ! — повторилъ онъ. — Если-бъ даже было во мнѣ твердое убѣжденіе: какъ я могу быть полезнымъ? — если-бъ я даже вѣрилъ въ свои силы — гдѣ найти искреннія, сочувствующія души?…
И Рудинъ такъ безнадежно махнулъ рукою и такъ печально поникъ головою, что Наталья невольно спросила себя: полно, его ли восторженныя, дышащія надеждой, рѣчи она слышала наканунѣ?
— Впрочемъ, нѣтъ, — прибавилъ онъ, внезапно встряхнулъ своей львиной гривой: — это вздоръ, и вы правы. Благодарю васъ, Наталья Алексѣевна, благодарю васъ искренно. (Наталья рѣшительно не знала, за что онъ ее благодаритъ). Ваше одно слово напомнило мнѣ мой долгъ, указало мнѣ мою дорогу… Да, я долженъ дѣйствовать. Я не долженъ скрывать свой талантъ, если онъ у меня есть; я не долженъ растрачивать свои силы на одну болтовню пустую, безполезную болтовню, на однѣ слова…
И слова его полились рѣкою. Онъ говорилъ прекрасно, горячо, убѣдительно — о позорѣ малодушія и лѣни, о необходимости дѣлать дѣло. Онъ осыпалъ самого себя упреками, доказывалъ, что разсуждать напередъ о томъ, что́ хочешь сдѣлать, такъ же вредно, какъ накалывать булавкой наливающійся плодъ, что это только напрасная трата силъ и соковъ. Онъ увѣрялъ, что нѣтъ благородной мысли, которая бы не нашла себѣ сочувствія, что непонятными остаются только тѣ люди, которые либо еще сами не знаютъ, чего хотятъ, либо не сто́ятъ того, чтобы ихъ понимали. Онъ говорилъ долго, и окончилъ тѣмъ, что еще разъ поблагодарилъ Наталью Алексѣевну и совершенно неожиданно стиснулъ ей руку, промолвивъ: — Вы прекрасное, благородное существо!
Эта вольность поразила m-lle Boncourt, которая, несмотря на сорокалѣтнее пребываніе въ Россіи, съ трудомъ понимала по-русски и только удивлялась красивой быстротѣ и плавности рѣчи въ устахъ Рудина. Впрочемъ, онъ въ ея глазахъ былъ чѣмъ-то въ родѣ виртуоза или артиста; а отъ подобнаго рода людей, по ея понятіямъ, невозможно было требовать соблюденія приличій.
Она встала, и порывисто поправивъ на себѣ платье, объявила Натальѣ, что пора идти домой, тѣмъ болѣе, что monsieur Volinsoff (такъ она называла Волынцева) хотѣлъ быть къ завтраку.
— Да вотъ и онъ! — прибавила она, взглянувъ въ одну изъ аллей, ведущихъ отъ дому.
Дѣйствительно, Волынцевъ показался не вдалекѣ.
Онъ подошелъ нерѣшительнымъ шагомъ, издали раскланялся со всѣми и, съ болѣзненнымъ выраженіемъ на лицѣ обратясь къ Натальѣ, проговорилъ:
— А! вы гуляете?
— Да, — отвѣчала Наталья. — мы уже шли домой.
— А! — произнесъ Волынцевъ. — Чтожъ, пойдемте.
И всѣ пошли къ дому.
— Какъ здоровье вашей сестры? — спросилъ, какимъ-то особенно ласковымъ голосомъ, Рудинъ у Волынцева. Онъ и наканунѣ былъ очень съ нимъ любезенъ.
— Покорно благодарю. Она здорова. Она сегодня, можетъ быть, будетъ… Вы, кажется, о чемъ-то разсуждали, когда я подошелъ!
— Да, у насъ былъ разговоръ съ Натальей Алексѣевной. Она мнѣ сказала одно слово, которое сильно на меня подѣйствовало…
Волынцевъ не спросилъ, какое это было слово, и всѣ въ глубокомъ молчаніи возвратились въ домъ Дарьи Михайловны.
•••
Передъ обѣдомъ опять составился салонъ. Пигасовъ, однако, не пріѣхалъ. Рудинъ не былъ въ ударѣ; онъ все заставлялъ Пандалевскаго играть изъ Бетховена. Волынцевъ молчалъ и поглядывалъ на полъ. Наталья не отходила отъ матери, и то задумывалась, то принималась за работу. Басистовъ не спускалъ глазъ съ Рудина, все выжидая, не скажетъ ли онъ чего-нибудь умнаго? Такъ прошло часа три довольно однообразно. Александра Павловна не пріѣхала къ обѣду — и Волынцевъ, какъ только встали изъ-за стола, тотчасъ велѣлъ заложить свою коляску и ускользнулъ, не простясь ни съ кѣмъ.
Ему было тяжело. Онъ давно любилъ Наталью и все собирался сдѣлать ей предложеніе… Она къ нему благоволила — но сердце ея оставалось спокойнымъ: онъ это ясно видѣлъ. Онъ и не надѣялся внушить ей чувство болѣе нѣжное и ждалъ только мгновенья, когда она совершенно привыкнетъ къ нему, сблизится съ нимъ. Что же могло взволновать его? какую перемѣну замѣтилъ онъ въ эти два дня? Наталья обращалась съ нимъ точно такъ же, какъ и прежде…
Запала ли ему въ душу мысль, что онъ, быть можетъ, вовсе не знаетъ нрава Натальи, что она ему еще болѣе чужда, чѣмъ онъ думалъ, — ревность ли проснулась въ немъ, смутно ли почуялъ онъ что-то недоброе… но только онъ страдалъ, какъ ни уговаривалъ самого себя.
Когда онъ вошелъ къ своей сестрѣ, у ней сидѣлъ Лежневъ.
— Что это ты такъ рано вернулся? — спросила Александра Павловна.
— Такъ! соскучилось.
— Рудинъ тамъ?
— Тамъ.
Волынцевъ бросилъ фуражку и сѣлъ.
Александра Павловна съ живостью обратилась къ нему.
— Пожалуйста, Сережа, помоги мнѣ убѣдить этого упрямаго человѣка (она указала на Лежнева) въ томъ, что Рудинъ необыкновенно уменъ и краснорѣчивъ.
Волынцевъ промычалъ что-то.
— Да я нисколько съ вами не спорю, — началъ Лежневъ, — я не сомнѣваюсь въ умѣ и краснорѣчіи г. Рудина; я говорю только, что онъ мнѣ не нравится.
— А ты его развѣ видѣлъ? — спросилъ Волынцевъ.
— Видѣлъ сегодня поутру, у Дарьи Михайловны. Вѣдь онъ у ней теперь великимъ визиремъ. Придетъ время, она и съ нимъ разстанется — она съ однимъ Пандалевскимъ никогда не разстанется, — но теперь онъ царитъ. Видѣлъ его, какъ же! Онъ сидитъ — а она меня ему показываетъ: глядите, молъ, батюшка, какіе у насъ водятся чудаки. Я не заводская лошадь — къ выводкѣ не привыкъ. Я взялъ, да уѣхалъ.
— Да зачѣмъ ты былъ у ней?
— По размежеванію; да это вздоръ: ей просто хотѣлось посмотрѣть на мою физіономію. Барыня — извѣстно!
— Васъ оскорбляетъ его превосходство — вотъ что! — заговорила съ жаромъ Александра Павловна: — вотъ чего вы ему простить не можете. А я увѣрена, что, кромѣ ума, у него и сердце должно быть отличное. Вы взгляните на его глаза, когда онъ…
— „О честности высокой говоритъ“… — подхватилъ Лежневъ.
— Вы меня разсердите, и я заплачу. Я отъ души сожалѣю, что не поѣхала къ Дарьѣ Михайловнѣ и осталась съ вами. Вы этого не сто́ите. Полноте дразнить меня, — прибавила она жалобнымъ голосомъ. — Вы лучше разскажите мнѣ объ его молодости.
— О молодости Рудина?
— Ну, да. Вѣдь вы мнѣ сказали, что хорошо его знаете и давно съ нимъ знакомы.
Лежневъ всталъ и прошелся по комнатѣ.
— Да, — началъ онъ: — я его хорошо знаю. Вы хотите, чтобы я разсказалъ вамъ его молодость? Извольте. Родился онъ въ Т…вѣ, отъ бѣдныхъ помѣщиковъ. Отецъ его скоро умеръ. Онъ остался одинъ у матери. Она была женщина добрѣйшая и души въ немъ не чаяла: толокномъ однимъ питалась, и всѣ, какія были у ней, денежки употребляла на него. Получилъ онъ свое воспитаніе въ Москвѣ, сперва на счетъ какого-то дяди, а потомъ, когда онъ подросъ и оперился, на счетъ одного богатаго князька, съ которымъ снюхался… ну, извините, не буду… съ которымъ сдружился. Потомъ онъ поступилъ въ университетъ. Въ университетѣ я узналъ его и сошелся съ нимъ очень тѣсно. О нашемъ тогдашнемъ житьѣ-бытьѣ я поговорю съ вами когда-нибудь послѣ. Теперь не могу. Потомъ онъ уѣхалъ за границу…
Лежневъ продолжалъ расхаживать но комнатѣ; Александра Павловна слѣдила за нимъ взоромъ.
— Изъ-за границы, — продолжалъ онъ, — Рудинъ писалъ къ своей матери чрезвычайно рѣдко, и посѣтилъ ее всего одинъ разъ, дней на десять… Старушка и скончалась безъ него, на чужихъ рукахъ; но до самой смерти не спускала глазъ съ его портрета. Я къ ней ѣзжалъ, когда проживалъ въ Т…вѣ. Добрая была женщина и прегостепріимная; вишневымъ вареньемъ, бывало, все меня потчевала. Она любила своего Митю безъ памяти. Господа Печоринской школы скажутъ вамъ, что мы всегда любимъ тѣхъ, которые сами мало способны любить: а мнѣ такъ кажется, что всѣ матери любятъ своихъ дѣтей, особенно отсутствующихъ. Потомъ, я встрѣтился съ Рудинымъ за границей. Тамъ къ нему одна барыня привязалась, изъ нашихъ русскихъ, синій чулокъ какой-то, уже не молодой и некрасивый, какъ оно и слѣдуетъ синему чулку. Онъ довольно долго съ ней возился, и наконецъ ее бросилъ… или нѣтъ, бишь, виноватъ: она его бросила. И я тогда его бросилъ. Вотъ и все.
Лежневъ умолкъ, провелъ рукою по лбу и, словно усталый, опустился на кресло.
— А знаете ли что́, Михайло Михайлычъ, — начала Александра Павловна: — вы, я вижу, злой человѣкъ; право, вы не лучше Пигасова. Я увѣрена, что все, что вы сказали, правда, что вы ничего не присочинили, и между тѣмъ, въ какомъ непріязненномъ свѣтѣ вы все это представили! Эта бѣдная старушка, ея преданность, ея одинокая смерть, эта барыня… Къ чему это все?… Знаете ли, что можно жизнь самаго лучшаго человѣка изобразить въ такихъ краскахъ — и ничего не прибавляя, замѣтьте — что всякій ужаснется! Вѣдь это тоже своего рода клевета!
Лежневъ всталъ и опять прошелся по комнатѣ.
— Я вовсе не желалъ заставить васъ ужаснуться, Александра Павловна, — проговорилъ онъ наконецъ. — Я не клеветникъ. А впрочемъ, — прибавилъ онъ, подумавъ немного: — дѣйствительно, въ томъ, что вы сказали, есть доля правды. Я не клеветалъ на Рудина; но — кто знаетъ! — можетъ быть, онъ съ тѣхъ поръ успѣлъ измѣниться — можетъ быть, я несправедливъ къ нему.
— А! вотъ видите… Такъ обѣщайте же мнѣ, что вы возобновите съ нимъ знакомство, узнаете его хорошенько и тогда уже выскажете мнѣ свое окончательное мнѣніе о немъ.
— Извольте… Но что же ты молчишь, Сергѣй Павлычъ?
Волынцевъ вздрогнулъ и поднялъ голову, какъ будто его разбудили.
— Что́ мнѣ говорить? Я его не знаю. Притомъ, у меня сегодня голова болитъ.
— Ты, точно, что-то блѣденъ сегодня, — замѣтила Александра Павловна: — здоровъ ли ты?
— У меня голова болитъ, — повторилъ Волынцевъ и вышелъ вонъ.
Александра Павловна и Лежневъ посмотрѣли ему въ слѣдъ и обмѣнялись взглядомъ, но ничего не сказали другъ другу. ІНи для него, ни для нея не было тайной, что́ происходило въ сердцѣ Волынцева.
ѴІ.
Прошло два мѣсяца слишкомъ. Въ теченіи всего этого времени Рудинъ почти не выѣзжалъ отъ Дарьи Михайловны. Она не могла обойтись безъ него. Разсказывать ему о себѣ, слушать его разсужденія, стало для нея потребностью. Онъ, однажды, хотѣлъ уѣхать, подъ тѣмъ предлогомъ, что у него вышли всѣ деньги: она дала ему пятьсотъ рублей. Онъ занялъ также у Волынцева рублей двѣсти. Пигасовъ гораздо рѣже прежняго посѣщалъ Дарью Михайловну: Рудинъ давилъ его своимъ присутствіемъ. Впрочемъ, давленіе это испытывалъ не одинъ Пигасовъ.
— Не люблю я этого умника, — говаривалъ онъ: — выражается онъ неестественно, ни дать, ни взять, лицо изъ русской повѣсти: скажетъ: „я“, и съ умиленіемъ остановится… „Я, молъ, я…“ Слова употребляетъ все такія длинныя. Ты чихнешь, — онъ тебѣ сейчасъ станетъ доказывать, почему ты именно чихнулъ, а не кашлянулъ… Хвалитъ онъ тебя — точно въ чинъ производитъ… Начнетъ самого себя бранить, съ грязью себя смѣшаетъ — ну, думаешь, теперь на свѣтъ Божій глядѣть не станетъ. Какое! повеселѣетъ даже, словно горькой водкой себя попотчивалъ.
Пандалевскій побаивался Рудина и осторожно за нимъ ухаживалъ. Волынцевъ находился въ странныхъ отношеніяхъ съ нимъ. Рудинъ называлъ его рыцаремъ, превозносилъ его, въ глаза и за глаза; но Волынцевъ не могъ полюбить его и всякій разъ чувствовалъ невольное нетерпѣніе и досаду, когда тотъ принимался въ его же присутствіи разбирать его достоинства. „Ужъ не смѣется ли онъ надо мною?“ думалъ онъ, и враждебно шевелилось въ немъ сердце. Волынцевъ старался переломить себя; но онъ ревновалъ его къ Натальѣ. Да и самъ Рудинъ, хотя всегда шумно привѣтствовалъ Волынцева, хотя называлъ его рыцаремъ и занималъ у него деньги, едва ли былъ къ нему расположенъ. Трудно было бы опредѣлить, что собственно чувствовали эти два человѣка, когда, стискивая по-пріятельски одинъ другому руки, они глядѣли другъ другу въ глаза…
Басистовъ продолжалъ благоговѣть передъ Рудинымъ и ловить на лету каждое его слово. Рудинъ мало обращалъ на него вниманія. Какъ-то, разъ, онъ провелъ съ нимъ цѣлое утро, толковалъ съ нимъ о самыхъ важныхъ міровыхъ вопросахъ и задачахъ, и возбудилъ въ немъ живѣйшій восторгъ; но потомъ онъ его бросилъ… Видно, онъ только на словахъ искалъ чистыхъ и преданныхъ душъ. Съ Лежневымъ, который началъ ѣздить къ Дарьѣ Михайловнѣ, Рудинъ даже въ споръ не вступалъ и какъ будто избѣгалъ его. Лежневъ такъ же обходился съ нимъ холодно, а впрочемъ не высказывалъ своего окончательнаго мнѣнія о немъ, что очень смущало Александру Павловну. Она преклонялась передъ Рудинымъ; но и Лежневу она вѣрила. Всѣ въ домѣ Дарьи Михайловны покорялись прихоти Рудина: малѣйшія желанія его исполнялись. Порядокъ дневныхъ занятій отъ него зависѣлъ. Ни одна partie de plaisir не составлялась безъ него. Впрочемъ, онъ не большой былъ охотникъ до всякихъ внезапныхъ поѣздокъ и затѣй, и участвовалъ въ нихъ, какъ взрослые въ дѣтскихъ играхъ, съ ласковымъ и слегка скучающимъ благоволеніемъ. За то онъ входилъ во все: толковалъ съ Дарьей Михайловной о распоряженіяхъ но имѣнію, о воспитаніи дѣтей, о хозяйствѣ, вообще о дѣлахъ; выслушивалъ ея предположенія, не тяготился даже мелочами, предлагалъ преобразованія и нововведенія. Дарья Михайловна восхищалась ими на словахъ — и только. Въ дѣлѣ хозяйства она придерживалась совѣтовъ своего управляющаго, пожилого одноглазаго малоросса, добродушнаго и хитраго плута. — „Старенькое-то жирненько, молоденькое худенько“, говаривалъ онъ, спокойно ухмыляясь и подмигивая своимъ единственнымъ глазомъ.
Послѣ самой Дарьи Михайловны Рудинъ ни съ кѣмъ такъ часто и такъ долго не бесѣдовалъ, какъ съ Натальей. Онъ тайкомъ давалъ ей книги, повѣрялъ ей свои планы, читалъ ей первыя страницы предполагаемыхъ статей и сочиненій. — Смыслъ ихъ часто оставался недоступнымъ для Натальи. Впрочемъ, Рудинъ, казалось, и не очень заботился о томъ, чтобы она его понимала — лишь бы слушала его. Близость его съ Натальей была не совсѣмъ по нутру Дарьѣ Михайловнѣ. Но — думала она — пускай она съ нимъ поболтаетъ въ деревнѣ. Она забавляетъ его, какъ дѣвочка. Бѣды большой нѣтъ, а она все-таки поумнѣетъ… Въ Петербургѣ я это все перемѣню…
Дарья Михайловна ошибалась. Не какъ дѣвочка болтала Наталья съ Рудинымъ: она жадно внимала его рѣчамъ, она старалась вникнуть въ ихъ значеніе; она повергала на судъ его свои мысли, свои сомнѣнія: онъ былъ ея наставникомъ, ея вождемъ. Пока — одна голова у ней кипѣла… но молодая головка недолго кипитъ одна. Какія сладкія мгновенія переживала Наталья, когда, бывало, въ саду, на скамейкѣ, въ легкой, сквозной тѣни ясени, Рудинъ начнетъ читать ей гётевскаго Фауста, Гоффмана, или Письма Беттины, или Новалиса, безпрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темнымъ! Она по-нѣмецки говорила плохо, какъ почти всѣ наши барышни, но понимала хорошо, а Рудинъ былъ весь погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій міръ, и увлекалъ ее за собой въ тѣ заповѣдныя страны. Невѣдомыя, прекрасныя, раскрывались онѣ передъ ея внимательнымъ взоромъ; со страницъ книги, которую Рудинъ держалъ въ рукахъ, дивные образы, новыя, свѣтлыя мысли такъ и лились звенящими струями ей въ душу, и въ сердцѣ ея, потрясенномъ благородной радостью великихъ ощущеній, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга…
— Скажите, Дмитрій Николаичъ, — начала она однажды, сидя у окна за пяльцами: — вѣдь вы на зиму поѣдете въ Петербургъ?
— Не знаю, — возразилъ Рудинъ, опуская на колѣни книгу, которую перелистывалъ: — если соберусь со средствами, поѣду.
Онъ говорилъ вяло: онъ чувствовалъ усталость и бездѣйствовалъ съ самаго утра.
— Мнѣ кажется, какъ не найти вамъ средства?
Рудинъ покачалъ головой.
— Вамъ такъ кажется!
И онъ значительно глянулъ въ сторону.
Наталья хотѣла было что-то сказать и удержалась.
— Посмотрите, — началъ Рудинъ, и указалъ ей рукой въ окно: — видите вы эту яблоню: она сломилась отъ тяжести и множества своихъ собственныхъ плодовъ. Вѣрная эмблема генія…
— Она сломилась оттого, что у ней не было подпоры, — возразила Наталья.
— Я васъ понимаю, Наталья Алексѣевна; но человѣку не такъ легко сыскать ее, эту подпору.
— Мнѣ кажется, сочувствіе другихъ… во всякомъ случаѣ, одиночество…
Наталья немного запуталась и покраснѣла.
— И что вы будете дѣлать зимой въ деревнѣ? — поспѣшно прибавила она.
— Что я буду дѣлать? Окончу мою большую статью — вы знаете — о трагическомъ въ жизни и въ искусствѣ — я вамъ третьяго-дня планъ разсказывалъ — и пришлю ее вамъ?
— И напечатаете?
— Нѣтъ.
— Какъ нѣтъ? Для кого же вы будете трудиться?
— А хоть бы для васъ.
Наталья опустила глаза.
— Это не по моимъ силамъ, Дмитрій Николаичъ!
— О чемъ, позвольте спросить, статья? — скромно спросилъ Басистовъ, сидѣвшій поодаль.
— О трагическомъ въ жизни и въ искусствѣ, повторилъ Рудинъ. — Вотъ и г. Басистовъ прочтетъ. Впрочемъ, я не совсѣмъ еще сладилъ съ основною мыслью. Я до сихъ поръ еще не довольно уяснилъ самому себѣ трагическое значеніе любви.
Рудинъ охотно и часто говорилъ о любви. Сначала, при словѣ: любовь, m-lle Boncourt вздрагивала и навостривала уши, какъ старый полковой конь, заслышавшій трубу, но потомъ привыкла и только, бывало, съёжитъ губы и съ разстановкой понюхаетъ табаку.
— Мнѣ кажется, — робко замѣтила Наталья — трагическое въ любви — это несчастная любовь.
— Вовсе нѣтъ! — возразилъ Рудинъ: — это скорѣе комическая сторона любви… Вопросъ этотъ надобно совсѣмъ иначе поставить… надо поглубже зачерпнуть… Любовь! — продолжалъ онъ: — въ ней все тайна: какъ она приходитъ, какъ развивается, какъ исчезаетъ. То является она вдругъ, несомнѣнная, радостная, какъ день, то долго тлѣетъ, какъ огонь подъ золой, и пробивается пламенемъ въ душѣ, когда уже все разрушено; то вползетъ она въ сердце, какъ змѣя, то вдругъ выскользнетъ изъ него вонъ… Да, да; это вопросъ важный. Да и кто любитъ въ наше время, кто дерзнетъ любить?
И Рудинъ задумался.
— Что это Сергѣя Павлыча давно не видать? — спросилъ онъ вдругъ.
Наталья вспыхнула и нагнула голову къ пяльцамъ.
— Не знаю, прошептала она.
— Какой это прекраснѣйшій, благороднѣйшій человѣкъ! — промолвилъ Рудинъ, вставая. — Это одинъ изъ лучшихъ образцовъ настоящаго русскаго дворянина…
M-lle Boncourt посмотрѣла на него вкось своими французскими глазками.
Рудинъ прошелся по комнатѣ.
— Замѣтили ли вы, — заговорилъ онъ, круто повернувшись на каблукахъ: — что на дубѣ — а дубъ крѣпкое дерево — старые листья только тогда отпадаютъ, когда молодые начнутъ пробиваться?
— Да, — медленно возразила Наталья: — замѣтила.
— Точно то же случается и съ старой любовью въ сильномъ сердцѣ: она уже вымерла, но все еще держится; только другая, новая любовь можетъ ее выжить.
Наталья ничего не отвѣтила.
„Что это значитъ?“ подумала она.
Рудинъ постоялъ, встряхнулъ волосами и удалился.
А Наталья пошла къ себѣ въ комнату. Долго сидѣла она въ недоумѣніи на своей кроватки, долго размышляла о послѣднихъ словахъ Рудина и вдругъ сжала руки и горько заплакала. О чемъ она плакала — Богъ вѣдаетъ! Она сама не знала, отчего у ней такъ внезапно полились слезы. Она утирала ихъ; но онѣ бѣжали вновь, какъ вода изъ давно накопившагося родника.
•••
Въ тотъ же самый день и у Александры Павловны происходилъ разговоръ о Рудинѣ съ Лежневымъ. Сперва онъ все отмалчивался; но она рѣшилась добиться толку.
— Я вижу, — сказала она ему: — вамъ Дмитрій Николаевичъ, по-прежнему, не нравится. Я нарочно до сихъ поръ васъ не разспрашивала; но вы теперь уже успѣли убѣдиться, произошла ли въ немъ перемѣна, и я желаю знать, почему онъ вамъ не нравится.
— Извольте, — возразилъ съ обычной флегмой Лежневъ: — коли ужъ вамъ такъ не терпится; только, смотрите, не сердитесь…
— Ну, начинайте, начинайте.
— И дайте мнѣ выговорить все до конца.
— Извольте, извольте, начинайте.
— И такъ-съ, — началъ Лежневъ, медлительно опускаясь на диванъ: — доложу вамъ, мнѣ Рудинъ, дѣйствительно, не нравится. Онъ умный человѣкъ…
— Еще бы!
— Онъ замѣчательно умный человѣкъ, хотя въ сущности пустой…
— Это легко сказать!
— Хотя въ сущности пустой, — повторилъ Лежневъ: — но это еще не бѣда: всѣ мы пустые люди. Я даже не ставлю въ вину ему то, что онъ деспотъ въ душѣ, лѣнивъ, не очень свѣдущъ…
Александра Павловна всплеснула руками.
— Не очень свѣдущъ! Рудинъ! — воскликнула она.
— Не очень свѣдущъ, — точно тѣмъ же голосомъ повторилъ Лежневъ: — любитъ пожить на чужой счетъ, разыгрываетъ роль, и такъ далѣе… это все въ порядкѣ вещей. Но дурно то, что онъ холоденъ, какъ лёдъ.
— Онъ, эта пламенная душа, холоденъ! — перебила Александра Павловна.
— Да, холоденъ, какъ лёдъ, и знаетъ это, и прикидывается пламеннымъ. Худо то́, — продолжалъ Лежневъ, постепенно оживляясь: — что онъ играетъ опасную игру, — опасную не для него, разумѣется; самъ копѣйки, волоска не ставитъ на карту — а другіе ставятъ душу…
— О комъ, о чемъ вы говорите? я васъ не понимаю, — проговорила Александра Павловна.
— Худо то́, что онъ не честенъ. Вѣдь онъ умный человѣкъ: онъ долженъ же знать цѣну словъ своихъ, — а произноситъ ихъ такъ, какъ будто они ему что-нибудь сто́ятъ… Спору нѣтъ, онъ краснорѣчивъ; только краснорѣчіе его не русское. Да и, наконецъ, красно говорить простительно юношѣ, а въ его годы стыдно тѣшиться шумомъ собственныхъ рѣчей, стыдно рисоваться!
— Мнѣ кажется, Михайло Михайлычъ, для слушателя все равно, рисуетесь ли вы или нѣтъ…
— Извините, Александра Павловна, не все равно. Иной скажетъ мнѣ слово, меня всего пройметъ, другой то же самое слово скажетъ, или еще красивѣе, — я и ухомъ не поведу. Отчего это?
— То-есть вы не поведете, — перебила Александра Павловна.
— Да, не поведу, — возразилъ Лежневъ: — хотя, можетъ быть, у меня и большія уши. Дѣло въ томъ, что слова Рудина такъ и остаются словами, и никогда не станутъ поступкомъ — а между тѣмъ, эти самыя слова могутъ смутить, погубить молодое сердце.
— Да о комъ, о комъ вы говорите, Михайло Михайлычъ?
Лежневъ остановился.
— Вы желаете знать, о комъ я говорю? О Натальѣ Алексѣевнѣ.
Александра Павловна смутилась на мгновеніе, но тотчасъ же усмѣхнулась.
— Помилуйте, — начала она: — какія у васъ всегда странныя мысли! Наталья еще ребенокъ; да, наконецъ, если-бъ что-нибудь и было, неужели вы думаете, что Дарья Михайловна. …
— Дарья Михайловна, во-первыхъ, эгоистка и живетъ для себя; а во-вторыхъ, она такъ увѣрена въ своемъ умѣньѣ воспитывать дѣтей, что ей и въ голову не приходитъ безпокоиться о нихъ. Фи! какъ можно! одно мгновенье, одинъ величественный взглядъ — и все пойдетъ, какъ по ниточкѣ. Вотъ что думаетъ эта барыня, которая и меценаткой себя воображаетъ, и умницей, и Богъ знаетъ чѣмъ, а на дѣлѣ она больше ничего, какъ свѣтская старушонка. А Наталья не ребенокъ: она, повѣрьте, чаще и глубже размышляетъ, чѣмъ мы съ вами. И надобно же, чтобы этакая честная, страстная и горячая натура наткнулась на такого актера, на такую кокетку! Впрочемъ, и это въ порядкѣ вещей.
— Кокетка! Это вы его́ называете кокеткой?
— Конечно его́… Ну, скажите сами, Александра Павловна, что за роль его у Дарьи Михайловны? Быть идоломъ, оракуломъ въ домѣ, вмѣшиваться въ распоряженія, въ семейныя сплетни и дрязги — неужели это достойно мужчины?
Александра Павловна съ изумленіемъ посмотрѣла Лежневу въ лицо.
— Я не узнаю васъ, Михайло Михайлычъ, — проговорила она. — Вы покраснѣли, вы пришли въ волненіе. Право, тутъ что-нибудь должно скрываться другое…
— Ну, такъ и есть! Ты говоришь женщинѣ дѣло, по убѣжденію; а она до тѣхъ поръ не успокоится, пока не придумаетъ какой-нибудь мелкой, посторонней причины, заставляющей тебя говорить именно такъ, а не иначе.
Александра Павловна разсердилась.
— Браво, мосьё Лежневъ! вы начинаете преслѣдовать женщинъ не хуже г. Пигасова; но, воля ваша, какъ вы ни проницательны, все-таки мнѣ трудно повѣрить, чтобы вы въ такое короткое время могли всѣхъ и все понять. Мнѣ кажется, вы ошибаетесь. По вашему, Рудинъ Тартюфъ какой-то.
— Въ томъ-то и дѣло, что онъ даже не Тартюфъ. Тартюфъ, тотъ, по-крайней мѣрѣ, зналъ, чего добивался; а этотъ, при всемъ своемъ умѣ…
— Что же, что же онъ? Доканчивайте вашу рѣчь, несправедливый, гадкій человѣкъ!
Лежневъ всталъ.
— Послушайте, Александра Павловна, началъ онъ: — несправедливы-то вы, а не я. Вы досадуете на меня за мои рѣзкія сужденія о Рудинѣ: я имѣю право говорить о немъ рѣзко! Я, можетъ быть, не дешевой цѣной купилъ это право. Я хорошо его знаю: я долго жилъ съ нимъ вмѣстѣ. Помните, я обѣщался разсказать вамъ когда-нибудь наше житье въ Москвѣ. Видно, придется теперь это сдѣлать. Но будете ли вы имѣть терпѣніе меня выслушать?
— Говорите, говорите!
— Ну, извольте.
Лежневъ принялся ходить медленными шагами по комнатѣ, изрѣдка останавливаясь и наклоняя голову впередъ.
— Вы можетъ быть, знаете, — заговорилъ онъ: — а можетъ быть, и не знаете, что я осиротѣлъ рано и уже на семнадцатомъ году не имѣлъ надъ собою на́большаго. Я. жилъ въ домѣ тетки, въ Москвѣ, и дѣлалъ, что́ хотѣлъ. Малый я былъ довольно пустой и самолюбивый, любилъ порисоваться и похвастать. Вступивъ въ университетъ, я велъ себя, какъ школьникъ, и скоро попался въ исторію. Я вамъ ее разсказывать не стану: не сто́итъ. Я солгалъ, и довольно гадко солгалъ… Меня вывели на свѣжую воду, уличили, пристыдили… Я потерялся и заплакалъ какъ дитя. Это происходило на квартирѣ одного знакомаго, въ присутствіи многихъ товарищей. Всѣ принялись хохотать надо мною, всѣ, исключая одного студента, который, замѣтьте, больше прочихъ негодовалъ на меня, пока я упорствовалъ и не сознавался въ своей лжи. Жаль ему, что-ли, меня стало, только онъ взялъ меня подъ руку и увелъ къ себѣ.
— Это былъ Рудинъ? — спросила Александра Павловна.
— Нѣтъ, это не былъ Рудинъ… это былъ человѣкъ… онъ уже теперь умеръ… это былъ человѣкъ необыкновенный. Звали его Покорскимъ. Описать его въ немногихъ словахъ я не въ силахъ, а начать говорить о немъ, уже ни о комъ другомъ говорить не захочешь. Эта была высокая, чистая душа, и ума такого я уже не встрѣчалъ потомъ. Покорскій жилъ въ маленькой, низенькой комнаткѣ, въ мезонинѣ стараго деревяннаго домика. Онъ былъ очень бѣденъ и перебивался кое-какъ уроками. Бывало, онъ даже чашкой чаю не могъ попотчевать гостя, а единственный его диванъ до того провалился, что сталъ похожъ на лодку. Но, несмотря на эти неудобства, къ нему ходило множество народа. Его всѣ любили, онъ привлекалъ къ себѣ сердца. Вы не повѣрите, какъ сладко и весело было сидѣть въ его бѣдной комнаткѣ! У него я познакомился съ Рудинымъ. Онъ уже отсталъ тогда отъ своего князька.
— Что же было такого особеннаго въ этомъ Покорскомъ? — спросила Александра Павловна.
— Какъ вамъ сказать? Поэзія и правда — вотъ что влекло всѣхъ къ нему. При умѣ ясномъ, обширномъ, онъ былъ милъ и забавенъ, какъ ребенокъ. У меня до сихъ поръ звенитъ въ ушахъ его свѣтлое хохотанье, и въ то же время онъ —
Такъ выразился о немъ одинъ полу-сумасшедшій и милѣйшій поэтъ нашего кружка.
— А какъ онъ говорилъ? — спросила опять Александра Павловна.
— Онъ говорилъ хорошо, когда былъ въ духѣ, но не удивительно. Рудинъ и тогда былъ въ двадцать разъ краснорѣчивѣе его.
Лежневъ остановился и скрестилъ руки.
— Покорскій и Рудинъ не походили другъ на друга. Въ Рудинѣ было гораздо больше блеску и треску, больше фразъ и, пожалуй, больше энтузіазма. Онъ казался гораздо даровитѣе Покорскаго, а на самомъ дѣлѣ, онъ былъ бѣднякъ въ сравненіи съ нимъ. Рудинъ превосходно развивалъ любую мысль, спорилъ мастерски; но мысли его рождались не въ его головѣ; онъ бралъ ихъ у другихъ, особенно у Покорскаго. Покорскій былъ на видъ тихъ и мягокъ, даже слабъ — и любилъ женщинъ до безумія, любилъ покутить, и не дался бы никому въ обиду. Рудинъ казался полнымъ огня, смѣлости, жизни, а въ душѣ былъ холоденъ и чуть ли не робокъ, пока не задѣвалось его самолюбіе: тутъ онъ на стѣны лѣзъ. Онъ всячески старался покорить себѣ людей, но покорялъ онъ ихъ во имя общихъ началъ и идей, и дѣйствительно, имѣлъ вліяніе сильное на многихъ. Правда, никто его не любилъ; одинъ я, можетъ быть, привязался къ нему. Его иго носили… Покорскому всѣ отдавались сами собой. За то Рудинъ никогда не отказывался толковать и спорить съ первымъ встрѣчнымъ… Онъ не слишкомъ много прочелъ книгъ, но во всякомъ случаѣ гораздо больше, чѣмъ Покорскій и чѣмъ всѣ мы; притомъ, умъ имѣлъ систематическій, память огромную, а вѣдь это-то и дѣйствуетъ на молодежь! Ей выводы подавай, итоги, хоть невѣрные, да итоги! Совершенно добросовѣстный человѣкъ на это не годится. Попытайтесь сказать молодежи, что вы не можете дать ей полной истины, потому что сами не владѣете ею… молодежь васъ и слушать не станетъ. Но обмануть вы ее тоже не можете. Надобно, чтобы вы сами хотя на половину вѣрили, что обладаете истиной… Оттого-то Рудинъ и дѣйствовалъ такъ сильно на нашего брата. Видите ли, я вамъ сейчасъ сказалъ, что онъ прочелъ немного, но читалъ онъ философскія книги, и голова у него такъ была устроена, что онъ тотчасъ же изъ прочитаннаго извлекалъ все общее, хватался за самый корень дѣла, и уже потомъ проводилъ отъ него во всѣ стороны свѣтлыя, правильныя нити мысли, открывалъ духовныя перспективы. Нашъ кружокъ состоялъ тогда, говоря по совѣсти, изъ мальчиковъ — и недоученныхъ мальчиковъ. Философія, искусство, наука, самая жизнь — все это для насъ были одни слова, пожалуй даже понятія, заманчивыя, прекрасныя, но разбросанныя, разъединенныя. Общей связи этихъ понятій, общаго закона мірового мы не сознавали, не осязали, хотя смутно толковали о немъ, силились отдать себѣ въ немъ отчетъ… Слушая Рудина, намъ впервые показалось, что мы наконецъ схватили ее, эту общую связь, что поднялась наконецъ завѣса! Положимъ, онъ говорилъ не свое — что за дѣло! но стройный порядокъ водворялся во всемъ, что мы знали, все разбросанное вдругъ соединялось, складывалось, выростало передъ нами, точно зданіе, все свѣтлѣло, духъ вѣялъ всюду… Ничего не оставалось безсмысленнымъ, случайнымъ; во всемъ высказывалась разумная необходимость и красота, все получало значеніе ясное и, въ тоже время, таинственное; каждое отдѣльное явленіе жизни звучало аккордомъ, и мы сами, съ какимъ-то священнымъ ужасомъ благоговѣнія, съ сладкимъ сердечнымъ трепетомъ, чувствовали себя какъ бы живыми сосудами вѣчной истины, орудіями ея, призванными къ чему-то великому… Вамъ все это не смѣшно?
— Нисколько! — медленно возразила Александра Павловна: — почему вы это думаете? Я васъ не совсѣмъ понимаю, но мнѣ не смѣшно.
— Мы съ тѣхъ поръ успѣли поумнѣть, конечно, — продолжалъ Лежневъ: — все это намъ теперь можетъ казаться дѣтствомъ… Но, я повторяю, Рудину мы тогда были обязаны многимъ. Покорскій былъ несравненно выше его, безспорно; Покорскій вдыхалъ въ насъ всѣхъ огонь и силу; но онъ иногда чувствовалъ себя вялымъ и молчалъ. Человѣкъ онъ былъ нервическій, нездоровый; за то, когда онъ расправлялъ свои крылья, — Боже! куда не залеталъ онъ! въ самую глубь и лазурь неба! А въ Рудинѣ, въ этомъ красивомъ и статномъ маломъ, было много мелочей; онъ даже сплетничалъ; страсть его была во все вмѣшиваться, все опредѣлять и разъяснять. Его хлопотливая дѣятельность никогда не унималась… политическая натура-съ! Я о немъ говорю, какимъ я его знать тогда. Впрочемъ, онъ, къ несчастію, не измѣнился. За то онъ и въ вѣрованіяхъ своихъ не измѣнился… въ тридцать-пять лѣтъ!… Не всякій можетъ сказать это о себѣ.
— Сядьте, — проговорила Александра Павловна: — что вы, какъ маятникъ, по комнатѣ ходите?
— Этакъ мнѣ лучше, — возразилъ Лежневъ. — Ну-съ, попавъ въ кружокъ Покорскаго, я доложу вамъ, Александра Павловна, я совсѣмъ переродился: смирился, разспрашивалъ, учился, радовался, благоговѣлъ — однимъ словомъ, точно въ храмъ какой вступилъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, какъ вспомню я наши сходки, ну, ей-Богу же, много въ нихъ было хорошаго, даже трогательнаго. Вы представьте: сошлись человѣкъ пять-шесть мальчиковъ, одна сальная свѣча горитъ, чай подается прескверный и сухари къ нему старые, престарые; а посмотрѣли бы вы на всѣ наши лица, послушали бы рѣчи наши! Въ глазахъ у каждаго восторгъ, и щеки пылаютъ, и сердце бьется, и говоримъ мы о Богѣ, о правдѣ, о будущности человѣчества, о поэзіи, — говоримъ мы иногда вздоръ, восхищаемся пустяками; но что за бѣда!… Покорскій сидитъ, поджавъ ноги, подпираетъ блѣдную щеку рукой; а глаза его такъ и свѣтятся. Рудинъ стоитъ по серединѣ комнаты и говоритъ, говоритъ прекрасно, ни дать ни взять — молодой Демосѳенъ передъ шумящимъ моремъ; взъерошенный поэтъ Субботинъ издаетъ, по временамъ, и какъ бы во снѣ, отрывистыя восклицанія; сороколѣтній буршъ, сынъ нѣмецкаго пастора, Шеллеръ, прослывшій между нами за глубочайшаго мыслителя, по милости своего вѣчнаго, ничѣмъ ненарушимаго молчанья, какъ-то особенно торжественно безмолвствуетъ; — самъ веселый Щитовъ, Аристофанъ нашихъ сходокъ, утихаетъ и только ухмыляется; два-три новичка слушаютъ съ торжественнымъ наслажденіемъ… А ночь летитъ тихо и плавно, какъ на крыльяхъ. Вотъ ужъ и утро сѣрѣетъ, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у насъ и въ поминѣ тогда не было), съ какой-то пріятной усталостью на душѣ… и даже на звѣзды какъ-то довѣрчиво глядишь, словно онѣ и ближе стали, и понятнѣе… Эхъ! славное было время тогда, и не хочу я вѣрить, чтобы оно пропало даромъ! Да оно и не пропало, — не пропало даже для тѣхъ, которыхъ жизнь опошлила потомъ… Сколько разъ мнѣ случалось встрѣтить такихъ людей, прежнихъ товарищей! Кажется, совсѣмъ звѣремъ сталъ человѣкъ, а стоитъ только произнести при немъ имя Покорскаго — и всѣ остатки благородства въ немъ зашевелятся, точно ты въ грязной и темной комнатѣ раскупорилъ забытую стклянку съ духами…
Лежневъ умолкъ; его безцвѣтное лицо раскраснѣлось.
— Но отчего же? когда вы поссорились съ Рудинымъ? — заговорила Александра Павловна, съ изумленіемъ глядя на Лежнева.
— Я съ нимъ не поссорился, я съ нимъ разстался, когда узналъ его окончательно за границей. А уже въ Москвѣ я бы могъ разсориться съ нимъ. Онъ со мной уже тогда сыгралъ недобрую штуку.
— Что́ такое?
— А вотъ что́. Я… какъ бы это сказать?… къ моей фигурѣ оно нейдетъ… но я всегда былъ очень способенъ влюбиться.
— Вы?
— Я. Это странно, не правда ли? А между тѣмъ, оно такъ… Ну-съ, вотъ, я и влюбился тогда въ одну очень миленькую дѣвочку… Да что́ вы на меня такъ глядите? Я бы могъ сказать вамъ о себѣ вещь, гораздо болѣе удивительную.
— Какую это вещь, позвольте, узнать?
— А хоть бы вотъ какую вещь. Я, въ то, московское-то время, хаживалъ но ночамъ на свиданіе… съ кѣмъ бы вы думали? съ молодой липой на концѣ моего сада. Обниму ея тонкій и стройный стволъ, и мнѣ кажется, что я обнимаю всю природу, а сердце расширяется и млѣетъ такъ, какъ будто, дѣйствительно, вся природа въ него вливается… Вотъ-съ я былъ какой!… Да что́? Вы, можетъ, думаете, я стиховъ не писалъ? Писалъ-съ, и даже цѣлую драму сочинилъ, въ подражаніе Манфреду. Въ числѣ дѣйствующихъ лицъ былъ призракъ съ кровью на груди, и не съ своей кровью, замѣтьте, а съ кровью человѣчества вообще… Да-съ, да-съ, не извольте удивляться… Но я началъ разсказывать о моей любви. Я познакомился съ одной дѣвушкой…
— И перестали ходить на свиданіе съ липой? — спросила Александра Павловна.
— Пересталъ. Дѣвушка эта была предобренькое и прехорошенькое существо, съ веселыми, ясными глазками и звенящимъ голосомъ.
— Вы хорошо описываете, — замѣтила съ усмѣшкой Александра Павловна.
— А вы очень строгій критикъ, — возразилъ Лежневъ. — Ну-съ, жила эта дѣвушка со старикомъ-отцомъ… Впрочемъ, я въ подробности вдаваться не стану. Скажу вамъ только, что эта дѣвушка была точно предобренькая — вѣчно, бывало, нальетъ тебѣ три-четверти стакана чаю, когда ты просишь только половину!… На третій день, послѣ первой встрѣчи съ ней, я уже пылалъ, а на седьмой день не выдержалъ и во всемъ сознался Рудину. Молодому человѣку, влюбленному, невозможно не проболтаться; а я Рудину исповѣдывался во всемъ. Я тогда находился весь подъ его вліяніемъ, и это вліяніе, скажу безъ обиняковъ, было благотворно во многомъ. Онъ первый не побрезгалъ мною, обтесалъ меня. Покорскаго я любилъ страстно и ощущалъ нѣкоторый страхъ передъ его душевной чистотой; а къ Рудину я стоялъ ближе. Узнавъ о моей любви, онъ пришелъ въ восторгъ неописанный: поздравилъ, обнялъ меня и тотчасъ же пустился вразумлять меня, толковать мнѣ всю важность моего новаго положенія. Я уши развѣсилъ… Ну, да вѣдь вы знаете, какъ онъ умѣетъ говорить. Слова его подѣйствовали на меня необыкновенно. Уваженіе я къ себѣ вдругъ возъимѣлъ удивительное, видъ принялъ серьёзный и смѣяться пересталъ. Помнится, я даже ходить началъ тогда осторожнѣе, точно у меня въ груди находился сосудъ, полный драгоцѣнной влаги, которую я боялся расплескать… Я былъ очень счастливъ, тѣмъ болѣе, что ко мнѣ благоволили явно. Рудинъ пожелалъ познакомиться съ моимъ предметомъ; да чуть ли не я самъ настоялъ на томъ, чтобы представить его.
— Ну, вижу, вижу теперь, въ чемъ дѣло, — перебила Александра Павловна. — Рудинъ отбилъ у васъ вашъ предметъ, и вы до сихъ поръ ему простить не можете… Держу пари, что не ошиблась!
— И проиграли бы пари, Александра Павловна: вы ошибаетесь. Рудинъ не отбилъ у меня моего предмета, да онъ и не хотѣлъ его у меня отбивать; а все-таки онъ разрушилъ мое счастье, хотя, разсудивъ хладнокровно, я теперь готовъ сказать ему спасибо за это. Но тогда я чуть не рѣхнулся. Рудинъ нисколько не желалъ повредить мнѣ, — напротивъ! но вслѣдствіе своей проклятой привычки каждое движеніе жизни, и своей, и чужой, пришпиливать словомъ, какъ бабочку булавкой, онъ пустился обоимъ намъ объяснять насъ самихъ, наши отношенія, какъ мы должны вести себя, деспотически заставлялъ отдавать себѣ отчетъ въ нашихъ чувствахъ и мысляхъ, хвалилъ насъ, порицалъ, вступилъ даже въ переписку съ нами, вообразите!… ну, сбилъ насъ съ толку совершенно! Я бы едва ли женился тогда на моей барышнѣ (столько-то во мнѣ еще здраваго смысла оставалось), но, по крайней мѣрѣ, мы бы съ ней славно провели нѣсколько мѣсяцевъ, въ родѣ Павла и Виргиніи; а тутъ пошли недоразумѣнія, напряженности всякія, — чепуха пошла, однимъ словомъ. Кончилось тѣмъ, что Рудинъ, въ одно прекрасное утро, договорился до того убѣжденія, что ему, какъ другу, предстоитъ священнѣйшій долгъ извѣстить обо всемъ старика-отца, — и онъ это сдѣлалъ.
— Неужели! — воскликнула Александра Павловна.
— Да, и, замѣтьте, съ моего согласія сдѣлалъ — вотъ что чудно!… Помню до сихъ поръ, какой хаосъ носилъ я тогда въ головѣ: просто все кружилось и представлялось, какъ въ камеръ-обскурѣ: бѣлое казалось чернымъ, черное — бѣлымъ, ложь — истиной, фантазія — долгомъ… Э! даже и теперь совѣстно вспоминать объ этомъ! Рудинъ — тотъ не унывалъ… куда! носится, бывало, среди всякаго рода недоразумѣній и путаницы, какъ ласточка надъ прудомъ.
— И такъ, вы разстались съ вашей дѣвицей? — спросила Александра Павловна, наивно склонивъ головку на бокъ и приподнявъ брови.
— Разстался… и нехорошо разстался, оскорбительно-неловко, гласно, и безъ нужды гласно… Самъ я плакалъ, и она плакала, и чортъ знаетъ, что произошло… Гордіевъ узелъ какой-то затянулся — пришлось перерубить, а больно было! Впрочемъ, все на свѣтѣ устраивается къ лучшему. Она вышла замужъ за хорошаго человѣка и блаженствуетъ теперь…
— А признайтесь, вы все-таки не могли простить Рудину… — начала-было Александра Павловна.
— Какое! — перебилъ Лежневъ: — я плакалъ, какъ ребенокъ, когда провожалъ его за границу. Однако, правду сказать, сѣмя тамъ у меня на душѣ залегло тогда же. И когда я встрѣтилъ его потомъ за границей… ну, я тогда уже и постарѣлъ… Рудинъ предсталъ мнѣ въ настоящемъ своемъ свѣтѣ.
— Что́ же именно вы открыли въ немъ?
— Да все то, о чемъ я говорилъ валъ съ часъ тому назадъ. Впрочемъ, довольно о немъ. Можетъ быть все обойдется благополучно. Я только хотѣлъ доказать вамъ, что если я сужу о немъ строго, такъ не потому, что его не знаю… Что же касается до Натальи Алексѣевны, я не буду тратить лишнихъ словъ; но вы обратите вниманіе на вашего брата.
— На моего брата! А что?
— Да посмотрите на него. Развѣ вы ничего не замѣчаете? — Александра Павловна потупилась.
— Вы правы, промолвила она: — точно… братъ… съ нѣкоторыхъ поръ я его не узнаю… Но неужели вы думаете…
— Тише! онъ, кажется, идетъ сюда, — произнесъ шёпотомъ Лежневъ. — А Наталья не ребенокъ, повѣрьте мнѣ, хотя, къ несчастію, неопытна, какъ ребенокъ. Вы увидите, эта дѣвочка удивитъ всѣхъ насъ.
— Какимъ это образомъ?
— А вотъ какимъ образомъ… Знаете ли, что именно такія дѣвочки топятся, принимаютъ яду и такъ далѣе? Вы не глядите, что она такая тихая: страсти въ ней сильныя, и характеръ — тоже ой-ой!
— Ну, ужъ это, мнѣ кажется, въ въ поэзію вдаетесь. Такому флегматику, какъ вы, пожалуй, и я покажусь вулканомъ.
— Ну, нѣтъ! — проговорилъ съ улыбкой Лежневъ… А что до характера, — у васъ, слава Богу, характера нѣтъ вовсе.
— Это еще что́ за дерзость?
— Это? Это величайшій комплиментъ, помилуйте…
Волынцевъ вошелъ и подозрительно посмотрѣлъ на Лежнева и на сестру. Онъ похудѣлъ въ послѣднее время. Они оба заговорили съ нимъ; но онъ едва улыбался въ отвѣтъ на ихъ шутки и глядѣлъ, какъ выразился о немъ однажды Пигасовъ, грустнымъ зайцемъ. Впрочемъ, вѣроятно, не было еще на свѣтѣ человѣка, который, хотя разъ въ жизни, не глядѣлъ еще хуже того. Волынцевъ чувствовалъ, что Наталья отъ него удалялась, а вмѣстѣ съ ней, казалось, и земля бѣжала у него изъ-подъ ногъ.
ѴІІ.
На другой день было воскресенье, и Наталья поздно встала. Наканунѣ она была очень молчалива до самаго вечера, втайнѣ стыдилась слезъ своихъ и очень дурно спала. Сидя, полуодѣтая, передъ своимъ маленькимъ фортепьяно, она то брала аккорды, едва слышные, чтобы не разбудить m-lle Boncourt, то приникала лбомъ къ холоднымъ клавишамъ и долго оставалась неподвижной. Она все думала — не о самомъ Рудинѣ, но о какомъ-нибудь словѣ, имъ сказанномъ, и погружалась вся въ свою думу. Изрѣдка приходилъ ей Волынцевъ на память. Она знала, что онъ ее любитъ. Но мысль ея тотчасъ его покидала… Странное она чувствовала волненіе. Утромъ она поспѣшно одѣлась, сошла внизъ и, поздоровавшись съ своею матерью, улучила время и ушла одна въ садъ… День былъ жаркій, свѣтлый, лучезарный день, несмотря на перепадавшіе дождики. По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкія, дымчатыя тучи и, по временамъ, роняли на поля обильные потоки внезапнаго и мгновеннаго ливня. Крупныя, сверкающія капли сыпались быстро, съ какимъ-то сухимъ шумомъ, точно алмазы; солнце играло сквозь ихъ мелькающую сѣтку; трава, еще недавно взволнованная вѣтромъ, не шевелилась, жадно поглощая влагу; орошенныя деревья томно трепетали всѣми своими листочками; птицы не переставали пѣть, и отрадно было слушать ихъ болтливое щебетанье при свѣжемъ гулѣ и ропотѣ пробѣгавшаго дождя. Пыльныя дороги дымились и слегка пестрѣли подъ рѣзкими ударами частыхъ брызгъ. Но вотъ, тучка пронеслась, запорхалъ вѣтерокъ, изумрудомъ и золотомъ начала переливать трава… Прилипая другъ къ дружкѣ, засквозили листья деревьевъ… Сильный запахъ поднялся отовсюду…
Небо почти все очистилось, когда Наталья пошла въ садъ. Отъ него вѣяло свѣжестью и тишиной, той кроткой и счастливой тишиной, на которую сердце человѣка отзывается сладкимъ томленіемъ тайнаго сочувствія и неопредѣленныхъ желаній…
Наталья шла вдоль пруда, по длинной аллеѣ серебристыхъ тополей; внезапно, передъ нею, словно изъ земли, выросъ Рудинъ.
Она смутилась. Онъ посмотрѣлъ ей въ лицо.
— Вы однѣ? — спросилъ онъ.
— Да, я одна, — отвѣчала Наталья: — впрочемъ, я вышла на минуту… Мнѣ пора домой.
— Я васъ провожу.
И онъ пошелъ съ ней рядомъ.
— Вы какъ будто печальны? — промолвилъ онъ.
— Я?… А я хотѣла вамъ замѣтить, что вы, мнѣ кажется, не въ духѣ.
— Можетъ быть… это со мною бываетъ. Мнѣ это извинительнѣе, чѣмъ вамъ.
— Почему же? Развѣ вы думаете, что мнѣ не отъ чего быть печальной.
— Въ ваши годы надо наслаждаться жизнью.
Наталья сдѣлала нѣсколько шаговъ молча.
— Дмитрій Николаевичъ! — проговорила она.
— Что́?
— Помните вы… сравненіе, которое вы сдѣлали вчера… помните… съ дубомъ.
— Ну, да, помню. Что же?
Наталья взглянула украдкой на Рудина.
— Зачѣмъ вы… что вы хотѣли сказать этимъ сравненіемъ?
Рудинъ наклонилъ голову и устремилъ глаза вдаль.
— Наталья Алексѣевна! — началъ онъ, съ свойственнымъ ему сдержаннымъ и значительнымъ выраженіемъ, которое всегда заставляло слушателя думать, что Рудинъ не высказывалъ и десятой доли того, что́ тѣснилось ему въ душу: — Наталья Алексѣевна! вы могли замѣтить, я мало говорю о своемъ прошедшемъ. Есть нѣкоторыя струны, до которыхъ я не касаюсь вовсе. Мое сердце… кому какая нужда знать о томъ, что въ немъ происходило? Выставлять это на показъ мнѣ всегда казалось святотатствомъ. Но съ вами я откровененъ: вы возбуждаете мое довѣріе… Не могу утаить отъ васъ, что и я любилъ и страдалъ, какъ всѣ… Когда и какъ? Объ этомъ говорить не сто́итъ; но сердце мое испытало много радостей и много горестей…
Рудинъ помолчалъ немного.
— То, что я вамъ сказалъ вчера, — продолжалъ онъ: — можетъ быть до нѣкоторой степени примѣнено ко мнѣ, къ теперешнему моему положенію. Но, опять-таки, объ этомъ говорить не сто́итъ. Эта сторона жизни для меня уже исчезла. Мнѣ остается теперь тащиться по знойной и пыльной дорогѣ, со станціи до станціи, въ тряской телѣгѣ… Когда я доѣду, и доѣду-ли — Богъ знаетъ… Поговоримте лучше о васъ.
— Неужели же, Дмитрій Николаевичъ, — перебила его Наталья: — вы ничего не ждете отъ жизни?
— О, нѣтъ! я жду многаго, но не для себя… Отъ дѣятельности, отъ блаженства дѣятельности я никогда не откажусь, но я отказался отъ наслажденія. Мои надежды, мои мечты — и собственное мое счастіе не имѣютъ ничего общаго. Любовь (при этомъ словѣ онъ пожалъ плечомъ)… любовь — не для меня; я… ея не сто́ю; женщина, которая любитъ, въ правѣ требовать всего человѣка, а я ужъ весь отдаться не могу. Притомъ, нравиться — это дѣло юношей: я слишкомъ старъ. Куда мнѣ кружить чужія головы? Дай Богъ свою сносить на плечахъ!
— Я понимаю, — промолвила Наталья: — кто стремится къ великой цѣли, уже не долженъ думать о себѣ; но развѣ женщина не въ состояніи оцѣнить такого человѣка? Мнѣ кажется, напротивъ, женщина скорѣе отвернется отъ эгоиста… Всѣ молодые люди, эти юноши, по вашему, всѣ — эгоисты, всѣ только собою заняты, даже когда любятъ. Повѣрьте, женщина не только способна понять самопожертвованіе: она сама умѣетъ пожертвовать собою.
Щеки Натальи слегка зарумянились, и глаза ея заблестѣли. До знакомства съ Рудинымъ она никогда бы не произнесла такой длинной рѣчи и съ такимъ жаромъ.
— Вы не разъ слышали мое мнѣніе о призваніи женщинъ, — возразилъ съ снисходительной улыбкой Рудинъ: — вы знаете, что, по моему, одна Жанна д’Аркъ могла спасти Францію… но дѣло не въ томъ. Я хотѣлъ поговорить о васъ. Вы стоите на порогѣ жизни… Разсуждать о вашей будущности и весело, и не безплодно… Послушайте: вы знаете, я вашъ другъ; я принимая въ васъ почти родственное участіе… А потому, я надѣюсь, вы не найдете моего вопроса нескромнымъ: скажите, ваше сердце до сихъ поръ совершенно спокойно?
Наталья вся вспыхнула и ничего не сказала. Рудинъ остановился, и она остановилась.
— Вы не сердитесь на меня? — спросилъ онъ.
— Нѣтъ, — проговорила она: — но я никакъ не ожидала…
— Впрочемъ, — продолжалъ онъ: — вы можете не отвѣчать мнѣ. Ваша тайна мнѣ извѣстна.
Наталья почти съ испугомъ взглянула на него.
— Да… да; я знаю, кто вамъ нравится. И я долженъ сказать — лучшаго выбора вы сдѣлать не могли. Онъ человѣкъ прекрасный; онъ съумѣетъ оцѣнить васъ; онъ не измятъ жизнью — онъ простъ и ясенъ душою… онъ составитъ ваше счастіе.
— О комъ говорите вы, Дмитрій Николаичъ?
— Будто вы не понимаете, о комъ я говорю? Разумѣется, о Волынцевѣ. Что-жъ? развѣ это неправда?
Наталья отвернулась немного отъ Рудина. Она совершенно растерялась.
— Развѣ онъ не любитъ васъ? Помилуйте! онъ не сводить съ васъ глазъ, слѣдитъ за каждымъ вашимъ движеніемъ; да и наконецъ, развѣ можно скрыть любовь! И вы сами развѣ не благосклонны къ нему? Сколько я могъ замѣтить, и матушкѣ вашей онъ также нравится… Вашъ выборъ…
— Дмитрій Николаичъ, — перебила его Наталья, въ смущеніи протягивая руку къ близь стоявшему кусту: — мнѣ, право, такъ неловко говорить объ этомъ, но я васъ увѣряю… вы ошибаетесь.
— Я ошибаюсь? — повторилъ Рудинъ… Не думаю… Я съ вами познакомился недавно; но я уже хорошо васъ знаю. Что́ же значитъ перемѣна, которую я вижу въ васъ, вижу ясно? Развѣ вы такая, какою я засталъ васъ шесть недѣль тому назадъ?… Нѣтъ, Наталья Алексѣевна, сердце ваше не спокойно.
— Можетъ быть, — отвѣтила Наталья едва внятно: — но вы все-таки ошибаетесь.
— Какъ это? — спросилъ Рудинъ.
— Оставьте меня, не спрашивайте меня! — возразила Наталья и быстрыми шагами направилась къ дому.
Ей самой стало страшно всего того, что она вдругъ, почувствовала въ себѣ.
Рудинъ догналъ и остановилъ ее.
— Наталья Алексѣевна! заговорилъ онъ: — этотъ разговоръ не можетъ такъ кончиться, онъ слишкомъ, важенъ, и для меня… Какъ мнѣ понять васъ?
— Оставьте меня! — повторила Наталья.
— Наталья Алексѣевна, ради Бога!
На лицѣ Рудина изобразилось волненіе. Онъ поблѣднѣлъ.
— Вы все понимаете, вы и меня должны понять! — сказала Наталья, вырвала у него руку и пошла, не оглядываясь.
— Одно только слово! — крикнулъ ей вслѣдъ Рудинъ.
Она остановилась, но не обернулась.
— Вы меня спрашивали, что́ я хотѣлъ сказать вчерашнимъ сравненіемъ. Знайте же, я обманывать васъ не хочу. Я говорилъ о себѣ, о своемъ прошедшемъ, — и о васъ.
— Какъ? обо мнѣ?
— Да, о васъ; я, повторяю, не хочу васъ обманывать… Вы теперь знаете, о какомъ чувствѣ, о какомъ новомъ чувствѣ, я говорилъ тогда… До нынѣшняго дня я никогда бы не рѣшился…
Наталья вдругъ закрыла лицо руками и побѣжала къ дому.
Она такъ была потрясена неожиданной развязкой разговора съ Рудинымъ, что и не замѣтила Волынцева, мимо котораго пробѣжала. Онъ стоялъ неподвижно, прислонясь спиною къ дереву. Четверть часа тому назадъ, онъ пріѣхалъ къ Дарьѣ Михайловнѣ и засталъ ее въ гостиной; сказалъ слова два, незамѣтно удалился и отправился отыскивать Наталью. Руководимый чутьемъ, свойственнымъ влюбленнымъ людямъ, онъ пошелъ прямо въ садъ и наткнулся на нее и на Рудина въ то самое мгновеніе, когда она вырвала у него руку. У Волынцева потемнѣло въ глазахъ. Проводивъ Наталью взоромъ, онъ отдѣлился отъ дерева и шагнулъ раза два, самъ не зная, куда и зачѣмъ. Рудинъ увидѣлъ его, поровнявшись съ нимъ. Оба посмотрѣли другъ на друга въ глаза, поклонились и разошлись молча.
„Это такъ не кончится“, подумали оба.
Волынцевъ пошелъ на самый конецъ сада. Ему горько и тошно стало; а на сердце залегъ свинецъ, и кровь по временамъ поднималась злобно. Дождикъ сталъ опять накрапывать. Рудинъ вернулся къ себѣ въ комнату. И онъ не былъ спокоенъ: вихремъ кружились въ немъ мысли. Довѣрчивое, неожиданное прикосновеніе молодой, честной души смутитъ хоть кого.
За столомъ все шло какъ-то неладно. Наталья, вся блѣдная, едва держалась на стулѣ и не поднимала глазъ. Волынцевъ сидѣлъ, по обыкновенію, возлѣ нея и, время отъ времени, принужденно заговаривалъ съ нею. Случилось такъ, что Пигасовъ въ тотъ день обѣдалъ у Дарьи Михайловны. Онъ больше всѣхъ говорилъ за столомъ. Между прочимъ, онъ началъ доказывать, что людей, какъ собакъ, можно раздѣлить на куцыхъ и длиннохвостыхъ. Куцыми бываютъ люди — говорилъ онъ — и отъ рожденія, и по собственной винѣ. Куцымъ плохо: имъ ничего не удается — они не имѣютъ самоувѣренности. Но человѣкъ, у котораго длинный пушистый хвостъ — счастливецъ. Онъ можетъ быть и плоше, и слабѣе куцаго, да увѣренъ въ себѣ; распуститъ хвостъ — всѣ любуются. И вѣдь вотъ что достойно удивленія! вѣдь хвостъ совершенно безполезная часть тѣла, согласитесь; на что можетъ пригодиться хвостъ? а всѣ судятъ о вашихъ достоинствахъ по хвосту.
— Я, — прибавилъ онъ со вздохомъ: — принадлежу къ числу куцыхъ, и, что́ досаднѣе всего, я самъ отрубилъ себѣ хвостъ.
— То-есть, вы хотите сказать, — замѣтилъ небрежно Рудинъ, — что́, впрочемъ уже давно до васъ сказалъ ла-Рошфуко: будь увѣренъ въ себѣ, другіе въ тебя вѣрятъ. Къ чему тутъ было примѣшивать хвостъ, я не понимаю.
— Позвольте же каждому, — рѣзко заговорилъ Волынцевъ, и глаза его загорѣлись: — позвольте каждому выражаться, какъ ему вздумается. Толкуютъ о деспотизмѣ… По моему, нѣтъ хуже деспотизма такъ-называемыхъ умныхъ людей. Чортъ бы ихъ побралъ!
Всѣхъ изумила выходка Волынцева, всѣ притихли. Рудинъ посмотрѣлъ было на него, но не выдержалъ его взора, отворотился, улыбнулся и рта не разинулъ.
„Эге! да и ты куцъ!“ подумалъ Пигасовъ; а у Натальи душа замерла отъ страха. Дарья Михайловна долго, съ недоумѣніемъ посмотрѣла на Волынцева и, наконецъ, первая заговорила; начала разсказывать о какой-то необыкновенной собакѣ министра N. N…
Волынцевъ уѣхалъ скоро послѣ обѣда. Раскланиваясь съ Натальей, онъ не вытерпѣлъ и сказалъ ей:
— Отчего вы такъ смущены, словно виноваты? вы ни передъ кѣмъ виноваты быть не можете!…
Наталья ничего не поняла, и только посмотрѣла ему вслѣдъ. Передъ чаемъ, Рудинъ подошелъ къ ней, и, нагнувшись надъ столомъ, какъ будто разбирая газеты, шепнулъ:
— Все это какъ сонъ, не правда-ли? Мнѣ непремѣнно нужно видѣть васъ наединѣ… хотя минуту. — Онъ обратился къ m-lle Boncourt. — Вотъ, сказалъ онъ ей: тотъ фельетонъ, который вы искали, — и снова наклоняясь къ Натальѣ, прибавилъ шепотомъ: — постарайтесь быть около десяти часовъ возлѣ террасы, въ сиреневой бесѣдкѣ: я буду ждать васъ…
Героемъ вечера былъ Пигасовъ. Рудинъ уступилъ ему поле сраженія. Онъ очень смѣшилъ Дарью Михайловну; сперва онъ разсказывалъ объ одномъ своемъ сосѣдѣ, который, состоя лѣтъ тридцать подъ башмакомъ жены, до того обабился, что переходя однажды, въ присутствіи Пигасова, мелкую лужицу, занесъ назадъ руку и отвелъ въ бокъ фалды сюртука, какъ женщины это дѣлаютъ со своими юбками. Потомъ онъ обратился къ другому помѣщику, который сначала былъ масономъ, потомъ меланхоликомъ, потомъ желалъ быть банкиромъ.
— Какъ же это вы были масономъ, Филиппъ Степанычъ? — спросилъ его Пигасовъ.
— Извѣстно какъ: я носилъ длинный ноготь на пятомъ пальцѣ.
Но больше всего смѣялась Дарья Михайловна, когда Пигасовъ пустился разсуждать о любви и увѣрять, что и о немъ вздыхали, что одна пылкая нѣмка называла его даже „аппетитнымъ Африканчикомъ“ и „хрипунчикомъ“. Дарья Михайловна смѣялась, а Пигасовъ не лгалъ: онъ дѣйствительно имѣлъ право хвастаться своими побѣдами. Онъ утверждалъ, что ничего не можетъ быть легче, какъ влюбить въ себя какую угодно женщину: стоитъ только повторять ей десять дней сряду, что у ней въ устахъ рай, а въ очахъ блаженство, и что остальныя женщины передъ ней простыя тряпки, и на одиннадцатый день она сама скажетъ, что у ней въ устахъ рай и въ очахъ блаженство, и полюбитъ васъ. Все на свѣтѣ бываетъ. Почему знать, можетъ быть, Пигасовъ и правъ.
Въ половинѣ девятаго Рудинъ уже былъ въ бесѣдкѣ. Въ далекой и блѣдной глубинѣ неба только-что проступали звѣздочки; на западѣ еще алѣло — тамъ и небосклонъ казался яснѣй и чище; полукругъ луны блестѣлъ золотомъ сквозь черную сѣтку плакучей березы. Другія деревья либо стояли угрюмыми великанами съ тысячью просвѣтовъ, на подобіе глазъ, либо сливались въ сплошныя, мрачныя громады. Ни одинъ листокъ не шевелился; верхнія вѣтки сиреней и акацій какъ будто прислушивались къ чему-то и вытягивались въ тепломъ воздухѣ. Домъ темнѣлъ вблизи; пятнами красноватаго свѣта рисовались на немъ освѣщенныя длинныя окна. Кротокъ и тихъ былъ вечеръ, но сдержанный, страстный вздохъ, чудился въ этой тишинѣ.
Рудинъ стоялъ, скрестивъ руки на груди, и слушалъ съ напряженнымъ вниманіемъ. Сердце въ немъ билось сильно, и онъ невольно удерживалъ дыханіе. Наконецъ ему послышались легкіе, торопливые шаги, и въ бесѣдку вошла Наталья.
Рудинъ бросился къ ней, взялъ ее за руки. Онѣ были холодны какъ ледъ.
— Наталья Алексѣевна! — заговорилъ онъ трепетнымъ шопотомъ: — я хотѣлъ васъ видѣть… я не могъ дождаться завтрашняго дня. Я долженъ вамъ сказать, чего я не подозрѣвалъ, чего я не сознавалъ даже сегодня утромъ: я люблю васъ!
Руки Натальи слабо дрогнули въ его рукахъ.
— Я люблю васъ, — повторилъ онъ: — и какъ я могъ такъ долго обманываться, какъ я давно не догадался, что люблю васъ!… А вы?… Наталья Алексѣевна, скажите, вы?…
Наталья едва переводила духъ.
— Вы видите, я пришла сюда, — проговорила она наконецъ.
— Нѣтъ, скажите, вы любите меня?
— Мнѣ кажется… да… — прошептала она.
Рудинъ еще крѣпче стиснулъ ея руки и хотѣлъ-было привлечь ее къ себѣ…
Наталья быстро оглянулась.
— Пустите меня, — мнѣ страшно, — мнѣ кажется, кто-то насъ подслушиваетъ… Ради Бога, будьте осторожны. Волынцевъ догадывается.
— Богъ съ нимъ! Вы видѣли, я и не отвѣчалъ ему сегодня… Ахъ, Наталья Алексѣевна, какъ я счастливъ! Теперь уже насъ ничто не разъединитъ!
Наталья взглянула ему въ глаза.
— Пустите меня, — прошептала она: — мнѣ пора.
— Одно мгновенье, началъ Рудинъ…
— Нѣтъ, пустите, пустите меня…
— Вы какъ будто меня боитесь?
— Нѣтъ; но мнѣ пора…
— Такъ повторите, по-крайней-мѣрѣ, еще разъ…
— Вы говорите, вы счастливы? — спросила Наталья.
— Я? Нѣтъ человѣка въ мірѣ счастливѣе меня! Неужели вы сомнѣваетесь?
Наталья приподняла голову. Прекрасно было ея блѣдное лицо, благородное, молодое и взволнованное — въ таинственной тѣни бесѣдки, при слабомъ свѣтѣ, падавшемъ съ ночного неба.
— Знайте же, — сказала она: — я буду ваша.
— О, Боже! — воскликнулъ Рудинъ…
Но Наталья уклонилась и ушла. Рудинъ постоялъ немного, потомъ вышелъ медленно изъ бесѣдки. Луна ясно освѣтила его лицо; на губахъ его блуждала улыбка.
— Я счастливъ, — произнесъ онъ вполголоса. — Да, я счастливъ, — повторилъ онъ, какъ бы желая убѣдить самого себя.
Онъ выпрямилъ свой станъ, встряхнулъ кудрями и пошелъ проворно въ садъ, весело размахивая руками.
А между тѣмъ, въ сиреневой бесѣдкѣ тихонько раздвинулись кусты и показался Пандалевскій. Онъ осторожно оглянулся, покачалъ головой, сжалъ губы, произнесъ значительно: „Вотъ какъ-съ. Это надобно будетъ довести до свѣдѣнія Дарьи Михайловны“, и скрылся.
ѴІІІ.
Возвратясь домой, Волынцевъ былъ такъ унылъ и мраченъ, такъ неохотно отвѣчалъ своей сестрѣ и такъ скоро заперся къ себѣ въ кабинетъ, что она рѣшилась послать гонца за Лежневымъ. Она прибѣгала къ нему во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ. Лежневъ велѣлъ ей сказать, что пріѣдетъ на слѣдующій день.
Волынцевъ и къ утру не повеселѣлъ. Онъ хотѣлъ-было послѣ чаю отправиться на работы, но остался, легъ на диванъ и принялся читать книгу, что́ съ нимъ случалось не часто. Волынцевъ къ литературѣ влеченія не чувствовалъ, а стиховъ просто боялся, — Это непонятно какъ стихи, говаривалъ онъ, и, въ подтвержденіе словъ своихъ, приводилъ слѣдующія строки поэта Айбулата:
Александра Павловна тревожно посматривала на своего брата, но не безпокоила его вопросами. Экипажъ подъѣхалъ къ крыльцу. „Ну — подумала она — слава Богу, Лежневъ“… Слуга вошелъ и доложилъ о пріѣздѣ Рудина.
Волынцевъ бросилъ книгу на полъ и поднялъ голову.
— Кто пріѣхалъ? — спросилъ онъ.
— Рудипъ, Дмитрій Николаичъ, — повторилъ слуга.
Волынцевъ всталъ.
— Проси, — промолвилъ онъ: — а ты, сестра, прибавилъ онъ, обратясь къ Александрѣ Павловнѣ: — оставь насъ.
— Да почему же? — начала она…
— Я знаю, — перебилъ онъ съ запальчивостью: — я прошу тебя.
Вошелъ Рудинъ. Волынцевъ холодно поклонился ему, стоя посреди комнаты, и не протянулъ ему руки.
— Вы меня не ждали, признайтесь, — началъ Рудинъ и поставилъ шляпу на окно.
Губы его слегка передергивало. Ему было неловко; но онъ старался скрыть свое замѣшательство.
— Я васъ не ждалъ, точно, — возразилъ Волынцевъ: — я скорѣе, послѣ вчерашняго дня, могъ ждать кого-нибудь — съ порученіемъ отъ васъ.
— Я понимаю, что́ вы хотите сказать, — промолвилъ Рудинъ, садясь: — и очень радъ вашей откровенности. Этакъ гораздо лучше. Я самъ пріѣхалъ къ вамъ, какъ къ благородному человѣку.
— Нельзя ли безъ комплиментовъ? — замѣтилъ Волынцевъ.
— Я желаю объяснить вамъ, зачѣмъ я пріѣхалъ.
— Мы съ вами знакомы: почему же вамъ и не пріѣхать ко мнѣ? Притомъ же, вы не въ первый разъ удостоиваете меня своимъ посѣщеніемъ.
— Я пріѣхалъ къ вамъ, какъ благородный человѣкъ къ благородному человѣку, — повторилъ Рудинъ: — и хочу теперь сослаться на собственный вашъ судъ…Я довѣряю вамъ вполнѣ…
— Да въ чемъ дѣло? — проговорилъ Волынцевъ, который все еще стоялъ въ прежнемъ положеніи и сумрачно глядѣлъ на Рудина, изрѣдка подергивая концы усовъ.
— Позвольте… я пріѣхалъ затѣмъ, чтобы объясниться конечно; но, все-таки, это нельзя разомъ.
— Отчего же нельзя?
— Здѣсь замѣшано третье лицо…
— Какое третье лицо?
— Сергѣй Павлычъ, вы меня понимаете.
— Дмитрій Николаичъ, я васъ нисколько не понимаю.
— Вамъ угодно…
— Мнѣ угодно, чтобы вы говорили безъ обиняковъ! — подхватилъ Волынцевъ.
Онъ начиналъ сердиться не на шутку.
Рудинъ нахмурился.
— Извольте… мы одни… Я долженъ вамъ сказать — впрочемъ, вы, вѣроятно, уже догадываетесь (Волынцевъ, нетерпѣливо пожалъ плечами) — я долженъ вамъ сказать, что я люблю Наталью Алексѣевну и имѣю право предполагать, что и она меня любитъ.
Волынцевъ поблѣднѣлъ, но ничего не отвѣтилъ, отошелъ къ окну и отвернулся.
— Вы понимаете, Сергѣй Павлычъ, — продолжалъ Рудинъ: — что если бы я не былъ увѣренъ…
— Помилуйте! — поспѣшно перебилъ Волынцевъ, — я нисколько не сомнѣваюсь… Что-жъ! на здоровье! Только я удивляюсь, съ какого дьявола вамъ вздумалось ко мнѣ съ этимъ извѣстіемъ пожаловать… Я-то тутъ что́? Что мнѣ за дѣло, кого вы любите и кто васъ любитъ? Я просто не могу понять.
Волынцевъ продолжалъ глядѣть въ окно. Голосъ его звучалъ глухо.
Рудинъ всталъ.
— Я вамъ скажу, Сергѣй Павлычъ, почему я рѣшился пріѣхать къ вамъ, почему я не почелъ себя даже въ правѣ скрыть отъ васъ нашу… наше взаимное расположеніе. Я слишкомъ глубоко уважаю васъ — вотъ почему я пріѣхалъ; я не хотѣлъ… мы оба не хотѣли разыгрывать передъ вами комедію. Чувство ваше къ Натальѣ Алексѣевнѣ было мнѣ извѣстно… Повѣрьте, я знаю себѣ цѣну: я знаю, какъ мало достоинъ я того, чтобы замѣнить васъ въ ея сердцѣ; но если ужъ этому суждено было случиться, неужели же лучше хитрить, обманывать, притворяться? Неужели лучше подвергаться недоразумѣніямъ или даже возможности такой сцены, какая произошла вчера за обѣдомъ? Сергѣй Павлычъ, скажите сами?
Волынцевъ скрестилъ руки на груди, какъ бы усиливаясь укротить самого себя.
— Сергѣй Павлычъ! — продолжалъ Рудинъ: — я огорчилъ васъ, я это чувствую… но поймите насъ… поймите, что мы не имѣли другого средства доказать вамъ наше уваженіе, доказать, что мы умѣемъ цѣнить ваше прямодушное благородство. Откровенность, полная откровенность со всякимъ другимъ была бы неумѣстна; но съ вами она становится обязанностью. Намъ пріятно думать, что наша тайна въ вашихъ рукахъ.
Волынцевъ принужденно захохоталъ.
— Спасибо за довѣренность? — воскликнулъ онъ; — хотя, прошу замѣтить, я не желалъ ни знать вашей тайны, ни своей вамъ выдать, а вы ею распоряжаетесь, какъ своимъ добромъ. Но, позвольте: вы говорите, какъ бы отъ общаго лица. Стало-быть, я могу предполагать, что Натальѣ Алексѣевнѣ извѣстно ваше посѣщеніе и цѣль этого посѣщенія?
Рудинъ немного смутился.
— Нѣтъ, я не сообщилъ Натальѣ Алексѣевнѣ моего намѣренія; но, я знаю, она раздѣляетъ мой образъ мыслей.
— Все это прекрасно, — заговорилъ, помолчавъ немного, Волынцевъ и забарабанилъ пальцами по стеклу: — хотя, признаться, было бы гораздо лучше, если бы вы поменьше меня уважали. Мнѣ, по правдѣ сказать, ваше уваженіе ни къ чорту не нужно; но что́ же вы теперь хотите отъ меня?
— Я ничего не хочу… или, нѣтъ! я хочу одного: я хочу, чтобы вы не считали меня коварнымъ и хитрымъ человѣкомъ, чтобы вы поняли меня… Я надѣюсь, что вы теперь уже не можете сомнѣваться въ моей искренности… Я хочу, Сергѣй Павлычъ, чтобы мы разстались друзьями… чтобы вы, по прежнему, протянули мнѣ руку…
И Рудинъ приблизился къ Волынцеву.
— Извините меня, милостивый государь, — промолвилъ Волынцевъ, обернувшись и отступивъ шагъ назадъ: — я готовъ отдать полную справедливость вашимъ намѣреніямъ, все это прекрасно, положимъ, даже возвышенно, но мы люди простые, ѣдимъ пряники неписанные, мы не въ состояніи слѣдить за полетомъ такихъ великихъ умовъ, каковъ вашъ… Что́ вамъ кажется искреннимъ, намъ кажется навязчивымъ и нескромнымъ… Что́ для васъ просто и ясно, для насъ запутанно и темно… Вы хвастаетесь тѣмъ, что́ мы скрываемъ: гдѣ же намъ понять васъ! Извините меня: ни другомъ я васъ считать не могу, ни руки я вамъ не подамъ… Это, можетъ быть, мелко; да вѣдь я самъ мелокъ.
Рудинъ взялъ шляпу съ окна.
— Сергѣй Павлычъ! — проговорилъ онъ печально: — прощайте; я обманулся въ своихъ ожиданіяхъ. Посѣщеніе мое, дѣйствительно, довольно странно; но я надѣялся, что вы… (Волынцевъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе)… Извините, я больше говорить объ этомъ не стану. Сообразивъ все, я вижу, точно: вы правы и иначе поступить не могли. Прощайте и позвольте, по-крайней мѣрѣ, еще разъ, въ послѣдній разъ, увѣрить васъ въ чистотѣ моихъ намѣреній… Въ вашей скромности я убѣжденъ…
— Это уже слишкомъ! — воскликнулъ Волынцевъ и затрясся отъ гнѣва: — я нисколько не напрашивался на ваше довѣріе; а потому разсчитывать на мою скромность вы не имѣете никакого права!
Рудинъ хотѣлъ что-то сказать, но только руками развелъ, поклонился и вышелъ, а Волынцевъ бросился на диванъ и повернулся лицомъ къ стѣнѣ.
— Можно войти къ тебѣ? — послышался у двери голосъ Александры Павловны.
Волынцевъ не тотчасъ отвѣчалъ и украдкой провелъ рукой по лицу.
— Нѣтъ, Саша, — проговорилъ онъ слегка измѣнившимся голосомъ: — погоди еще немножко.
Полчаса спустя, Александра Павловна опять подошла къ двери.
— Михайло Михайлычъ пріѣхалъ, — сказала она: — хочешь ты его видѣть?
— Хочу, — отвѣтилъ Волынцевъ: пошли его сюда.
Лежневъ вошелъ.
— Что́ — ты нездоровъ? — спросилъ онъ, усаживаясь на кресла возлѣ дивана.
Волынцевъ приподнялся, оперся на локоть, долго, долго посмотрѣлъ своему пріятелю въ лицо, и тутъ же передалъ ему весь свой разговоръ съ Рудинымъ, отъ слова до слова. Онъ никогда до тѣхъ поръ и не намекалъ Лежневу о своихъ чувствахъ къ Натальѣ, хотя и догадывался, что они для него не были скрыты.
— Ну, братъ, удивилъ ты меня, — проговорилъ Лежневъ, какъ только Волынцевъ кончилъ свой разсказъ. — Много странностей ожидалъ я отъ него, но ужъ это… Впрочемъ, узнаю его и тутъ.
— Помилуй! — говорилъ взволнованный Волынцевъ: — вѣдь это просто наглость! Вѣдь я чуть-чуть его за окно не выбросилъ! Похвастаться, что-ли, онъ хотѣлъ передо мной, или струсилъ? Да съ какой стати? Какъ рѣшиться ѣхать къ человѣку…
Волынцевъ закинулъ руки за голову и умолкъ.
— Нѣтъ, братъ, это не то, — спокойно возразилъ Лежневъ. — Ты, вотъ, мнѣ не повѣришь, а вѣдь онъ это сдѣлалъ изъ хорошаго побужденія. Право… Оно, вишь ты, и благородно, и откровенно, ну, да и поговорить представляется случай, краснорѣчіе въ ходъ пустить; а вѣдь намъ вотъ чего нужно, вотъ безъ чего мы жить не въ состояніи… Охъ, языкъ его — врагъ его… Ну, за то же онъ и слуга ему.
— Съ какой торжественностью онъ вошелъ и говорилъ, ты себѣ представить не можешь!…
— Ну, да безъ этого ужъ нельзя. Онъ сюртукъ застегиваетъ, словно священный долгъ исполняетъ. Я бы посадилъ его на необитаемый островъ и посмотрѣлъ бы изъ-за угла, какъ бы онъ тамъ распоряжаться сталъ. А онъ толкуетъ о простотѣ!
— Да скажи мнѣ, брать, ради Бога, — спросилъ Волынцевъ — что́ это такое: философія, что́-ли?
— Какъ тебѣ сказать? съ одной стороны, пожалуй, это точно философія — а съ другой ужъ это совсѣмъ не то́. На философію всякій вздоръ сваливать тоже не приходится.
Волынцевъ взглянулъ на него.
— А не солгалъ ли онъ, какъ ты думаешь?
— Нѣтъ, сынъ мой, не солгалъ. А впрочемъ, знаешь ли что? Довольно разсуждать объ этомъ. Давай-ка, братецъ, закуримъ трубки, да попросимъ сюда Александру Павловну… При ней и говорится лучше, и молчится легче. Она насъ чаемъ напоитъ.
— Пожалуй, — возразилъ Волынцевъ. — Саша, войди! — крикнулъ онъ.
Александра Павловна вошла. Онъ схватилъ ея руку и крѣпко прижалъ ее къ своимъ губамъ.
•••
Рудинъ вернулся домой въ состояніи духа смутномъ и странномъ. Онъ досадовалъ на себя, упрекалъ себя въ непростительной опрометчивости, въ мальчишествѣ. Недаромъ сказалъ кто-то: нѣтъ ничего тягостнѣе сознанія только-что сдѣланной глупости.
Раскаяніе грызло Рудина.
„Чортъ меня дернулъ“, шепталъ онъ сквозь зубы, „съѣздить къ этому помѣщику! Вотъ пришла мысль! Только на дерзости напрашиваться!“…
А въ домѣ Дарьи Михайловны происходило что-то необыкновенное. Сама хозяйка цѣлое утро не показывалась, и къ обѣду не вышла: у ней, по увѣренію Пандалевскаго, единственнаго допущеннаго до нея лица, голова болѣла. Наталью Рудинъ также почти не видалъ: она сидѣла въ своей комнатѣ съ m-lle Boncourt… Встрѣтясь съ нимъ въ столовой, она такъ печально на него посмотрѣла, что у него сердце дрогнуло. Ея лицо измѣнилось, словно несчастье обрушилось на нее со вчерашняго дня. Тоска неопредѣленныхъ предчувствіи начала томить Рудина. Чтобы какъ-нибудь развлечься, онъ занялся съ Басистовымъ, много съ нимъ разговаривалъ и нашелъ въ немъ горячаго, живого малаго, съ восторженными надеждами и нетронутой еще вѣрой. Къ вечеру Дарья Михайловна появилась часа на два въ гостиной. Она была любезна съ Рудинымъ, но держалась какъ-то отдаленно, и то посмѣивалась, то хмурилась, говорила въ носъ, и все больше намеками… Такъ отъ нея придворной дамой и вѣяло. Въ послѣднее время она, какъ будто, охладѣла немного къ Рудину. — „Что́ за загадка?“ думалъ онъ, глядя съ боку на ея закинутую головку.
Онъ не долго дожидался разрѣшенія этой загадки. Возвращаясь часу въ двѣнадцатомъ ночи, въ свою комнату, шелъ онъ по темному коридору. Вдругъ кто-то сунулъ ему въ руку записку. Онъ оглянулся: отъ него удалялась дѣвушка, какъ ему показалось, Натальина горничная. Онъ пришелъ къ себѣ, услалъ человѣка, развернулъ записку и прочелъ слѣдующія строки, начертанныя рукою Натальи:
„Приходите завтра, въ седьмомъ часу утра, не позже, къ Авдюхину пруду, за дубовымъ лѣсомъ. Всякое другое время невозможно. Это будетъ наше послѣднее свиданіе, все будетъ кончено, если… Приходите. Надо будетъ рѣшиться…
P. S. Если я не приду, значитъ, мы не увидимся больше: тогда я вамъ дамъ знать…“
Рудинъ задумался, повертѣлъ записку въ рукахъ, положилъ ее подъ подушку, раздѣлся, легъ, но заснулъ не скоро, спалъ чуткимъ сномъ, и не было еще пяти часовъ, когда онъ проснулся.
ІХ.
Авдюхинъ прудъ, возлѣ котораго Наталья назначила свиданіе Рудину, давно пересталъ быть прудомъ. Лѣтъ тридцать тому назадъ его прорвало и съ тѣхъ поръ его забросили. Только по ровному и плоскому дну оврага, нѣкогда затянутому жирнымъ иломъ, да по остаткамъ плотины можно было догадаться, что здѣсь былъ прудъ. Тутъ же существовала усадьба. Она давнымъ-давно изчезла. Двѣ огромныя сосны напоминали о ней; вѣтеръ вѣчно шумѣлъ и угрюмо гудѣлъ въ ихъ высокой, тощей зелени… Въ народѣ ходили таинственные слухи о страшномъ преступленіи, будто бы совершенномъ у ихъ корня; поговаривали также, что ни одна изъ нихъ не упадетъ, не причинивъ кому-нибудь смерти; что тутъ прежде стояла третья сосна, которая въ бурю повалилась и задавила дѣвочку. Все мѣсто около стараго пруда считалось нечистымъ; пустое и голое, но глухое и мрачное, даже въ солнечный день — оно казалось еще мрачнѣе и глуше отъ близости дряхлаго дубоваго лѣса, давно вымершаго и засохшаго. Рѣдкіе сѣрые остовы громадныхъ деревьевъ высились какими-то унылыми призраками надъ низкой по́рослью кустовъ. Жутко было смотрѣть на нихъ: казалось, злые старики сошлись и замышляютъ что-то недоброе. Узкая, едва проторенная дорожка вилась въ сторонѣ. Безъ особенной нужды никто не проходилъ мимо Авдюхина пруда. Наталья съ намѣреніемъ выбрала такое уединенное мѣсто. До него отъ дома Дарьи Михайловны было не болѣе полуверсты.
Солнце уже давно встало, когда Рудинъ пришелъ къ Авдюхину пруду; но не веселое было утро. Сплошныя тучи молочнаго цвѣта покрывали все небо; вѣтеръ быстро гналъ ихъ, свистя и взвизгивая. Рудинъ началъ ходить взадъ и впередъ по плотинѣ, покрытой цѣпкимъ лопушникомъ и почернѣлой крапивой. Онъ не былъ спокоенъ. Эти свиданія, эти новыя ощущенія занимали, но и волновали его, особенно послѣ вчерашней записки. Онъ видѣлъ, что развязка приближалась, и втайнѣ смущался духомъ, хотя никто бы этого не подумалъ, глядя, съ какой сосредоточенной рѣшимостью онъ скрещивалъ руки на груди и поводилъ кругомъ глазами. Не даромъ про него сказалъ однажды Пигасовъ, что его, какъ китайскаго болванчика, постоянно перевѣшивала голова. Но съ одной головой, какъ бы она сильна ни была, человѣку трудно узнать даже то, что въ немъ самомъ происходитъ… Рудинъ, умный, проницательный Рудинъ, не въ состояніи былъ сказать навѣрное, любитъ ли онъ Наталью, страдаетъ ли онъ, будетъ ли страдать, разставшись съ нею. Зачѣмъ же, не прикидываясь даже Ловласомъ — эту справедливость отдать ему слѣдуетъ — сбилъ онъ съ толку бѣдную дѣвушку? Отчего ожидалъ ее съ тайнымъ трепетомъ? На это одинъ отвѣтъ: никто такъ легко не увлекается, какъ безстрастные люди.
Онъ ходилъ по плотинѣ, а Наталья спѣшила къ нему прямо черезъ поле, по мокрой травѣ.
— Барышня! барышня! вы себѣ ноги замочите, — говорила ей ея горничная, Маша, едва поспѣвая за ней.
Наталья не слушала ее и бѣжала безъ оглядки.
— Ахъ, какъ бы не подсмотрѣли насъ! — твердила Маша. — Ужъ и тому дивиться надо, какъ мы изъ дому-то вышли. Какъ бы мамзель не проснулась… Благо, недалеко… А ужъ они ждутъ-съ, — прибавила она, увидѣвъ внезапно статную фигуру Рудина, картинно стоявшаго на плотинѣ: — только напрасно они этакъ на юру стоятъ — сошли бы въ лощину.
Наталья остановилась.
— Подожди здѣсь, Маша, у сосенъ, — промолвила она и спустилась къ пруду.
Рудинъ подошелъ къ ней и остановился въ изумленіи. Такого выраженія онъ еще не замѣчалъ на ея лицѣ. Брови ея были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядѣли прямо и строго.
— Дмитрій Николаичъ, — начала она: — намъ время терять некогда. Я пришла на пять минутъ. Я должна сказать вамъ, что матушка все знаетъ. Г-нъ Пандалевскій подсмотрѣлъ насъ третьяго дня и разсказалъ ей о нашемъ свиданіи. Онъ всегда былъ шпіономъ у матушки. Она вчера позвала меня къ себѣ.
— Боже мой! — воскликнулъ Рудинъ: — это ужасно… Что же сказала ваша матушка?
— Она не сердилась на меня, не бранила меня, только попеняла мнѣ за мое легкомысліе.
— Только?
— Да, и объявила мнѣ, что она скорѣе согласится видѣть меня мертвою, чѣмъ вашей женою.
— Неужели она это сказала?
— Да; и еще прибавила, что вы сами нисколько не желаете жениться на мнѣ, что вы только такъ, отъ скуки, приволокнулись за мной, и что она этого отъ васъ не ожидала; что, впрочемъ, она сама виновата, зачѣмъ позволила мнѣ такъ часто видѣться съ вами… что она надѣется на мое благоразуміе, что я ее очень удивила… да уже я и не помню всего, что́ она говорила мнѣ.
Наталья произнесла все это какимъ-то ровнымъ, почти беззвучнымъ голосомъ.
— А вы, Наталья Алексѣевна, что́ вы ей отвѣтили? — спросилъ Рудинъ.
— Что́ я ей отвѣтила? — повторила Наталья… Что́ вы теперь намѣрены дѣлать?
— Боже мой! Боже мой! — возразилъ Рудинъ: — это жестоко! Такъ скоро!… такой внезапный ударъ!… И ваша матушка пришла въ такое негодованіе?
— Да… да, она слышать о васъ не хочетъ.
— Это ужасно! Стало-быть, никакой надежды нѣтъ?
— Никакой.
— За что́ мы такъ несчастливы! Гнусный этотъ Пандалевскій!… Вы меня спрашиваете, Наталья Алексѣевна, что я намѣренъ дѣлать? У меня голова кругомъ идетъ — я ничего сообразить не могу… Я чувствую только свое несчастіе… удивляюсь, какъ вы можете сохранить хладнокровіе!…
— Вы думаете, мнѣ легко? — проговорила Наталья.
Рудинъ началъ ходить по плотинѣ. Наталья не спускала съ него глазъ.
— Ваша матушка васъ не разспрашивала? — промолвилъ онъ наконецъ.
— Она меня спросила, люблю ли я васъ.
— Ну… и вы?
Наталья помолчала.
— Я не солгала.
Рудинъ взялъ ее за руку.
— Всегда, во всемъ благородна и великодушна! О, сердце дѣвушки — это чистое золото! Но неужели ваша матушка такъ рѣшительно объявила свою волю насчетъ невозможности нашего брака?
— Да, рѣшительно. Я ужъ вамъ сказала: она убѣждена, что вы сами не думаете жениться на мнѣ.
— Стало-быть, она считаетъ меня за обманщика! Чѣмъ я заслужилъ это?
И Рудинъ схватилъ себя за голову.
— Дмитрій Николаичъ! — промолвила Наталья: — мы тратимъ попусту время. Вспомните, я въ послѣдній разъ вижусь съ вами. Я пришла сюда не плакать, не жаловаться — вы видите, я не пла́чу — я пришла за совѣтомъ.
— Да какой совѣтъ могу я дать вамъ, Наталья Алексѣевна?
— Какой совѣтъ? Вы мужчина: я привыкла вамъ вѣрить, я до конца буду вѣрить вамъ. Скажите мнѣ, какія ваши намѣренія?
— Мои намѣренія? Ваша матушка, вѣроятно, откажетъ мнѣ отъ дому.
— Можетъ быть. Она уже вчера объявила мнѣ, что должна будетъ раззнакомиться съ вами… Но вы не отвѣчаете на мой вопросъ.
— На какой вопросъ?
— Какъ вы думаете, что́ намъ надобно теперь дѣлать?
— Что́ намъ дѣлать? — возразилъ Рудинъ: — разумѣется, покориться.
— Покориться, — медленно повторила Наталья, и губы ея поблѣднѣли.
— Покориться судьбѣ, — продолжалъ Рудинъ. — Что́ же дѣлать! Я слишкомъ хорошо знаю, какъ это горько, тяжело, невыносимо; но, посудите сами, Наталья Алексѣевна, я бѣденъ… Правда, я могу работать; но если-бъ я былъ даже богатый человѣкъ, въ состояніи ли вы перенести насильственное расторженіе съ вашимъ семействомъ, гнѣвъ вашей матери?… Нѣтъ, Наталья Алексѣевна; объ этомъ и думать нечего. Видно, намъ не суждено было жить вмѣстѣ, и то счастье, о которомъ я мечталъ, не для меня!
Наталья вдругъ закрыла лицо руками и заплакала. Рудинъ приблизился къ ней.
— Наталья Алексѣевна! милая Наталья! — заговорилъ онъ съ жаромъ: — не плачьте, ради Бога, не терзайте меня, утѣшьтесь…
Наталья подняла голову.
— Вы мнѣ говорите, чтобы я утѣшилась, — начала она, и глаза ея заблестѣли сквозь слезы? — я не о томъ плачу, о чемъ вы думаете… Мнѣ не то больно: мнѣ больно то, что я въ васъ обманулась… Какъ! я прихожу къ вамъ за совѣтомъ, и въ какую минуту! — и первое ваше слово: покориться… Покориться! Такъ вотъ какъ вы примѣняете на дѣлѣ ваши толкованія о свободѣ, о жертвахъ, которыя…
Ея голосъ прервался.
— Но, Наталья Алексѣевна, — началъ смущенный Рудинъ: — вспомните… я не отказываюсь отъ словъ моихъ… только…
— Вы спрашивали меня, — продолжала она съ новой силой: — что́ я отвѣтила моей матери, когда она объявила мнѣ, что скорѣе согласится на мою смерть, чѣмъ на бракъ мой съ вами: я ей отвѣтила, что скорѣе умру, чѣмъ выйду за другого замужъ… А вы говорите: покориться! Стало-быть, она была права: вы, точно, отъ нечего дѣлать, отъ скуки, пошутили со мной…
— Клянусь вамъ, Наталья Алексѣевна… увѣряю васъ… — твердилъ Рудинъ.
Но она его не слушала.
— Зачѣмъ же вы не остановили меня? зачѣмъ вы сами… Или вы не разсчитывали на препятствія? Мнѣ стыдно говорить объ этомъ… но, вѣдь, все уже кончено.
— Вамъ надо успокоиться, Наталья Алексѣевна, — началъ-было Рудинъ: — намъ надо вдвоемъ подумать, какія мѣры…
— Вы такъ часто говорили о самопожертвованіи, — перебила она: — но, знаете-ли, если-бъ вы сказали мнѣ сегодня, сейчасъ: „я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвѣчаю за будущее, дай мнѣ руку и ступай за мной“, — знаете ли, что я бы пошла за вами, знаете ли, что я на все рѣшилась? Но, вѣрно, отъ слова до дѣла еще далеко, и вы теперь струсили точно такъ же, какъ струсили третьяго дня, за обѣдомъ, передъ Волынцевымъ.
Краска бросилась въ лицо Рудину. Неожиданная восторженность Натальи его поразила; но послѣднія слова ея уязвили его самолюбіе.
— Вы слишкомъ раздражены теперь, Наталья Алексѣевна, — началъ онъ: — вы не можете понять, какъ вы жестоко оскорбляете меня. Я надѣюсь, что со временемъ вы отдадите мнѣ справедливость; вы поймете, чего мнѣ стоило отказаться отъ счастія, которое, какъ вы говорите сами, не налагало на меня никакихъ обязанностей. Ваше спокойствіе мнѣ дороже всего въ мірѣ, и я былъ бы человѣкомъ самымъ низкимъ, если-бъ рѣшился воспользоваться. …
— Можетъ быть, можетъ быть, — перебила Наталья: — можетъ быть, вы правы, я не знаю что́ говорю. Но я до сихъ поръ вамъ вѣрила, каждому вашему слову вѣрила… Впередъ, пожалуйста, взвѣшивайте ваши слова, не произносите ихъ на вѣтеръ. Когда я вамъ сказала, что я люблю васъ, я знала, что́ значитъ ото слово: я на все была готова… Теперь мнѣ остается благодарить васъ за урокъ — и проститься.
— Остановитесь, ради Бога, Наталья Алексѣевна, умоляю васъ. Я не заслуживаю вашего презрѣнія, клянусь вамъ. Войдите же и вы въ мое положеніе. Я отвѣчаю за васъ и за себя. Если-бъ я не любилъ васъ самой преданной любовью — да Боже мой! я бы тотчасъ самъ предложилъ вамъ бѣжать со мною… Рано или поздно, матушка ваша проститъ насъ… и тогда… Но прежде чѣмъ думать о собственномъ счастьѣ…
Онъ остановился. Взоръ Натальи, прямо на него устремленный, смущалъ его.
— Вы стараетесь мнѣ доказать, что вы честный человѣкъ, Дмитрій Николаичъ, — промолвила она! — я въ этомъ не сомнѣваюсь. Вы не въ состояніи дѣйствовать изъ разсчета; но развѣ въ этомъ я желала убѣдиться, развѣ для этого я пришла сюда…
— Я не ожидалъ, Наталья Алексѣевна…
— А! вотъ когда вы проговорились! Да, вы не ожидали всего этого — вы меня не знали. Не безпокойтесь… вы не любите меня, а я никому не навязываюсь.
— Я васъ люблю! — воскликнулъ Рудинъ.
Наталья выпрямилась.
— Можетъ быть; но какъ вы меня любите! Я помню всѣ ваши слова, Дмитрій Николаичъ. Помните, вы мнѣ говорили: безъ полнаго равенства нѣтъ любви… Вы для меня слишкомъ высоки, вы не мнѣ чета… Я подѣломъ наказана, Вамъ предстоятъ занятія, болѣе достойныя васъ. Я не забуду нынѣшняго дня… Прощайте…
— Наталья Алексѣевна, вы уходите? Неужели мы такъ разстанемся?
Онъ протянулъ къ ней руки. Она остановилась. Его умоляющій голосъ, казалось, поколебалъ ее.
— Нѣтъ, — промолвила она наконецъ: — я чувствую, что-то во мнѣ надломилось… Я шла сюда, я говорила съ вами точно въ горячкѣ; надо опомниться. Этого не должно быть, вы сами сказали, этого не будетъ. Боже мой, когда я шла сюда, я мысленно прощалась съ моимъ домомъ, со всѣмъ моимъ прошедшимъ, — и что же? кого я встрѣтила здѣсь? малодушнаго человѣка… И почему вы знали, что я не въ состояніи буду перенести разлуку съ семействомъ? „Ваша матушка несогласна… Это ужасно!“ Вотъ все, что́ я слышала отъ васъ. Вы ли это, вы ли это, Рудинъ? Нѣтъ! прощайте… Ахъ! если бы вы меня любили, я бы почувствовала это теперь, въ это мгновеніе… Нѣтъ, нѣтъ, прощайте!…
Она быстро повернулась и побѣжала къ Машѣ, которая уже давно начала безпокоиться и дѣлать ей знаки.
— Вы трусите, а не я! — крикнулъ Рудинъ вслѣдъ Натальѣ.
Опа уже не обращала на него вниманія и спѣшила черезъ поле домой. Она благополучно возвратилась къ себѣ въ спальню; но только лишь переступила порогъ, силы ей измѣнили, и она безъ чувствъ упала на руки Машѣ.
А Рудинъ долго еще стоялъ на плотинѣ. Наконецъ, онъ встрепенулся, медленными шагами добрался до дорожки и тихо пошелъ по ней. Онъ былъ очень пристыженъ… и огорченъ. „Какова?“ думалъ онъ. „Въ восемнадцать лѣтъ!… Нѣтъ, я ея не зналъ… Она замѣчательная дѣвушка. Какая сила воли!… Она права; она стоитъ не такой любви, какую я къ ней чувствовалъ… Чувствовалъ?…“ спросилъ онъ самого себя. „Развѣ я уже больше не чувствую любви? Такъ вотъ какъ это все должно было кончиться! Какъ я былъ жалокъ и ничтоженъ передъ ней!“
Легкій стукъ бѣговыхъ дрожекъ заставилъ Рудина поднять глаза. Къ нему на встрѣчу, на неизмѣнномъ своемъ рысачкѣ, ѣхалъ Лежневъ. Рудинъ молча съ нимъ раскланялся, и, какъ пораженный внезапной мыслью, свернулъ съ дороги и быстро пошелъ но направленію къ дому Дарьи Михайловны.
Лежневъ далъ ему отойти, посмотрѣлъ вслѣдъ за нимъ и, подумавъ немного, тоже поворотилъ назадъ свою лошадь — и поѣхалъ обратно къ Волынцеву, у котораго провелъ ночь. Онъ засталъ его спящимъ, не велѣлъ будить его и, въ ожиданіи чая, сѣлъ на балконъ и закурилъ трубку.
Х.
Волынцевъ всталъ часу въ десятомъ и, узнавъ, что Лежневъ сидитъ у него на балконѣ, очень удивился и велѣлъ его попросить къ себѣ.
— Что́ случилось? — спросилъ онъ его. — Вѣдь ты хотѣлъ къ себѣ поѣхать.
— Да, хотѣлъ, да встрѣтилъ Рудина… Одинъ шагаетъ по полю, и лицо такое разстроенное. Я взялъ, да и вернулся.
— Ты вернулся оттого, что встрѣтилъ Рудина?
— То-есть, правду сказать, я самъ не знаю, почему я вернулся; вѣроятно, потому, что о тебѣ вспомнилъ; хотѣлось съ тобой посидѣть; а къ себѣ я еще успѣю.
Волынцевъ гордо усмѣхнулся.
— Да, о Рудинѣ нельзя теперь подумать, не подумавъ также и обо мнѣ… Человѣкъ! — крикнулъ онъ громко — дай намъ чаю.
Пріятели начали пить чай. Лежневъ заговорилъ было о хозяйствѣ, о новомъ способѣ крыть амбары бумагой…
Вдругъ Волынцевъ вскочилъ съ креселъ и съ такой силой ударилъ по столу, что чашки и блюдечки зазвенѣли.
— Нѣтъ! — воскликнулъ онъ: — я дольше этого выносить не въ силахъ! Я вызову этого умника, и пусть онъ меня застрѣлитъ, либо ужъ я постараюсь влѣпить пулю въ его ученый лобъ!
— Что́ ты, что́ ты, помилуй! — пробормоталъ Лежневъ: — какъ можно такъ кричать! я чубукъ уронилъ… Что́ съ тобой?
— А то что я слышать равнодушно имени его не могу: вся кровь у меня такъ и заходитъ.
— Полно, братъ, полно! какъ тебѣ не стыдно! — возразилъ Лежневъ, поднимая съ полу трубку. — Брось! — Ну его!…
— Онъ меня оскорбилъ, — продолжалъ Волынцевъ, расхаживая по комнатѣ… да! онъ оскорбилъ меня. Ты самъ долженъ съ этимъ согласиться. На первыхъ порахъ я не нашелся: онъ озадачилъ меня; да и кто могъ ожидать этого? Но я ему докажу, что шутить со мной нельзя… Я его, проклятаго философа, какъ куропатку застрѣлю.
— Много ты этимъ выиграешь, какъ-же! Я уже о сестрѣ твоей не говорю. Извѣстно, ты обуреваемъ страстью… гдѣ тебѣ о сестрѣ думать! Да въ отношеніи къ другой особѣ, что́ ты думаешь, убивши философа, ты дѣла свои поправишь?
Волынцевъ бросился въ кресла.
— Такъ уѣду я куда-нибудь! А то здѣсь тоска мнѣ просто сердце отдавила: просто, мѣста нигдѣ найти не могу.
— Уѣдешь… вотъ это другое дѣло! Вотъ съ этимъ я согласенъ. И знаешь ли, что я тебѣ предлагаю. Поѣдемъ-ка вмѣстѣ — на Кавказъ или такъ просто въ Малороссію, галушки ѣсть. Славное, братъ, дѣло!
— Да; а сестру-то съ кѣмъ оставимъ?
— А почему же Александрѣ Павловнѣ не поѣхать съ нами? Ей-Богу, отлично выйдетъ. Ухаживать за ней, — ужъ за это я берусь! Ни въ чемъ недостатка имѣть не будетъ; коли захочетъ, каждый вечеръ серенаду подъ окномъ устрою; ямщиковъ одеколономъ надушу, цвѣты по дорогамъ натыкаю. А ужъ мы, братъ, съ тобой просто переродимся; такъ наслаждаться будемъ, брюханами такими назадъ пріѣдемъ, что никакая любовь насъ уже не пройметъ!
— Ты все шутишь, Миша!
— Вовсе не шучу. Это тебѣ блестящая мысль въ голову пришла.
— Нѣтъ! вздоръ! — вскрикнулъ опять Волынцевъ; — я драться, драться съ нимъ хочу!…
— Опять! Экой ты, братъ, сегодня съ колеромъ!…
Человѣкъ вошелъ съ письмомъ въ рукѣ.
— Отъ кого? — спросилъ Лежневъ.
— Отъ Рудина, Дмитрія Николаевича. Ласунскихъ человѣкъ привезъ.
— Отъ Рудина? — повторилъ Волынцевъ: — къ кому?
— Къ вамъ-съ.
— Ко мнѣ… подай.
Волынцевъ схватилъ письмо, быстро распечаталъ его, сталъ читать. Лежневъ внимательно глядѣлъ на него: странное, почти радостное изумленіе изображалось на лицѣ Волынцева; онъ опустилъ руки.
— Что́ такое? — спросилъ Лежневъ.
— Прочти, — проговорилъ Волынцевъ вполголоса и протянулъ ему письмо.
Лежневъ началъ читать. Вотъ что́ писалъ Рудинъ:
„Милостивый государь, Сергѣй Павловичъ!
„Я сегодня уѣзжаю изъ дома Дарьи Михайловны, и уѣзжаю навсегда. Это васъ, вѣроятно, удивитъ, особенно послѣ того, что́ произошло вчера. Я не могу объяснить вамъ, что́ именно заставляетъ меня поступить такъ; но мнѣ почему-то кажется, что я долженъ извѣстить васъ о моемъ отъѣздѣ. Вы меня не любите, и даже считаете меня за дурного человѣка. Я не намѣренъ оправдываться: меня оправдаетъ время. По-моему, и недостойно мущины, и безполезно доказывать предубѣжденному человѣку несправедливость его предубѣжденій. Кто захочетъ меня понять, тотъ извинитъ меня, а кто понять не хочетъ или не можетъ — обвиненія того меня не трогаютъ. Я ошибся въ васъ. Въ глазахъ моихъ вы, по прежнему, остаетесь благороднымъ и честнымъ человѣкомъ; но я полагалъ, вы съумѣете стать выше той среды, въ которой развились… Я ошибся. Что́ дѣлать?! Не въ первый и не въ послѣдній разъ. Повторяю вамъ: я уѣзжаю. Желаю вамъ счастія. Согласитесь, что это желаніе совершенно безкорыстно, и надѣюсь, что вы теперь будете счастливы. Можетъ быть, вы со временемъ измѣните свое мнѣніе обо мнѣ. Увидимся ли мы когда-нибудь, не знаю, но, во всякомъ случаѣ, остаюсь искренно васъ уважающій —
Д. Р.“ „Р. S. Должные мною вамъ двѣсти рублей я вышлю, какъ только пріѣду къ себѣ въ деревню, въ Т…ую губернію. Также прошу васъ не говорить при Дарьѣ Михайловнѣ объ этомъ письмѣ.“
„Р. P. S. Еще одна послѣдняя, но важная просьба: такъ какъ я теперь уѣзжаю, то я надѣюсь, вы не будете упоминать передъ Натальей Алексѣевной о моемъ посѣщеніи у васъ…“
— Ну, что́ ты скажешь? — спросилъ Волынцевъ, какъ только Лежневъ окончилъ письмо.
— Что́ тутъ сказать! — возразилъ Лежневъ, — воскликнуть по восточному: „Аллахъ! Аллахъ!“ и положить въ ротъ палецъ изумленія — вотъ все, что молено сдѣлать. Онъ уѣзжаетъ… Ну! доро́га скатертью. Но вотъ что любопытно: вѣдь и это письмо онъ почелъ за долгъ написать, и являлся онъ къ тебѣ по чувству долга… У этихъ господъ на каждомъ шагу долгъ, и все долгъ — да долги, — прибавилъ Лежневъ, съ усмѣшкой указывая на post scriptum.
— А каковы онъ фразы выпускаетъ? — воскликнулъ Волынцевъ. — Онъ ошибся во мнѣ: онъ ожидалъ, что я стану выше какой-то среды… Что за ахинея, Господи! хуже стиховъ!
Лежневъ ничего не отвѣтилъ; одни глаза его улыбнулись. Волынцевъ всталъ.
— Я хочу съѣздить къ Дарьѣ Михайловнѣ, — промолвилъ онъ: — я хочу узнать, что́ все это значитъ…
— Погоди, братъ: дай ему убраться. Къ чему тебѣ опять съ нимъ сталкиваться? Вѣдь онъ исчезаетъ — чего тебѣ еще? Лучше поди-ка лягъ, да усни; вѣдь ты, чай, всю ночь съ боку на бокъ проворочался. А теперь дѣла твои поправляются…
— Изъ чего ты это заключаешь?
— Да такъ мнѣ кажется. Право, усни; а я пойду къ твоей сестрѣ — посижу съ ней.
— Я вовсе спать не хочу. Съ какой стати мнѣ спать?… Я лучше поѣду, поля осмотрю, — сказалъ Волынцевъ, одергивая полы пальто.
— И то добре. Поѣзжай, братъ, поѣзжай, осмотри поля…
И Лежневъ отправился на половину Александры Павловны. Онъ засталъ ее въ гостиной. Она ласково его привѣтствовала. Она всегда радовалась его приходу; но лицо ея осталось печально. Ее безпокоило вчерашнее посѣщеніе Рудина.
— Вы отъ брата? — спросила она Лежнева: — каковъ онъ сегодня?
— Ничего, поѣхалъ поля осматривать.
Александра Павловна помолчала.
— Скажите, пожалуйста, — начала она, внимательно разсматривая кайму носового платка: — вы не знаете, зачѣмъ…
— Пріѣзжалъ Рудинъ? — подхватилъ Лежневъ: — Знаю: онъ пріѣзжалъ проститься.
Александра Павловна подняла голову.
— Какъ — проститься?
— Да. Развѣ вы не слыхали? Онъ уѣзжаетъ отъ Дарьи Михайловны.
— Уѣзжаетъ?
— Навсегда; по-крайней мѣрѣ, онъ такъ говоритъ.
— Да помилуйте, какъ-же это понять, послѣ всего того…
— А это другое дѣло! Понять этого нельзя, но оно такъ. Должно быть, что-нибудь тамъ у нихъ произошло. Струну слишкомъ натянулъ — она и лопнула.
— Михайло Михайлычъ! — начала Александра Павловна: я ничего не понимаю; вы, мнѣ кажется, смѣетесь надо мной…
— Да ей-Богу же нѣтъ… Говорятъ вамъ, онъ уѣзжаетъ, и даже письменно извѣщаетъ объ этомъ своихъ знакомыхъ. Оно, если хотите, съ нѣкоторой точки зрѣнія, недурно; но отъѣздъ его помѣшалъ осуществиться одному удивительнѣйшему предпріятію, о которомъ мы начали-было толковать съ вашимъ братомъ.
— Что́ такое? какое предпріятіе?
— А вотъ какое. Я предлагалъ вашему брату поѣхать, для развлеченія, путешествовать, и взять васъ съ собой. Ухаживать, собственно за вами, брался я…
— Вотъ прекрасно! — воскликнула Александра Павловна: — воображаю себѣ, какъ бы вы за мною ухаживали. Да вы бы меня съ голоду уморили.
— Вы это потому такъ говорите, Александра Павловна, что не знаете меня. Вы думаете, что я чурбанъ, чурбанъ совершенный, деревяшка какая-то: а извѣстно ли вамъ, что я способенъ таять, какъ сахаръ, дни простаивать на колѣняхъ?
— Вотъ это бы я, признаюсь, посмотрѣла!
Лежневъ вдругъ поднялся.
— Да выдьте за меня замужъ, Александра Павловна, вы все это и увидите.
Александра Павловна покраснѣла до ушей.
— Что́ вы это такое, сказали, Михайло Михайлычъ? — повторила она съ смущеніемъ.
— А то я сказалъ, — отвѣтилъ Лежневъ: — что уже давнымъ-давно и тысячу разъ у меня на языкѣ было. Я проговорился наконецъ, и вы можете поступить, какъ знаете. А чтобы не стѣснять васъ, я теперь выйду. Если вы хотите быть моею женою… Удаляюсь. Если вамъ не противно, вы только велите меня позвать: я уже пойму…
Александра Павловна хотѣла-было удержать Лежнева, но онъ проворно ушелъ, безъ шапки отправился въ садъ, оперся на калитку и началъ глядѣть куда-то.
— Михайло Михайлычъ! — раздался за нимъ голосъ горничной: — пожалуйте къ барынѣ. Онѣ васъ велѣли позвать.
Михайло Михайловичъ обернулся, взялъ горничную, къ великому ея изумленію, обѣими руками за голову, поцѣловалъ ее въ лобъ и пошелъ къ Александрѣ Павловнѣ.
ХІ.
Вернувшись домой, тотчасъ послѣ встрѣчи съ Лежневымъ, Рудинъ заперся въ своей комнатѣ и написалъ два письма: одно — къ Волынцеву (оно уже извѣстно читателямъ) и другое — къ Натальѣ. Онъ очень долго сидѣлъ надъ этимъ вторымъ письмомъ, многое въ немъ перемарывалъ и передѣлывалъ и, тщательно списавъ его на тонкомъ листѣ почтовой бумаги, сложилъ его какъ можно мельче и положилъ въ карманъ. Съ грустью на лицѣ прошелся онъ нѣсколько разъ взадъ и впередъ по комнатѣ, сѣлъ на кресло передъ окномъ, подперся рукою; слеза тихо выступила на его рѣсницы… Онъ всталъ, застегнулся на всѣ пуговицы, позвалъ человѣка и велѣлъ спросить у Дарьи Михайловны, можетъ ли онъ ее видѣть.
Человѣкъ скоро вернулся и доложилъ, что Дарья Михайловна приказала его просить. Рудинъ пошелъ къ ней.
Она приняла его въ кабинетѣ, какъ въ первый разъ, два мѣсяца тому назадъ. Но теперь она не была одна: у ней сидѣлъ Пандалевскій, скромный, свѣжій, чистый и умиленный, какъ всегда.
Дарья Михайловна любезно встрѣтила Рудина, и Рудинъ любезно ей поклонился, но, при первомъ взглядѣ на улыбавшіяся лица обоихъ, всякій хотя нѣсколько опытный человѣкъ понялъ бы, что между ними, если и не высказалось, то произошло что-то неладное. Рудинъ зналъ, что Дарья Михайловна на него сердится. Дарья Михайловна подозрѣвала, что ему уже все извѣстно.
Донесеніе Пандалевскаго очень ее разстроило. Свѣтская спесь въ ней зашевелилась. Рудинъ, бѣдный, нечиновный и пока неизвѣстный человѣкъ, дерзалъ назначить свиданіе ея дочери — дочери Дарьи Михайловны Ласунской!!
— Положимъ, онъ уменъ, онъ геній! — говорила она: — да что же это доказываетъ? Послѣ этого всякій можетъ надѣяться быть моимъ зятемъ?
— Я долго глазамъ своимъ не вѣрилъ, — подхватилъ Пандалевскій. — Какъ это не знать своего мѣста, удивляюсь!
Дарья Михайловна очень волновалась, и Натальѣ досталось отъ нея.
Она попросила Рудина сѣсть. Онъ сѣлъ, но уже не какъ прежній Рудинъ, почти хозяинъ въ домѣ, даже не какъ хорошій знакомый, а какъ гость, и не какъ близкій гость. Все это сдѣлалось въ одно мгновеніе… Такъ вода внезапно превращается въ твердый ледъ.
— Я пришелъ къ вамъ, Дарья Михайловна, — началъ Рудинъ! — поблагодарить васъ за ваше гостепріимство. Я получилъ сегодня извѣстіе изъ моей деревеньки и долженъ непремѣнно сегодня же ѣхать туда.
Дарья Михайловна пристально посмотрѣла на Рудина.
„Онъ предупредилъ меня; должно быть, догадывается“, подумала она. „Онъ избавляетъ меня отъ тягостнаго объясненія; тѣмъ лучше. Да здравствуютъ умные люди!“
— Неужели? — промолвила она громко. — Ахъ, какъ это непріятно! Ну, что дѣлать! Надѣюсь увидѣть васъ нынѣшней зимой въ Москвѣ. Мы сами скоро отсюда ѣдемъ.
— Я не знаю, Дарья Михайловна, удастся ли мнѣ быть въ Москвѣ; но если соберусь со средствами, за долгъ почту явиться къ вамъ.
„Ага, братъ!“ подумалъ въ свою очередь Пандалевскій: „давно ли ты здѣсь распоряжался бариномъ, а теперь вотъ какъ пришлось выражаться!“
— Вы, стало-быть, неудовлетворительныя извѣстія изъ вашей деревни получили? — произнесъ онъ съ обычной разстановкой.
— Да, — сухо возразилъ Рудинъ.
— Неурожай, можетъ быть?
— Нѣтъ… другое… Повѣрьте, Дарья Михайловна, — прибавилъ Рудинъ: — я никогда не забуду времени, проведеннаго мною въ вашемъ домѣ.
— И я, Дмитрій Николаичъ, всегда съ удовольствіемъ буду вспоминать наше знакомство съ вами… Когда вы ѣдете?
— Сегодня, послѣ обѣда.
— Такъ скоро!… Ну, желаю вамъ счастливаго пути. Впрочемъ, если ваши дѣла не задержатъ васъ, можетъ быть, вы еще насъ застанете здѣсь.
— Я едва ли успѣю, — возразилъ Рудинъ и всталъ. — Извините меня, прибавилъ онъ: — я не могу тотчасъ выплатить мой долгъ вамъ; но какъ только пріѣду въ деревню…
— Полноте, Дмитрій Николаичъ! — перебила его Дарья Михайловна: — какъ вамъ не стыдно!… Но который-то часъ? — спросила она.
Пандалевскій досталъ изъ кармана жилета золотые часики съ эмалью и посмотрѣлъ на нихъ, осторожно, налегая розовой щекой на твердый и бѣлый воротничекъ.
— Два часа и тридцать-три минуты, — промолвилъ онъ.
— Пора одѣваться, — замѣтила Дарья Михайловна. — До свиданья, Дмитрій Николаичъ!
Рудинъ всталъ. Весь разговоръ между нимъ и Дарьей Михайловной носилъ особый отпечатокъ. Актеры такъ репетируютъ роли, дипломаты такъ на конференціяхъ мѣняются заранѣе условленными фразами…
Рудинъ вышелъ. Онъ теперь зналъ по опыту, какъ свѣтскіе люди даже не бросаютъ, а просто роняютъ человѣка, ставшаго имъ ненужнымъ: какъ перчатку послѣ бала, какъ бумажку съ конфетки, какъ невыигравшій билетъ лотереи-томболы.
Онъ на́скоро уложился и съ нетерпѣніемъ началъ ожидать мгновенія отъѣзда. Всѣ въ домѣ очень удивились, узнавъ объ его намѣреніи; даже люди глядѣли на него съ недоумѣніемъ. Басистовъ не скрывалъ своей горести. Наталья ясно избѣгала Рудина. Она старалась не встрѣчаться съ нимъ взорами; однако онъ успѣлъ всунуть ей въ руку свое письмо. За обѣдомъ Дарья Михайловна еще разъ повторила, что надѣется увидѣть его передъ отъѣздомъ въ Москву, но Рудинъ ничего не отвѣчалъ ей. Пандалевскій чаще всѣхъ съ нимъ заговаривалъ. Рудина не разъ подмывало броситься на него и поколотить его цвѣтущее и румяное лицо. M-lle Boncourt частенько посматривала на Рудина, съ лукавымъ и страннымъ выраженіемъ въ глазахъ: у старыхъ, очень умныхъ лягавыхъ собакъ можно иногда замѣтить такое выраженіе… „Эге!“ казалось, говорила она про себя: — „вотъ какъ тебя!“
Наконецъ, пробило шесть часовъ и подали тарантасъ Рудина. Онъ сталъ торопливо прощаться со всѣми. На душѣ у него было очень скверно. Не ожидалъ онъ, что такъ выѣдетъ изъ этого дома: его какъ-будто выгоняли… „Какъ это все сдѣлалось! и къ чему было спѣшить? А впрочемъ, одинъ конецъ“ — вотъ что думалъ онъ, раскланиваясь на всѣ стороны съ принужденной улыбкой. Въ послѣдній разъ взглянулъ онъ на Наталью, и сердце его шевельнулось: глаза ея были устремлены на него съ печальнымъ, прощальнымъ упрекомъ.
Онъ проворно сбѣжалъ съ лѣстницы, вскочилъ въ тарантасъ. Басистовъ вызвался проводить его до первой станціи и сѣлъ вмѣстѣ съ нимъ.
— Помните ли вы, — началъ Рудинъ, какъ только тарантасъ выѣхалъ со двора на широкую дорогу, обсаженную елками: — помните вы, что́ говоритъ донъ-Кихотъ своему оруженосцу, когда выѣзжаетъ изъ дворца герцогини? „Свобода — говоритъ онъ — другъ мой Санчо, одно изъ самыхъ драгоцѣнныхъ достояній человѣка, и счастливъ тотъ, кому небо даровало кусокъ хлѣба, кому не нужно быть за него обязаннымъ другому!“ Что́ донъ-Кихотъ чувствовалъ тогда, — я чувствую теперь… Дай Богъ и вамъ, добрый мой Басистовъ, испытать когда-нибудь это чувство!
Басистовъ стиснулъ руку Рудину, и сердце честнаго юноши забилось сильно въ его растроганной груди. До самой станціи говорилъ Рудинъ о достоинствѣ человѣка, о значеніи истинной свободы, — говорилъ горячо, благородно и правдиво — и когда наступило мгновеніе разлуки, Басистовъ не выдержалъ, бросился ему на шею и зарыдалъ. У самого Рудина полились слезы; но онъ плакалъ не о томъ, что разставался съ Басистовымъ, и слезы его были самолюбивыя слезы.
Наталья ушла къ себѣ и прочла письмо Рудина.
„Любезная Наталья Алексѣевна — писалъ онъ ей — я рѣшился уѣхать. Мнѣ другого выхода нѣтъ. Я рѣшился уѣхать, пока мнѣ не сказали ясно, чтобы я удалился. Отъѣздомъ моимъ прекращаются всѣ недоразумѣнія; а сожалѣть обо мнѣ едва-ли кто-нибудь будетъ. Чего же ждать?… Все такъ; но для чего же писать къ вамъ?
„Я разстаюсь съ вами, вѣроятно, навсегда, и оставить вамъ о себѣ память еще хуже той, которую я заслуживаю, было бы слишкомъ горько. Вотъ для чего я пишу къ вамъ. Я не хочу ни оправдываться, ни обвинять кого бы то ни было, кромѣ самого себя: я хочу, по мѣрѣ возможности, объясниться… Происшествія послѣднихъ дней были такъ неожиданны, такъ внезапны…
„Сегодняшнее свиданіе послужитъ мнѣ памятнымъ урокомъ. Да, вы правы: я васъ не зналъ, а я думалъ, что зналъ васъ! Въ теченіи моей жизни я имѣлъ дѣло съ людьми всякаго рода, я сближался со многими женщинами и дѣвушками; но, встрѣтясь съ вами, я въ первый разъ встрѣтился съ душой совершенно честной и прямой. Мнѣ это было не въ привычку, и я не съумѣлъ оцѣнить васъ. Я почувствовалъ влеченіе къ вамъ съ перваго дня нашего знакомства — вы это могли замѣтить. Я проводилъ съ вами часы за часами, и я не узналъ васъ; я едва ли даже старался узнать васъ… и я могъ вообразить, что полюбилъ васъ!! За этотъ грѣхъ я теперь наказанъ.
„Я и прежде любилъ одну женщину, и она меня любила… Чувство мое къ ней было сложно, какъ и ея ко мнѣ; но такъ какъ она сама не была проста, оно и пришлось кстати. Истина мнѣ тогда не сказалась: я не узналъ ея и теперь, когда она предстала передо мною… Я ее узналъ наконецъ, да слишкомъ поздно… Прошедшаго не воротишь… Наши жизни могли бы слиться — и не сольются никогда. Какъ доказать вамъ, что я могъ бы полюбить васъ настоящей любовью — любовью сердца, не воображенія — когда я самъ не знаю, способенъ ли я на такую любовь!
„Мнѣ природа дала много — я это знаю, и изъ ложнаго стыда не стану скромничать передъ вами, особенно теперь, въ такія горькія, въ такія постыдныя для меня мгновенія… Да, природа мнѣ много дала; но я умру, не сдѣлавъ ничего достойнаго силъ моихъ, не оставивъ за собою никакого благотворнаго слѣда. Все мое богатство пропадетъ даромъ; я не увижу плодовъ отъ сѣмянъ своихъ. Мнѣ недостаетъ… я самъ не могу сказать, чего именно недостаетъ мнѣ… Мнѣ недостаетъ, вѣроятно, того, безъ чего такъ же нельзя двигать сердцами людей, какъ и овладѣть женскимъ сердцемъ; а господство надъ одними умами и непрочно, и безполезно. Странная, почти комическая моя судьба: я отдаюсь весь, съ жадностью, вполнѣ — и не-могу отдаться. Я кончу тѣмъ, что пожертвую собой за какой-нибудь вздоръ, въ который даже вѣрить не буду… Боже мой! въ тридцать-пять лѣтъ все еще собираться что-нибудь сдѣлать!…
„Я еще ни передъ кѣмъ такъ не высказывался — это моя исповѣдь.
„Но довольно обо мнѣ. Мнѣ хочется говорить о васъ, дать вамъ нѣсколько совѣтовъ: больше я ни на что не годенъ… Вы еще молоды; но, сколько бы вы ни жили, слѣдуйте всегда внушеніямъ вашего сердца, не подчиняйтесь ни своему, ни чужому уму. Повѣрьте, чѣмъ проще, чѣмъ тѣснѣе кругъ, по которому пробѣгаетъ жизнь, тѣмъ лучше; не въ томъ дѣло, чтобы отыскивать въ ней новыя стороны, но въ томъ, чтобы всѣ переходы ея совершались своевременно. „Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ“… Но я замѣчаю, что эти совѣты относятся гораздо болѣе ко мнѣ, чѣмъ къ вамъ.
„Признаюсь вамъ, Наталья Алексѣевна, мнѣ очень тяжело. Я никогда не обманывалъ себя въ свойствѣ того чувства, которое я внушалъ Дарьѣ Михайловнѣ; но я надѣялся, что нашелъ хотя временную пристань… Теперь опять придется мыкаться по свѣту. Что мнѣ замѣнитъ вашъ разговоръ, ваше присутствіе, вашъ внимательный и умный взглядъ?… Я самъ виноватъ; но согласитесь, что судьба какъ бы нарочно подсмѣялась надъ нами. Недѣлю тому назадъ, я самъ едва догадывался, что люблю васъ. Третьяго дня, вечеромъ, въ саду, я въ первый разъ услыхалъ отъ васъ… но къ чему напоминать вамъ то, что вы тогда сказали — и вотъ, уже я уѣзжаю сегодня, уѣзжаю съ позоромъ, послѣ жестокаго объясненія съ вами, не унося съ собой никакой надежды… И вы еще не знаете, до какой степени я виноватъ передъ вами… Во мнѣ есть какая-то глупая откровенность, какая-то болтливость… Но къ чему говорить объ этомъ! Я уѣзжаю навсегда“.
(Здѣсь Рудинъ разсказалъ было Натальѣ свое посѣщеніе у Волынцева, но подумалъ и вымаралъ все это мѣсто, а въ письмѣ къ Волынцеву прибавилъ второй postscriptum).
„Я остаюсь одинокъ на землѣ для того, чтобы предаться, какъ вы сказали мнѣ сегодня поутру съ жестокой усмѣшкой, другимъ, болѣе свойственнымъ мнѣ занятіямъ. Увы! если-бъ я могъ, дѣйствительно, предаться этимъ занятіямъ, побѣдить наконецъ свою лѣнь… Но нѣтъ! я останусь тѣмъ же неоконченнымъ существомъ, какимъ былъ до сихъ поръ… Первое препятствіе — и я весь разсыпался; происшествіе съ вами мнѣ это доказало. Если-бъ я, по-крайней мѣрѣ, принесъ мою любовь въ жертву моему будущему дѣлу, моему призванію; но я просто испугался отвѣтственности, которая на меня падала, и потому я, точно, недостоинъ васъ. Я не сто́ю того, чтобы вы для меня отторглись отъ вашей сферы… А впрочемъ, все это, можетъ быть, къ лучшему. Изъ этого испытанія я, можетъ быть, выйду чище и сильнѣй.
„Желаю вамъ полнаго счастія. Прощайте! Иногда вспоминайте обо мнѣ. Надѣюсь, что вы еще услышите обо мнѣ.
„Рудинъ“.
Наталья опустила письмо Рудина къ себѣ на колѣни и долго сидѣла неподвижно, устремивъ глаза на полъ. Письмо это, яснѣе всѣхъ возможныхъ доводовъ, доказало ей, какъ она была права, когда по-утру, разставаясь съ Рудинымъ, она невольно воскликнула, что онъ ея не любитъ! Но отъ этого ей не было легче. Она сидѣла не шевелясь; ей казалось, что какія-то темныя волны безъ плеска сомкнулись надъ ея головой, и она шла ко дну, застывая и нѣмѣя. Всякому тяжело первое разочарованіе; но для души искренней, не желавшей обманывать себя, чуждой легкомыслія и преувеличенія, оно почти нестерпимо. Вспомнила Наталья свое дѣтство, когда, бывало, гуляя вечеромъ, она всегда старалась идти по направленію къ свѣтлому краю неба, тамъ, гдѣ заря горѣла, а не къ темному. Темна стояла теперь жизнь передъ нею, и спиной она обратилась къ свѣту…
Слезы навернулись на глазахъ Натальи. Не всегда благотворны бываютъ слезы. Отрадны и цѣлебны онѣ, когда, долго накипѣвъ на груди, потекутъ онѣ наконецъ — сперва съ усиліемъ, потомъ все легче, все слаще; нѣмое томленіе тоски разрѣшается ими… Но есть слезы холодныя, скупо льющіяся слезы: ихъ по каплѣ выдавливаетъ изъ сердца тяжелымъ и недвижнымъ бременемъ налегшее на него горе; онѣ безотрадны и не приносятъ облегченія. Нужда плачетъ такими слезами, и тотъ еще не былъ несчастливъ, кто не проливалъ ихъ. Наталья узнала ихъ въ этотъ день.
Прошло часа два. Наталья собралась съ духомъ, встала, отерла глаза, засвѣтила свѣчку, сожгла на ея пламени письмо Рудина до конца и пепелъ выкинула за окно. Потомъ она раскрыла на удачу Пушкина и прочла первыя попавшіяся ей строки (она часто загадывала такъ по немъ). Вотъ что́ вышло:
Она постояла, посмотрѣла съ холодной улыбкой на себя въ зеркало и, сдѣлавъ небольшое движеніе головою сверху внизъ, сошла въ гостиную.
Дарья Михайловна, какъ только ее увидѣла, повела ее въ кабинетъ, посадила подлѣ себя, ласково потрепала по щекѣ, а между тѣмъ, внимательно, почти съ любопытствомъ, заглядывала ей въ глаза. Дарья Михайловна чувствовала тайное недоумѣніе: въ первый разъ ей пришло въ голову, что она дочь свою, въ сущности, не знаетъ. Услышавъ отъ Пандалевскаго объ ея свиданіи съ Рудинымъ, она не столько разсердилась, сколько удивилась тому, какъ могла благоразумная Наталья рѣшиться на такой поступокъ. Но когда она ее призвала къ себѣ и принялась бранить ее — вовсе не такъ, какъ бы слѣдовало ожидать отъ европейской женщины, а довольно крикливо и не изящно — твердые отвѣты Натальи, рѣшимость ея взоровъ и движеній, смутили, даже испугали Дарью Михайловну.
Внезапный, тоже не совсѣмъ понятный отъѣздъ Рудина снялъ большую тяжесть съ ея сердца; но она ожидала слезъ, истерическихъ припадковъ… Наружное спокойствіе Натальи опять ее сбило съ толку.
— Ну, что́, дитя, — начала Дарья Михайловна: — какъ ты сегодня?
Наталья посмотрѣла на свою мать.
— Вѣдь онъ уѣхалъ… твой предметъ. Ты не знаешь, отчего онъ такъ скоро собрался?
— Маменька! — заговорила Наталья тихимъ голосомъ: — даю вамъ слово, что если вы сами не будете упоминать о немъ, отъ меня вы никогда ничего не услышите.
— Стало-быть, ты сознаешься, что была виновата передо мною?
Наталья опустила голову и повторила:
— Вы отъ меня никогда ничего не услышите.
— Ну, смотри же! — возразила съ улыбкой Дарья Михайловна. — Я тебѣ вѣрю. А третьяго-дня, помнишь ли ты, какъ… Ну, не буду. Кончено, рѣшено и похоронено. Не правда ли? Вотъ, я опять тебя узнаю; а то я совсѣмъ-было въ тупикъ пришла. Ну, поцѣлуй же меня, умница!…
Наталья поднесла руку Дарьи Михайловны къ своимъ губамъ, а Дарья Михайловна поцѣловала ее въ наклоненную голову.
— Слушайся всегда моихъ совѣтовъ, не забывай, что ты Ласунская и, моя дочь, — прибавила она: — и ты будешь счастлива. А теперь ступай.
Наталья вышла молча. Дарья Михайловна поглядѣла ей вслѣдъ и подумала: „она въ меня — тоже будетъ увлекаться: mais aura moins d’abandon“. И Дарья Михайловна погрузилась въ воспоминанія о прошедшемъ… о давно прошедшемъ…
Потомъ она велѣла кликнуть m-lle Boncourt и долго сидѣла съ ней, запершись вдвоемъ. Отпустивъ ее, она позвала Пандалевскаго. Ей непремѣнно хотѣлось узнать настоящую причину отъѣзда Рудина… но Пандалевскій ее успокоилъ совершенно. Это было по его части.
•••
На другой день Волынцевъ съ сестрою пріѣхалъ къ обѣду. Дарья Михайловна была всегда очень любезна съ нимъ, а на этотъ разъ она особенно ласково съ нимъ обращалась. Натальѣ было невыносимо тяжело; но Волынцевъ такъ былъ почтителенъ, такъ робко съ ней заговаривалъ, что она въ душѣ не могла не поблагодарить его.
День прошелъ тихо, довольно скучно, но всѣ, разъѣзжаясь, почувствовали, что попали въ прежнюю колею; а это много значитъ, очень много.
Да, всѣ попали въ прежнюю колею… всѣ, кромѣ Натальи. Оставшись наконецъ одна, она съ трудомъ дотащилась до своей кровати и, усталая, разбитая, упала лицомъ на подушки. Ей такъ горько, и противно, и по́шло казалось жить, такъ стыдно ей стало самой себя, своей любви, своей печали, что въ это мгновеніе она бы, вѣроятно, согласилась умереть… Много еще предстояло ей тяжелыхъ дней, ночей безсонныхъ, томительныхъ волненій, но она была молода — жизнь только-что начиналась для нея, а жизнь рано или поздно свое возьметъ. Какой бы ударъ ни поразилъ человѣка, онъ въ тотъ же день, много на другой — извините за грубость выраженія — поѣстъ, и вотъ вамъ уже первое утѣшеніе…
Наталья страдала мучительно, она страдала впервые… Но первыя страданія, какъ первая любовь, не повторяются, — и слава Богу!
ХІІ.
Минуло около двухъ лѣтъ. Настали первые дни мая. На балконѣ своего дома сидѣла Александра Павловна, но уже не Липина, а Лежнева; она болѣе года какъ вышла замужъ за Михаила Михайлыча. Она, по прежнему, была мила, только пополнѣла въ послѣднее время. Передъ балкономъ, отъ котораго въ садъ вели ступени, расхаживала кормилица, съ краснощекимъ ребенкомъ на рукахъ, въ бѣлой шинелькѣ и съ бѣлымъ помпономъ на шляпѣ. Александра Павловна то и дѣло взглядывала на него. Ребенокъ не пищалъ, съ важностью сосалъ свой палецъ и спокойно посматривалъ кругомъ. Достойный сынъ Михайла Михайлыча уже сказывался въ немъ.
Возлѣ Александры Павловны сидѣлъ на балконѣ старый нашъ знакомецъ, Пигасовъ. Онъ замѣтно посѣдѣлъ съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались съ нимъ, сгорбился, похудѣлъ и шипѣлъ, когда говорилъ: одинъ передній зубъ у него вывалился; шипѣніе придавало еще болѣе ядовитости его рѣчамъ… Озлобленіе не уменьшалось въ немъ съ годами, но остроты его притуплялись, и онъ чаще прежняго повторялся. Михайла Михайлыча не было дома; его ждали къ чаю. Солнце уже сѣло. Тамъ, гдѣ оно закатилось, полоса блѣдно-золотого, лимоннаго цвѣта тянулась вдоль небосклона; на противоположной сторонѣ ихъ было двѣ: одна, пониже, голубая, другая, выше, красно-лиловая. Легкія тучки таяли въ вышинѣ. Все обѣщало постоянную погоду.
Вдругъ Пигасовъ засмѣялся.
— Чему вы, Африканъ Семенычъ? — спросила Александра Павловна.
— Да такъ… Вчера, слышу я, одинъ мужикъ говоритъ женѣ — а она, этакъ, разболталась: — не скрыпи!… Очень это мнѣ понравилось. Не скрыпи! Да и въ самомъ дѣлѣ, о чемъ можетъ разсуждать женщина? Я, вы знаете, никогда не говорю о присутствующихъ. Наши старики умнѣе насъ были. У нихъ въ сказкахъ красавица сидитъ подъ окномъ, во лбу звѣзда, а сама ни гугу. Вотъ это какъ слѣдуетъ. А то, посудите сами: третьяго-дня наша предводительша какъ изъ пистолета мнѣ въ лобъ выстрѣлила: говоритъ мнѣ, что ей не нравится моя тенденція. Тенденція! Ну, не лучше ли было бы и для нея, и для всѣхъ, если-бъ какъ-нибудь, благодѣтельнымъ распоряженіемъ природы, она лишилась вдругъ употребленія языка?
— А вы все такой же, Африканъ Семенычъ: все нападаете на насъ бѣдныхъ… Знаете ли, вѣдь это въ своемъ родѣ несчастье право. Я о васъ сожалѣю.
— Несчастье? Что́ вы это изволите говорить! Во-первыхъ, по моему, на свѣтѣ только три несчастья и есть: жить зимой въ холодной квартирѣ, лѣтомъ носить узкіе сапоги, да ночевать въ комнатѣ, гдѣ пищитъ ребенокъ, котораго нельзя посыпать персидскимъ порошкомъ; а во-вторыхъ, помилуйте, я самый смирный сталъ теперь человѣкъ. Хоть прописи съ меня пиши! Вотъ какъ я нравственно веду себя.
— Хорошо вы ведете себя, нечего сказать! Не дальше, какъ вчера, Елена Антоновна мнѣ на васъ жаловалась.
— Вотъ какъ-съ! А что она вамъ такое говорила, позвольте узнать?
— Она говорила мнѣ, что вы, въ теченіе цѣлаго утра, на всѣ ея вопросы только и отвѣчали, что „чего-съ? чего-съ?“ да еще такимъ пискливымъ голосомъ.
Пигасовъ засмѣялся.
— А вѣдь хорошая это была мысль, согласитесь, Александра Павловна… а?
— Удивительная! Развѣ можно быть этакъ съ женщиной невѣжливымъ, Африканъ Семенычъ?
— Какъ? Елена Антоновна, по вашему, — женщина?
— Что́ же она по вашему?
— Барабанъ, помилуйте, обыкновенный барабанъ, вотъ, по которому бьютъ палками…
— Ахъ, да! — перебила Александра Павловна, желая перемѣнить разговоръ: — васъ, говорятъ, поздравить можно?
— Съ чѣмъ?
— Съ окончаніемъ тяжбы. Глиновскіе луга остались за вами.
— Да, за мною, — мрачно возразилъ Пигасовъ.
— Вы сколько лѣтъ этого добивались, а теперь словно недовольны.
— Доложу вамъ, Александра Павловна, — медленно промолвилъ Пигасовъ: — ничего не можетъ быть хуже и обиднѣе слишкомъ поздно пришедшаго счастья. Удовольствія оно все-таки вамъ доставить не можетъ, а за то лишаетъ васъ права, драгоцѣннѣйшаго права — браниться и проклинать судьбу. Да, сударыня, горькая и обидная штука — позднее счастіе.
Александра Павловна только плечами пожала.
— Нянюшка, — начала она: — я думаю, Мишѣ пора спать лечь. Подай его сюда.
И Александра Павловна занялась своимъ сыномъ, а Пигасовъ отошелъ, ворча, на другой уголъ балкона..
Вдругъ не въ далекѣ, по дорогѣ, ведущей вдоль сада, показался Михайло Михайлычъ на своихъ бѣговыхъ дрожкахъ. Передъ лошадью его бѣжали двѣ огромныя дворныя собаки: одна желтая, другая сѣрая; онъ недавно завелъ ихъ. Онѣ безпрестанно грызлись и жили въ неразлучной дружбѣ. Имъ навстрѣчу вышла изъ воротъ старая шавка, раскрыла ротъ, какъ бы сбираясь залаять, а кончила тѣмъ, что зѣвнула и отправилась назадъ, дружелюбно повиливая хвостомъ.
— Глядь-ка, Саша, — закричалъ Лежневъ издали своей женѣ; — кого я тебѣ везу…
Александра Павловна не сразу узнала человѣка, сидѣвшаго за спиной ея мужа.
— А! г. Басистовъ! — воскликнула она наконецъ.
— Онъ, онъ, — отвѣчалъ Лежневъ, — и какія славныя вѣсти привезъ. Вотъ, погоди, сейчасъ узнаешь.
И онъ въѣхалъ на дворъ.
Нѣсколько мгновеній спустя, онъ съ Басистовымъ явился на балконѣ.
— Ура! — воскликнулъ онъ и обнялъ жену. — Сережа женится!
— На комъ? — съ волненіемъ спросила Александра Павловна.
— Разумѣется, на Натальѣ… Вотъ, пріятель привезъ это извѣстіе изъ Москвы, и письмо къ тебѣ есть… Слышишь, Мишукъ? — прибавилъ онъ, схвативъ сына на руки; — дядя твой женится!… Экая флегма злодѣйская! и тутъ только глазами хлопаетъ!
— Онѣ спать хотятъ, — замѣтила няня.
— Да-съ, — промолвилъ Басистовъ, подойдя къ Александрѣ Павловнѣ: — я сегодня пріѣхалъ изъ Москвы, по порученію Дарьи Михайловны — счеты по имѣнію ревизовать. А вотъ и письмо.
Александра Павловна поспѣшно распечатала письмо своего брата. Оно состояло въ нѣсколькихъ строкахъ. Въ первомъ порывѣ радости онъ увѣдомлялъ сестру, что сдѣлалъ предложеніе Натальѣ, получилъ ея согласіе и Дарьи Михайловны, обѣщался больше написать съ первой почтой и заочно всѣхъ обнималъ и цѣловалъ. Видно было, что онъ писалъ въ какомъ-то чаду.
Подали чай, усадили Басистова. Разспросы посыпались на него градомъ. Всѣхъ, даже Пигасова, обрадовало извѣстіе, привезенное имъ.
— Скажите, пожалуйста, — сказалъ, между прочимъ, Лежневъ: — до насъ доходили слухи о какомъ-то господинѣ Корчагинѣ. Стало-быть, это былъ вздоръ?
(Корчагинъ былъ красивый молодой человѣкъ — свѣтскій левъ, чрезвычайно надутый и важный: онъ держался необыкновенно величественно, точно онъ былъ не живой человѣкъ, а собственная своя статуя, воздвигнутая по общественной подпискѣ).
— Ну, нѣтъ, не совсѣмъ вздоръ, — съ улыбкой возразилъ Басистовъ. — Дарья Михайловна очень къ нему благоволила; но Наталья Алексѣевна и слышать о немъ не хотѣла.
— Да вѣдь я его знаю, — подхватилъ Пигасовъ: — вѣдь онъ махровый болванъ, съ трескомъ болванъ… помилуйте! Вѣдь если-бъ всѣ люди были на него похожи, надо бы большія деньги брать, чтобы согласиться жить… помилуйте!
— Можетъ быть, — возразилъ Басистовъ: — а въ свѣтѣ онъ играетъ роль не изъ послѣднихъ.
— Ну, все равно! — воскликнула Александра Павловна: — Богъ съ нимъ! Ахъ, какъ я рада за брата!… И Наталья весела, счастлива?
— Да-съ. — Она спокойна, какъ всегда — вы вѣдь ее знаете — но, кажется, довольна.
Вечеръ прошелъ въ пріятныхъ и оживленныхъ разговорахъ. Сѣли за ужинъ.
— Да, кстати, — спросилъ Лежневъ у Басистова, наливая ему лафиту: — вы знаете, гдѣ Рудинъ?
— Теперь навѣрное не знаю. Онъ пріѣзжалъ прошлой зимой въ Москву на короткое время, потомъ отправился съ однимъ семействомъ въ Симбирскъ; мы съ нимъ нѣкоторое время переписывались: въ послѣднемъ письмѣ своемъ онъ извѣщалъ меня, что уѣзжаетъ изъ Симбирска — не сказалъ куда — и вотъ, съ тѣхъ норъ я ничего о немъ не слышу.
— Не пропадетъ! — подхватилъ Пигасовъ: — гдѣ-нибудь сидитъ да проповѣдуетъ. Этотъ господинъ всегда найдетъ себѣ двухъ или трехъ поклонниковъ, которые будутъ его слушать, разиня ротъ, и давать ему взаймы деньги. Посмотрите, онъ кончитъ тѣмъ, что умретъ гдѣ-нибудь въ Царевококшайскѣ или въ Чухломѣ — на рукахъ престарелой дѣвы въ парикѣ, которая будетъ думать о немъ, какъ о геніальнѣйшемъ человѣкѣ въ мірѣ…
— Вы очень рѣзко о немъ отзываетесь, — замѣтилъ вполголоса и съ неудовольствіемъ Басистовъ.
— Ничуть не рѣзко! — возразилъ Пигасовъ: — а совершенно справедливо. По моему мнѣнію, онъ, просто, не что иное, какъ лизоблюдъ. Я забылъ вамъ сказать, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Лежневу: — вѣдь я познакомился съ этимъ Терлаховымъ, съ которымъ Рудинъ за границу ѣздилъ. Какъ-же! какъ-же! Что онъ мнѣ разсказывалъ о немъ, вы себѣ представить не можете — умора, просто! Замѣчательно, что всѣ друзья и послѣдователи Рудина со-временемъ становятся его врагами.
— Прошу меня исключить изъ числа такихъ друзей! — съ жаромъ перебилъ Басистовъ.
— Ну, вы — другое дѣло! О васъ и рѣчи нѣтъ.
— А что такое вамъ разсказывалъ Терлаховъ? — спросила Александра Павловна.
— Да многое разсказывалъ: всего не упомнишь. Но самый лучшій вотъ какой случился съ Рудинымъ анекдотъ. Безпрерывно развиваясь (эти господа все развиваются: другіе, напримѣръ, просто спятъ, или ѣдятъ — а они находятся въ моментѣ развитія спанья или ѣды; не такъ ли, г. Басистовъ? — Басистовъ ничего не отвѣтилъ)… И такъ, развиваясь постоянно, Рудинъ дошелъ, путемъ философіи, до того умозаключенія, что ему должно влюбиться. Началъ онъ отыскивать предметъ, достойный такого удивительнаго умозаключенія. Фортуна ему улыбнулась. Познакомился онъ съ одной француженкой, прехорошенькой модисткой. Дѣло происходило въ одномъ нѣмецкомъ городѣ, на Рейнѣ, замѣтьте. Началъ онъ ходить къ ней, носить ей разныя книги, говорить ей о природѣ и Гегелѣ. Можете себѣ представить положеніе модистки? она считала его за астронома. Однако, вы знаете, малый онъ изъ себя ничего; ну — иностранецъ, русскій — понравился. Вотъ, наконецъ, назначаетъ онъ свиданіе, и очень поэтическое свиданіе: въ гондолѣ, на рѣкѣ. Француженка согласилась; пріодѣлась получше и поѣхала съ нимъ въ гондолѣ. Такъ они катались часа два. Чѣмъ же, вы думаете, занимался онъ все это время? Гладилъ француженку по головѣ, задумчиво глядѣлъ въ небо и нѣсколько разъ повторилъ, что чувствуетъ къ ней отеческую нѣжность. Француженка вернулась домой взбѣшенная, и сама потомъ все разсказала Терлахову. Вотъ онъ какой господинъ!
И Пигасовъ засмѣялся.
— Вы старый циникъ! — замѣтила съ досадой Александра Павловна: — а я болѣе и болѣе убѣждаюсь въ томъ, что про Рудина даже тѣ, которые его бранятъ, ничего дурного сказать не могутъ.
— Ничего дурнаго? Помилуйте! а его вѣчное житье на чужой счетъ, его займы… Михайло Михайлычъ? вѣдь онъ и у васъ, навѣрное, занималъ?
— Послушайте, Африканъ Семенычъ! — началъ Лежневъ, и лицо его приняло серьёзное выраженіе: — послушайте: вы знаете, и жена моя знаетъ, что я въ послѣднее время особеннаго расположенія къ Рудину не чувствовалъ и даже часто осуждалъ его. Со всѣмъ тѣмъ (Лежневъ разлилъ шампанское по бокаламъ), вотъ что я вамъ предлагаю: мы сейчасъ пили за здоровье дорогого нашего брата и его невѣсты; я предлагаю вамъ выпить теперь за здоровье Дмитрія Рудина!
Александра Павловна и Пигасовъ съ изумленіемъ посмотрѣли на Лежнева, а Басистовъ встрепенулся весь, покраснѣлъ отъ радости и глаза вытаращилъ.
— Я знаю его хорошо, — продолжалъ Лежневъ: — недостатки его мнѣ хорошо извѣстны. Они тѣмъ болѣе выступаютъ наружу, что самъ онъ не мелкій человѣкъ..
— Рудинъ — геніальная натура! — подхватилъ Басистовъ.
— Геніальность въ немъ, пожалуй, есть, — возразилъ Лежневъ; — а натура… Въ томъ-то вся его бѣда, что натуры-то собственно въ немъ нѣтъ… Но не въ этомъ дѣло. Я хочу говорить о томъ, что въ немъ есть хорошаго, рѣдкаго. Въ немъ есть энтузіазмъ; а это, повѣрьте мнѣ, флегматическому человѣку, самое драгоцѣнное качество въ наше время. Мы всѣ стали невыносимо разсудительны, равнодушны и вялы; мы заснули, мы застыли, и спасибо тому, кто хоть на мигъ насъ расшевелитъ и согрѣетъ! Пора! Помнишь, Саша, я разъ говорилъ съ тобой о немъ и упрекалъ его въ холодности. Я былъ и правъ, и не нравъ тогда. Холодность эта у него въ крови — это не его вина — а не въ головѣ. Онъ не актеръ, какъ я называлъ его, не надувало, не плутъ; онъ живетъ на чужой счетъ не какъ проныра, а какъ ребенокъ… Да, онъ, дѣйствительно, умретъ гдѣ-нибудь въ нищетѣ и въ бѣдности; но неужели-жъ и за это пускать въ него камнемъ? Онъ не сдѣлаетъ самъ ничего именно потому, что въ немъ натуры, крови нѣтъ; но кто въ правѣ сказать, что онъ не принесетъ, не принесъ уже пользы? что его слова не заронили много добрыхъ сѣмянъ въ молодыя души, которымъ природа не отказала, какъ ему, въ силѣ дѣятельности, въ умѣніи исполнять собственные замыслы? Да я самъ, я первый, все это испыталъ на себѣ… Саша знаетъ, чѣмъ былъ для меня въ молодости Рудинъ. Я, помнится, также утверждалъ, что слова Рудина не могутъ дѣйствовать на людей; но я говорилъ тогда о людяхъ, подобныхъ мнѣ, въ теперешніе мои годы, о людяхъ уже пожившихъ и поломанныхъ жизнью. Одинъ фальшивый звукъ въ рѣчи — и вся ея гармонія для насъ исчезла; а въ молодомъ человѣкѣ, къ счастью, слухъ еще не такъ развитъ, не такъ избалованъ. Если сущность того, что́ онъ слышитъ, ему кажется прекрасной, что ему за дѣло до тона! Тонъ онъ самъ въ себѣ найдетъ.
— Браво! браво! — воскликнулъ Басистовъ: — какъ это справедливо сказано! А что касается до вліянія Рудина, клянусь вамъ, этотъ человѣкъ не только умѣлъ потрясти тебя, онъ съ мѣста тебя сдвигалъ, онъ не давалъ тебѣ останавливаться, онъ до основанія переворачивалъ, зажигалъ тебя!
— Вы слышите? — продолжалъ Лежневъ, обращаясь къ Пигасову: — какого вамъ еще доказательства нужно? Вы нападаете на философію; говоря о ней, вы не находите довольно презрительныхъ словъ. Я самъ ее не больно жалую и плохо ее понимаю: но не отъ философіи наши главныя невзгоды! Философическія хитросплетенія и бредни никогда не привьются къ русскому: на это у него слишкомъ много здраваго смысла; но нельзя же допустить, чтобы подъ именемъ философіи нападали на всякое честное стремленіе къ истинѣ и къ сознанію. Несчастье Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это, точно, большое несчастье. Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ, двойное горе тому, кто дѣйствительно безъ нея обходится. Космополитизмъ — чепуха, космополитъ — нуль, хуже нуля; внѣ народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ. Безъ физіономіи нѣтъ даже идеальнаго лица; только пошлое лицо возможно безъ физіономіи. Но, опять-таки скажу, это не вина Рудина: это его судьба, судьба горькая и тяжелая, за которую мы-то ужъ винить его не станемъ. Насъ бы очень далеко завело, если бы мы хотѣли разобрать, отчего у насъ являются Рудины. А за то, что въ немъ есть хорошаго, будемъ же ему благодарны. Это легче, чѣмъ быть несправедливымъ къ нему, а мы были къ нему несправедливы. Наказывать его не наше дѣло, да и не нужно: онъ самъ себя наказалъ гораздо жесточе, чѣмъ заслуживалъ… И дай Богъ, чтобы несчастье вытравило изъ него все дурное и оставило въ немъ одно прекрасное! Пью за здоровье Рудина! Пью за здоровье товарища моихъ лучшихъ годовъ, пью за молодость, за ея надежды, за ея стремленія, за ея довѣрчивость и честность, за все то, отъ чего и въ двадцать лѣтъ бились наши сердца, и лучше чего мы все-таки, ничего не узнали и не узнаемъ въ жизни… Пью за тебя, золотое время, пью за здоровье Рудина!
Всѣ чокнулись съ Лежневымъ. Басистовъ сгоряча чуть не разбилъ своего стакана и осушилъ его разомъ, а Александра Павловна пожала Лежневу руку.
— Я, Михайло Михайлычъ, и не подозрѣвалъ, что вы такъ краснорѣчивы, — замѣтилъ Пигасовъ: — хоть бы самому г. Рудину подъ-стать; даже меня проняло.
— Я вовсе не краснорѣчивъ, — возразилъ Лежневъ не безъ досады; — а васъ, я думаю, пронять мудрено. Впрочемъ, довольно о Рудинѣ; давайте говорить о чемъ-нибудь другомъ… Что… какъ бишь его?… Пандалевскій все у Дарьи Михайловны живетъ? — прибавилъ онъ, обратясь къ Басистову.
— Какъ-же, все у ней! Она выхлопотала ему очень выгодное мѣсто.
Лежневъ усмѣхнулся.
— Вотъ этотъ не умретъ въ нищетѣ, за это можно поручиться.
Ужинъ кончился. Гости разошлись. Оставшись наединѣ съ своимъ мужемъ, Александра Павловна съ улыбкой посмотрѣла ему въ лицо.
— Какъ ты хорошъ былъ сегодня, Миша, — промолвила она, лаская его рукой по лбу, — какъ ты умно и благородно говорилъ! Но сознайся, что ты немного увлекся въ пользу Рудина, какъ прежде увлекался противъ него…
— Лежачаго не бьютъ… а я тогда боялся какъ бы онъ тебѣ голову не вскружилъ.
— Нѣтъ, — простодушно возразила Александра Павловна: — онъ мнѣ казался всегда слишкомъ ученымъ, я боялась его и не знала, что говорить въ его присутствіи. А вѣдь Пигасовъ довольно зло посмѣялся надъ нимъ сегодня, сознайся?
— Пигасовъ? — проговорилъ Лежневъ. — Я оттого именно и заступился такъ горячо за Рудина, что Пигасовъ былъ тутъ. Онъ смѣетъ называть Рудина лизоблюдомъ! А по моему, его роль, роль Пигасова, во сто разъ хуже. Имѣетъ независимое состояніе, надо всѣмъ издѣвается, а ужъ какъ льнетъ къ знатнымъ да къ богатымъ! Знаешь ли, что этотъ Пигасовъ, который съ такимъ озлобленіемъ все и всѣхъ ругаетъ, и на философію нападаетъ, и на женщинъ, — знаешь ли ты, что онъ, когда служилъ, бралъ взятки, и какъ еще! А! Вотъ то-то и есть!
— Неужели? — воскликнула Александра Павловна. Этого я никакъ не ожидала!… Послушай, Миша,— прибавила она, помолчавъ немного: — что я хочу у тебя спросить…
— Что?
— Какъ ты думаешь? будетъ ли братъ счастливъ съ Натальей?
— Какъ тебѣ сказать…вѣроятности всѣ есть… Командовать будетъ она — между нами таить это не для чего — она умнѣй его; но онъ славный человѣкъ и любитъ ее отъ души. Чего же больше? Вѣдь вотъ, мы другъ друга любимъ и счастливы, не правда ли?
Александра Павловна улыбнулась и стиснула руку Михайлѣ Михайлычу.
•••
Въ тотъ самый день, когда все, разсказанное нами происходило въ домѣ Александры Павловны, — въ одной изъ отдаленныхъ губерній Россіи, тащилась, въ самый зной, по большой дорогѣ, плохенькая рогожная кибитка, запряженная тройкой обывательскихъ лошадей. На облучкѣ торчалъ, упираясь искоса ногами въ валёкъ, сѣдой мужичекъ въ дырявомъ армякѣ, и то и дѣло подергивалъ веревочными возжами и помахивалъ кнутикомъ; а въ самой кибиткѣ сидѣлъ, на тощемъ чемоданѣ, человѣкъ высокаго роста въ фуражкѣ и старомъ запиленномъ плащѣ. То былъ Рудинъ. Онъ сидѣлъ понуривъ голову и нахлобучивъ козырекъ фуражки на глаза. Неровные толчки кибитки бросали его съ стороны на сторону, онъ казался совершенно безчувственнымъ, словно дремалъ. Наконецъ онъ выпрямился.
— Когда же это мы до станціи доѣдемъ? — спросилъ онъ мужика, сидѣвшаго на облучкѣ.
— А вотъ, батюшка, — заговорилъ мужикъ и еще сильнѣе задергалъ возжами: — какъ на взволочекъ взберемся, версты двѣ останется, не болѣ… Ну, ты! думай… Я тебѣ подумаю, прибавилъ онъ тоненькимъ голосомъ, принимаясь стегать правую пристяжную.
— Ты, кажется, очень плохо ѣдешь, — замѣтилъ Рудинъ: — мы съ самаго утра тащимся и никакъ доѣхать не можемъ. Ты бы хоть спѣлъ что-нибудь.
— Да что будешь дѣлать, батюшка! лошади, вы сами видите, заморенныя… опять — жара. А пѣть мы не можемъ: мы не ямщики… Барашекъ, а барашекъ! — воскликнулъ вдругъ мужичекъ, обращаясь къ прохожему въ бурой свитченкѣ и стоптанныхъ лаптишкахъ: — посторонись, барашекъ.
— Вишь ты… кучеръ! — пробормоталъ ему въ слѣдъ прохожій, и остановился. — Московская косточка! — прибавилъ онъ голосомъ, исполненнымъ укоризны, тряхнулъ головой и заковылялъ далѣе.
— Куда ты! — подхватилъ мужичекъ съ разстановкой, дергая коренную; — ахъ ты, лукавая! право, лукавая…
Измученныя лошаденки кое-какъ доплелись, наконецъ, до почтоваго двора. Рудинъ вылѣзъ изъ кибитки, расплатился съ мужикомъ (который ему не поклонился и деньги долго пошвыривалъ на ладони — знать, на водку мало досталось) и самъ внесъ чемоданъ въ станціонную комнату.
Одинъ мой знакомый, много покатавшійся на своемъ вѣку по Россіи, сдѣлалъ замѣчаніе, что если въ станціонной комнатѣ на стѣнахъ висятъ картинки, изображающія сцены изъ Кавказскаго Плѣнника или русскихъ генераловъ, то лошадей скоро достать можно; но если на картинкахъ представлена жизнь извѣстнаго игрока Жоржа-де-Жермани, то путешественнику нечего надѣяться на быстрый отъѣздъ: успѣетъ онъ налюбоваться на закрученный кокъ, бѣлый раскидной жилетъ и чрезвычайно узкіе и короткіе панталоны игрока въ молодости, на его изступленную физіономію, когда онъ, будучи уже старцемъ, убиваетъ, высоко взмахнувъ стуломъ, въ хижинѣ съ крутою крышей, своего сына. Въ комнатѣ, куда вошелъ Рудинъ, висѣли именно эти картины изъ „Тридцати лѣтъ или жизнь игрока“. На крикъ его явился смотритель, заспанный (кстати — видѣлъ ли кто-нибудь смотрителя не заспаннаго?) и, не выждавъ даже вопроса Рудина, вялымъ голосомъ объявилъ, что лошадей нѣтъ.
— Какъ-же вы говорите, что лошадей нѣтъ, — промолвилъ Рудинъ: — а даже не знаете, куда я ѣду? Я сюда на обывательскихъ пріѣхалъ.
— У насъ никуда лошадей нѣтъ, — отвѣчалъ смотритель. А вы куда ѣдете?
— Въ …скъ.
— Нѣтъ лошадей, — повторилъ смотритель и вышелъ вонъ.
Рудинъ съ досадой приблизился къ окну и бросилъ фуражку на столъ. Онъ не много измѣнился, но пожелтѣлъ въ послѣдніе два года; серебряныя нити заблистали кой-гдѣ въ кудряхъ, и глаза, все еще прекрасные, какъ-будто потускнѣли; мелкія морщины, слѣды горькихъ и тревожныхъ чувствъ, легли около губъ, на щекахъ, на вискахъ.
Платье на немъ было изношенное и старое, и бѣлья не виднѣлось нигдѣ. Пора его цвѣтенія видимо прошла: онъ, какъ выражаются садовники, пошелъ въ сѣмя.
Онъ принялся читать надписи по стѣнамъ… извѣстное развлеченіе скучающихъ путешественниковъ… вдругъ дверь заскрипѣла, и вошелъ смотритель.
— Лошадей въ …скъ нѣтъ, и долго еще не будетъ, — заговорилъ онъ, а вотъ въ …овъ есть обратныя.
— Въ …овъ? — промолвилъ Рудинъ. — Да помилуйте! это мнѣ совсѣмъ не по дорогѣ. Я ѣду въ Пензу, а …овъ лежитъ, кажется, въ направленіи къ Тамбову.
— Что-жъ? вы изъ Тамбова можете тогда проѣхать, а не то изъ …ова какъ-нибудь свернете.
Рудинъ подумалъ.
— Ну, пожалуй, — проговорилъ онъ наконецъ: — велите закладывать лошадей. Мнѣ все равно; поѣду въ Тамбовъ.
Лошадей скоро подали. Рудинъ вынесъ свой чемоданчикъ, взлѣзъ на телѣгу, сѣлъ, понурился по-прежнему. Было что-то безпомощное и грустно-покорное въ его нагнутой фигурѣ… И тройка поплелась неторопливой рысью, отрывисто позвякивая бубенчиками.
ЭПИЛОГЪ.
Прошло еще нѣсколько лѣтъ.
Былъ осенній холодный день. Къ крыльцу главной гостиницы губернскаго города С…а подъѣхала дорожная коляска; изъ нея, слегка дотягиваясь и покряхтывая, вылѣзъ господинъ, еще не пожилой, по уже успѣвшій пріобрѣсть ту полноту въ туловищѣ, которую привыкли называть почтенной. Поднявшись по лѣстницѣ во второй этажъ, онъ остановился у входа въ широкій коридоръ и, не видя никого передъ собою, громкимъ голосомъ спросилъ себѣ нумеръ. Дверь гдѣ-то стукнула, изъ-за низкихъ ширмочекъ выскочилъ длинный лакей и пошелъ впередъ проворной, боковой походкой, мелькая въ полутьмѣ коридора глянцовитой спиной и подвороченными рукавами. Пойдя въ нумеръ, проѣзжій тотчасъ сбросилъ съ себя шинель и шарфъ, сѣлъ на диванъ и опершись въ колѣни кулаками, сперва поглядѣлъ кругомъ, какъ бы съ просонья, потомъ велѣлъ позвать своего слугу. Лакей сдѣлалъ уклончивое движеніе и исчезъ. Проѣзжій этотъ былъ не кто иной, какъ Лежневъ. Рекрутскій наборъ вызвалъ его изъ деревни въ С…ъ.
Слуга Лежнева, малый молодой, курчавый и краснощекій, въ сѣрой шинели, подпоясанный голубымъ кушачкомъ, и мягкихъ валенкахъ, вошелъ въ комнату.
— Ну вотъ, братъ, мы и доѣхали, — продолжалъ Лежневъ: — а ты все боялся, что шина съ колеса соскочитъ.
— Доѣхали! — возразилъ слуга, силясь улыбнуться черезъ поднятый воротникъ шинели: — а ужъ отчего эта шина не соскочила…
— Никого здѣсь нѣтъ? — раздался голосъ въ коридорѣ.
Лежневъ вздрогнулъ и сталъ прислушиваться.
— Эй! кто тамъ? — повторилъ голосъ.
Лежневъ всталъ, подошелъ къ двери и быстро отворилъ ее.
Передъ нимъ стоялъ человѣкъ высокаго роста, почти совсѣмъ сѣдой и сгорбленный, въ старомъ плисовомъ сюртукѣ съ бронзовыми пуговицами. Лежневъ узналъ его тотчасъ.
— Рудинъ! — воскликнулъ онъ съ волненіемъ.
Рудинъ обернулся. Онъ не могъ разобрать черты Лежнева, стоявшаго къ свѣту спиною, и съ недоумѣніемъ глядѣлъ на него.
— Вы меня не узнаете? — заговорилъ Лежневъ.
— Михайло Михайлычъ! — воскликнулъ Рудинъ, и протянулъ руку, но смутился, и отвелъ ее было назадъ…
Лежневъ поспѣшно ухватился за нее своими обѣими.
— Войдите, войдите ко мнѣ! — сказалъ онъ Рудину, и ввелъ его въ нумеръ.
— Какъ вы измѣнились! — произнесъ Лежневъ, помолчавъ и невольно понизивъ голосъ.
— Да, говорятъ! — возразилъ Рудинъ, блуждая по комнатѣ взоромъ. — Года́… А вотъ вы — ничего. Какъ здоровье Александры… вашей супруги?
— Благодарствуйте, — хорошо. Но какими судьбами вы здѣсь?
— Я? Это долго разсказывать. Собственно, сюда я зашелъ случайно. Я искалъ одного знакомаго. Впрочемъ, я очень радъ…
— Гдѣ вы обѣдаете?
— Я? Не знаю. Гдѣ нибудь въ трактирѣ. Я долженъ сегодня же выѣхать отсюда.
— Должны?
Рудинъ значительно усмѣхнулся.
— Да-съ, долженъ. Меня отправляютъ къ себѣ въ деревню, на жительство.
— Пообѣдайте со мной.
Рудинъ въ первый разъ взглянулъ прямо въ глаза Лежневу.
— Вы мнѣ предлагаете съ собой обѣдать? — проговорилъ онъ.
— Да, Рудинъ, по старинному, по товарищески. Хотите? Не ожидалъ я васъ встрѣтить, и Богъ знаетъ, когда мы увидимся опять. Не разстаться же намъ съ вами такъ!
— Извольте, я согласенъ.
Лежневъ пожалъ Рудину руку, кликнулъ слугу, заказалъ обѣдъ и велѣлъ поставить въ ледъ бутылку шампанскаго.
•••
Въ теченіи обѣда, Лежневъ и Рудинъ, какъ бы сговорившись, все толковали о студенческомъ своемъ времени, припоминали многое и многихъ — мертвыхъ и живыхъ. Сперва Рудинъ говорилъ неохотно, но онъ выпилъ нѣсколько рюмокъ вина, и кровь въ немъ разгорѣлась. Наконецъ, лакей вынесъ послѣднее блюдо. Лежневъ всталъ, заперъ дверь и, вернувшись къ столу, сѣлъ прямо напротивъ Рудина и тихонько оперся подбородкомъ на обѣ руки.
— Ну, теперь, — началъ онъ: — разсказывайте-ка мнѣ все что съ вами случилось съ тѣхъ поръ, какъ я васъ не видалъ.
Рудинъ посмотрѣлъ на Лежнева.
„Боже мой!“ — подумалъ опять Лежневъ — „какъ онъ измѣнился, бѣднякъ“
Черты Рудина измѣнились мало, особенно съ тѣхъ поръ, какъ мы видѣли его на станціи, хотя печать приближающейся старости уже успѣла лечь на нихъ; но выраженіе ихъ стало другое. Иначе глядѣли глаза; во всемъ существѣ его, въ движеніяхъ, то замедленныхъ, то безсвязно порывистыхъ, въ похолодѣвшей, какъ бы разбитой рѣчи высказывалась усталость окончательная, тайная и тихая скорбь, далеко различная отъ той полупритворной грусти, которою онъ щеголялъ, бывало, какъ вообще щеголяетъ ею молодежь, исполненная надеждъ и довѣрчиваго самолюбія.
— Разсказать вамъ все, что со мною случилось? — заговорилъ онъ. — Всего разсказать нельзя и не стоитъ… Маялся я много, скитался не однимъ тѣломъ — душой скитался. Въ чемъ и въ комъ я не разочаровывался, Богъ мой! съ кѣмъ не сближался! Да, съ кѣмъ! — повторилъ Рудинъ, замѣтивъ, что Лежневъ съ какимъ-то особеннымъ участіемъ посмотрѣлъ ему въ лицо. — Сколько разъ мои собственныя слова становились мнѣ противными — не говорю уже въ моихъ устахъ, но и въ устахъ людей, раздѣлявшихъ мои мнѣнія! Сколько разъ переходилъ я отъ раздражительности ребенка къ тупой безчувственности лошади, которая уже и хвостомъ не дрыгаетъ, когда ее сѣчетъ кнутъ… Сколько разъ я радовался, надѣялся, враждовалъ и унижался напрасно! Сколько разъ вылеталъ соколомъ — и возвращался ползкомъ, какъ улитка, у которой раздавили раковину!… Гдѣ не бывалъ я, по какимъ дорогами не ходилъ!… А дороги бываютъ грязныя, — прибавилъ Рудинъ, и слегка отвернулся. — Вы знаете… продолжалъ онъ…
— Послушайте, перебилъ его Лежневъ; — мы когда-то говорили: „ты“ другъ другу… Хочешь? возобновимъ старину… Выпьемъ на ты!
Рудинъ встрепенулся, приподнялся, а въ глазахъ его промелькнуло что-то, чего слово выразить не можетъ.
— Выпьемъ, — сказалъ онъ: — спасибо тебѣ, братъ, выпьемъ!
Лежневъ и Рудинъ выпили по бокалу.
— Ты знаешь, — началъ опять, съ удареніемъ на словѣ „ты“ и съ улыбкою, Рудинъ: — во мнѣ сидитъ какой-то червь, который грызетъ меня и гложетъ, и не дастъ мнѣ успокоиться до конца. Онъ наталкиваетъ меня на людей — они сперва подвергаются моему вліянію, а потомъ…
Рудинъ провелъ рукой по воздуху.
— Съ тѣхъ поръ, какъ я разстался съ вами… съ тобою, я переиспыталъ и переизвѣдалъ многое… Начиналъ я жить, принимался за новое разъ двадцать — и вотъ — видишь!
— Выдержки въ тебѣ не было, — проговорилъ, какъ бы про себя Лежневъ.
— Какъ ты говоришь, выдержки во мнѣ не было!… Строить я никогда ничего не умѣлъ; да и мудрено, братъ, строить, когда и почвы-то подъ ногами нѣту, когда самому приходится собственный свои фундаментъ создавать! Всѣхъ моихъ похожденій, то-есть, собственно говоря, всѣхъ моихъ неудачъ, я тебѣ описывать не буду. Передамъ тебѣ два-три случая… тѣ случаи изъ моей жизни, когда, казалось, успѣхъ уже улыбался мнѣ, или нѣтъ, когда я начиналъ надѣяться на успѣхъ, — что́ не совсѣмъ одно и тоже…
Рудинъ откинулъ назадъ свои сѣдые и уже жидкіе волосы тѣмъ самымъ движеніемъ руки, какимъ нѣкогда отбрасывалъ свои темныя и густыя кудри.
— Ну, слушай, — началъ онъ. — Сошелся я, въ Москвѣ, съ однимъ довольно страннымъ господиномъ. Онъ былъ очень богатъ и владѣлъ обширными помѣстьями; не служилъ. Главная, единственная его страсть была любовь къ наукѣ, къ наукѣ вообще. До сихъ поръ я постигнуть не могу, почему эта страсть въ немъ проявилась! Шла она къ нему, какъ къ коровѣ сѣдло. Самъ онъ съ усиліемъ держался на высотѣ ума, и говорить почти не умѣлъ, только поводилъ выразительно глазами и значительно покачивалъ головой. Я, братъ, не встрѣчалъ бездарнѣе и бѣднѣй его природы… Въ Смоленской губерніи есть такія мѣста — песокъ и больше ничего, да изрѣдка трава, которую ни одно животное ѣсть не станетъ. Ничего ему въ руки не давалось — все такъ и ползло отъ него прочь, подальше: а онъ еще помѣшанъ былъ на томъ, чтобы все легкое дѣлать труднымъ. Если бы это зависѣло отъ его распоряженіи, у него бы люди ѣли пятками, право. Работалъ, писалъ и читалъ онъ неутомимо. Онъ ухаживалъ за наукой съ какой-то упрямой настойчивостью, съ терпѣніемъ страшнымъ; самолюбіе въ немъ было огромное, и характеръ онъ имѣлъ желѣзный. Онъ жилъ одинъ и слылъ чудакомъ. Я познакомился съ нимъ… ну, и понравился ему. Я признаюсь, скоро его понялъ; но рвеніе его меня тронуло. Притомъ, онъ владѣлъ такими средствами, столько можно было черезъ него сдѣлать добра, принести пользы существенной… Я поселился у него и уѣхалъ съ нимъ, наконецъ, въ его деревню. — Планы, братъ, у меня были громадные: я мечталъ о разныхъ усовершенствованіяхъ, нововведеніяхъ…
— Какъ у Ласунской, помнишь? —замѣтилъ Лежневъ съ добродушной улыбкой.
— Какое! тамъ я зналъ, въ душѣ, что изъ словъ моихъ ничего не выйдетъ; а тутъ… тутъ совсѣмъ другое поле раскрывалось передо мною… Я навезъ съ собою агрономическихъ книгъ… правда, я до конца не прочелъ ни одной… ну, и приступилъ къ дѣлу. Сначала оно не пошло, какъ я и ожидалъ; а потомъ оно какъ-будто и пошло. Мой новый другъ все помалчивалъ, да посматривалъ, не мѣшалъ мнѣ, т. е. до извѣстной степени не мѣшалъ мнѣ. Онъ принималъ мои предложенія и исполнялъ ихъ, но съ упорствомъ, туго, съ тайной недовѣрчивостью, и все гнулъ на свое. Онъ чрезвычайно дорожилъ каждой своей мыслью. Взберется на нее съ усиліемъ, какъ Божія коровка на конецъ былинки; и сидитъ, сидитъ на ней, все какъ-будто крылья расправляетъ и полетѣть собирается — и вдругъ свалится, и опять полѣзетъ… Не удивляйся всѣмъ этимъ сравненіямъ: они еще тогда накипѣли у меня на душѣ. Такъ я вотъ и бился года два. Дѣло подвигалось плохо, не смотря на всѣ мои хлопоты. Началъ я уставать, пріятель мой надоѣдалъ мнѣ, я сталъ язвить его, онъ давилъ меня, словно перина; недовѣрчивость его перешла въ глухое раздраженіе, непріязненное чувство охватывало насъ обоихъ, мы уже не могли говорить ни о чемъ; онъ изъ-подтишка, но безпрестанно старался доказать мнѣ, что не подчиняется моему вліянію, распоряженія мои либо искажались, либо отмѣнялись вовсе… Я замѣтилъ, наконецъ, что состою у господина помѣщика въ качествѣ приживальщика по части умственныхъ упражненій. Горько мнѣ стало тратить попусту время и силы, горько почувствовать, что я опять и опять обманулся въ своихъ ожиданіяхъ. Я зналъ очень хорошо, что я терялъ, уѣзжая; но я не могъ сладить съ собой, и въ одинъ день, вслѣдствіе тяжелой и возмутительной сцены, которой я былъ свидѣтелемъ и которая показала мнѣ моего пріятеля со стороны уже слишкомъ невыгодной, я разсорился съ нимъ окончательно и уѣхалъ, бросилъ барича-педанта, вылѣпленнаго изъ степной муки съ примѣсью нѣмецкой патоки…
— То-есть, бросилъ насущный кусокъ хлѣба, — проговорилъ Лежневъ и положилъ обѣ руки на плечи Рудину.
— Да, и очутился опять легокъ и голъ въ пустомъ пространствѣ. Лети, молъ, куда хочешь… Эхъ, выпьемъ!
— За твое здоровье! — промолвилъ Лежневъ, приподнялся и поцѣловалъ Рудина въ лобъ. — За твое здоровье и въ память Покорскаго… Онъ также умѣлъ остаться нищимъ.
— Вотъ тебѣ и нумеръ первый моихъ похожденій, — началъ, спустя немного, Рудинъ. — Продолжать, что-ли?
— Продолжай, пожалуйста.
— Эхъ! да говорить-то не хочется. Усталъ я говорить, братъ… Ну, однако, такъ и быть. Потолкавшись еще по разнымъ мѣстамъ… кстати, я бы могъ разсказать тебѣ, какъ я попалъ-было въ секретари къ благонамѣренному сановному лицу, и что изъ этого вышло; но это завело бы насъ слишкомъ далеко… Потолкавшись по разнымъ мѣстамъ, я рѣшился сдѣлаться, наконецъ… не смѣйся, пожалуйста… дѣловымъ человѣкомъ, практическимъ. Случай такой вышелъ: я сошелся съ однимъ… ты, можетъ быть, слыхалъ о немъ… съ однимъ, Курбѣевымъ… нѣтъ?
— Нѣтъ, не слыхалъ. Но, помилуй, Рудинъ, какъ же ты, съ своимъ умомъ, не догадался, что твое дѣло не въ томъ состоитъ, чтобы быть… извини за каламбуръ… дѣловымъ человѣкомъ?
— Знаю, братъ, что не въ томъ; а впрочемъ, въ чемъ оно состоитъ-то?… Но если-бъ ты видѣлъ Курбѣева! Ты, пожалуйста, не воображай его себѣ какимъ-нибудь пустымъ болтуномъ. Говорятъ, я былъ краснорѣчивъ когда-то. Я передъ нимъ просто ничего не значу. Это былъ человѣкъ удивительно ученый, знающій, голова, творческая, братъ, голова въ дѣлѣ промышленности и предпріятій торговыхъ. Проекты самые смѣлые, самые неожиданные, такъ и кипѣли у него на умѣ. Мы соединились съ нимъ и рѣшились употребить свои силы на общее полезное дѣло…
— На какое, позволь узнать?
Рудинъ опустилъ глаза.
— Ты засмѣешься.
— Почему же? Нѣтъ, не засмѣюсь.
— Мы рѣшились одну рѣку въ К…ой губерніи превратить въ судоходную, — проговорилъ Рудинъ съ неловкой улыбкой.
— Вотъ какъ! Стало-быть, этотъ Курбѣевъ капиталистъ?
— Онъ былъ бѣднѣе меня, — возразилъ Рудинъ, и тихо поникнулъ своей сѣдой головой.
Лежневъ захохоталъ, но вдругъ остановился и взялъ за руку Рудина.
— Извини меня, братъ, пожалуйста, — заговорилъ онъ: — но я этого никакъ не ожидалъ. Ну, что-жъ, это предпріятіе ваше такъ и осталось на бумагѣ?
— Не совсѣмъ. Начало исполненія было. Мы наняли работниковъ… ну, и приступили. Но тутъ встрѣтились различныя препятствія. Во-первыхъ, владѣльцы мельницъ никакъ не хотѣли понять насъ, да сверхъ того мы съ водой безъ машины справиться не могли, а на машину не хватило денегъ. Шесть мѣсяцевъ прожили мы въ землянкахъ. Курбѣевъ однимъ хлѣбомъ питался, я тоже не доѣдалъ. Впрочемъ, я объ этомъ не сожалѣю: природа тамъ удивительная. Мы бились, бились, уговаривали купцовъ, письма писали, циркуляры. Кончилось тѣмъ, что я послѣдній грошъ свой добилъ на этомъ проектѣ.
— Ну! — замѣтилъ Лежневъ: — я думаю, добить твой послѣдній грошъ было не мудрено.
— Не мудрено, точно.
Рудинъ глянулъ въ окно.
— А проектъ, ей Богу, былъ не дуренъ и могъ бы принесть огромныя выгоды.
— Куда же Курбѣевъ этотъ дѣлся? — спросилъ Лежневъ.
— Онъ? онъ въ Сибири теперь, золотопромышленникомъ сдѣлался. И ты увидишься, онъ себѣ доставитъ состояніе; онъ не пропадетъ.
— Можетъ быть; но ты, вотъ, ужъ навѣрное состоянія себѣ не составишь.
— Я? что́ дѣлать! Впрочемъ, я знаю: я всегда въ глазахъ твоихъ былъ пустымъ человѣкомъ.
— Ты? Полно, братъ!… Было время, точно, когда мнѣ въ глаза бросались однѣ твои темныя стороны; но теперь, повѣрь мнѣ, я научился цѣнить тебя. Ты себѣ состоянія не составишь… Да я люблю тебя за это… помилуй!
Рудинъ слабо усмѣхнулся.
— Въ самомъ дѣлѣ?
— Я уважаю тебя за это! — повторилъ Лежневъ: — понимаешь ли ты меня?
Оба помолчали.
— Что-жъ, переходить къ нумеру третьему? — спросилъ Рудинъ.
— Сдѣлай одолженіе.
— Изволь. Нумеръ третій и послѣдній. Съ этимъ нумеромъ я только теперь раздѣлался. Но не наскучилъ ли я тебѣ?
— Говори, говори.
— Вотъ, видишь ли, — началъ Рудинъ: — я однажды подумалъ на досугѣ… досуга-то у меня всегда много было… я подумалъ: свѣдѣній у меня довольно, желанія добра… послушай, вѣдь и ты не станешь отрицать во мнѣ желанія добра?
— Еще бы!
— На другихъ всѣхъ пунктахъ я болѣе или менѣе срѣзался… отчего бы мнѣ не сдѣлаться педагогомъ, или, говоря попросту, учителемъ… чѣмъ такъ жить даромъ…
Рудинъ остановился и вздохнулъ.
— Чѣмъ жить даромъ, не лучше ли постараться передать другимъ, что я знаю: можетъ быть, они извлекутъ изъ моихъ познаній хотя нѣкоторую пользу. Способности мои не дюжинныя же наконецъ, языкомъ я владѣю… Вотъ, я и рѣшился посвятить себя этому новому дѣлу. Хлопотно мнѣ было достать мѣсто; частныхъ уроковъ давать я не хотѣлъ; въ низшихъ училищахъ мнѣ дѣлать было нечего. Наконецъ, мнѣ удалось достать мѣсто преподавателя въ здѣшней гимназіи.
— Преподавателя — чего? — спросилъ Лежневъ.
— Преподавателя русской словесности. Скажу тебѣ, ни за одно дѣло не принимался я съ такимъ жаромъ, какъ за это. Мысль дѣйствовать на юношество меня воодушевила. Три недѣли просидѣлъ я надъ составленіемъ вступительной лекціи.
— Ея нѣтъ у тебя? — перебилъ Лежневъ.
— Нѣтъ: затерялась куда-то. Она вышла недурна и понравилась. Какъ теперь вижу лица моихъ слушателей, — лица добрыя, молодыя, съ выраженіемъ чистосердечнаго вниманія, участія, даже изумленія. Взошелъ я на каѳедру, прочелъ лекцію въ лихорадкѣ; я думалъ, ее хватитъ на часъ слишкомъ, а я ее въ двадцать минутъ кончилъ. Инспекторъ тутъ же сидѣлъ — сухой старикъ, въ серебряныхъ очкахъ и короткомъ парикѣ, — онъ изрѣдка наклонялъ голову въ мою сторону. Когда я кончилъ и соскочилъ съ креселъ, онъ мнѣ сказалъ: „Хорошо-съ, только высоко немножко, темновато, да и о самомъ предметѣ мало сказано“. А гимназисты съ уваженіемъ проводили меня взорами… право. Вѣдь вотъ чѣмъ драгоцѣнна молодежь! Вторую лекцію я принесъ написанную, и третью тоже… потомъ я сталъ импровизировать.
— И имѣлъ успѣхъ? — спросилъ Лежневъ.
— Имѣлъ большой успѣхъ. Я передавалъ слушателямъ все, что у меня было въ душѣ. Между ними было три-четыре мальчика, дѣйствительно замѣчательныхъ; остальные меня понимали плохо. Впрочемъ, сознаться надо, что и тѣ, которые меня понимали, иногда смущали меня своими вопросами. Но я не унывалъ. Любить-то меня всѣ любили; я на репетиціяхъ ставилъ полные баллы всѣмъ. Но тутъ началась противъ меня интрига… или нѣтъ! никакой интриги не было; а я, просто, попалъ не въ свою сферу. Я стѣснялъ другихъ, и меня тѣснили. Я читалъ гимназистамъ, какъ и студентамъ не всегда читаютъ; слушатели мои выносили мало изъ моихъ лекцій… факты я самъ зналъ плохо. Притомъ, я не удовлетворялся кругомъ дѣйствій, который былъ мнѣ назначенъ… ужъ это, ты знаешь, моя слабость. Я хотѣлъ коренныхъ преобразованій, а, клянусь тебѣ, эти преобразованія были и дѣльны, и легки. Я надѣялся провести ихъ черезъ директора, добраго и честнаго человѣка, на котораго я сначала имѣлъ вліяніе. Его жена мнѣ помогала. Я, братъ, въ жизни своей немного встрѣчалъ такихъ женщинъ. Ей уже было лѣтъ подъ сорокъ; но она вѣрила въ добро, любила все прекрасное, какъ пятнадцати-лѣтняя дѣвушка, и не боялась высказывать свои убѣжденія передъ кѣмъ бы то ни было. Я никогда не забуду ея благородной восторженности и чистоты. По ея совѣту, я написалъ-было планъ… Но тутъ подъ меня подкопались, очернили меня передъ ней. Особенно повредилъ мнѣ учитель математики, маленькій человѣкъ, острый, желчный и ни во что не вѣрившій, въ родѣ Пигасова, только гораздо дѣльнѣе его… Кстати, что Пигасовъ, живъ?
— Живъ и, вообрази, женился на мѣщанкѣ, которая, говорятъ, его бьетъ.
— По дѣломъ! Ну, а Наталья Алексѣевна здорова?
— Да.
— Счастлива?
— Да.
Рудинъ помолчалъ.
— О чемъ, бишь, я говорилъ… да! объ учителѣ математики. Онъ меня возненавидѣлъ; сравнивалъ мои лекціи съ фейерверкомъ, подхватывалъ на-лету каждое не совсѣмъ ясное выраженіе, разъ даже сбилъ меня на какомъ-то памятникѣ ХѴ-го вѣка… а главное, онъ заподозрилъ мои намѣренія; послѣдній мой мыльный пузырь наткнулся на него, какъ на булавку, и лопнулъ. Инспекторъ, съ которымъ я сразу не поладилъ, возстановилъ противъ меня директора; вышла сцена; я не хотѣлъ уступить, погорячился, дѣло дошло до свѣдѣнія начальства; я принужденъ былъ выйти въ отставку. Я этимъ не ограничился, я хотѣлъ показать, что со мной нельзя поступить такъ… но со мной можно было поступить, какъ угодно… Я теперь долженъ выѣхать отсюда.
Наступило молчаніе. Оба пріятеля сидѣли, понуривъ головы.
Первый заговорилъ Рудинъ.
— Да, братъ, началъ онъ: — я теперь могу сказать съ Кольцовымъ: „До чего ты, моя молодость, довела меня, домыкала, что ужъ шагу ступить некуда“… И между тѣмъ, неужели я ни на что не былъ годенъ, неужели для меня такъ-таки нѣтъ дѣла на землѣ? Часто я ставилъ себѣ этотъ вопросъ, и какъ я ни старался себя унизить въ собственныхъ глазахъ, не могъ же я не чувствовать въ себѣ присутствія силъ не всѣмъ людямъ данныхъ! Отчего же эти силы остаются безплодными? И вотъ еще что́: помнишь, когда мы съ тобой были за границей, я былъ тогда самонадѣянъ и ложенъ… Точно, я тогда ясно не сознавалъ, чего я хотѣлъ, я упивался словами и вѣрилъ въ призраки; но теперь, клянусь тебѣ, я могу громко, передо всѣми высказать все, чего я желаю. Мнѣ рѣшительно скрывать нечего: я вполнѣ, и въ самой сущности слова, человѣкъ благонамѣренный; я смиряюсь, хочу примѣниться къ обстоятельствамъ, хочу малаго, хочу достигнуть цѣли близкой, принести хотя ничтожную пользу. Нѣтъ! не удается! Что это значитъ? Что́ мѣшаетъ мнѣ жить и дѣйствовать, какъ другіе?… Я только объ этомъ теперь и мечтаю. Но едва успѣю я войти въ опредѣленное положеніе, остановиться на извѣстной точкѣ, судьба такъ и сопретъ меня съ нея долой… Я сталъ бояться ея — моей судьбы… Отчего все это? Разрѣши мнѣ эту загадку!
— Загадку! — повторилъ Лежневъ. — Да, это правда. Ты и для меня былъ всегда загадкой. Даже въ молодости, когда, бывало, послѣ какой-нибудь мелочной выходки, ты вдругъ заговоришь такъ, что сердце дрогнетъ, а тамъ — опять начнешь… ну, ты знаешь, что́ я хочу сказать… даже тогда я тебя не понималъ: оттого-то я разлюбилъ тебя… Силъ въ тебѣ такъ много, стремленіе къ идеалу такое неутомимое…
— Слова, все слова! дѣлъ не было! — прервалъ Рудинъ.
— Дѣлъ не было! Какія же дѣла…
— Какія дѣла? Слѣпую бабку и все ея семейство своими трудами прокормить, какъ помнишь, Пряженцевъ… Вотъ тебѣ и дѣло.
— Да; но доброе слово — тоже дѣло.
Рудинъ посмотрѣлъ молча на Лежнева и тихо покачалъ головой.
Лежневъ хотѣлъ-было что-то сказать и провелъ рукой по лицу.
— И такъ, ты ѣдешь въ деревню? — спросилъ онъ наконецъ.
— Въ деревню.
— Да развѣ у тебя осталась деревня?
— Тамъ что-то такое осталось. Двѣ души съ половиною. Уголъ есть, гдѣ умереть. Ты, можетъ быть, думаешь въ эту минуту: „И тутъ не обошелся безъ фразы!“ Фраза, точно, меня сгубила; она заѣла меня, я до конца не могъ отъ нея отдѣлаться. Но то, что́ я сказалъ, не фраза. Не фраза, братъ, эти бѣлые волосы, эти морщины; эти прорванные локти — не фраза. Ты всегда былъ строгъ ко мнѣ, и ты былъ справедливъ; но не до строгости теперь, когда уже все кончено, и масла въ лампадѣ нѣтъ, и сама лампада разбита, и вотъ-вотъ, сейчасъ докурится фитиль… Смерть, братъ, должна примирить наконецъ…
Лежневъ вскочилъ.
— Рудинъ! — воскликнулъ онъ, зачѣмъ ты мнѣ это говоришь? Чѣмъ я заслужилъ это отъ тебя? Что я за судья такой, и что бы я былъ за человѣкъ, если-бъ, при видѣ твоихъ впалыхъ щекъ и морщинъ, слово: фраза — могло прійти въ голову? Ты хочешь знать, что я думаю о тебѣ? Изволь! я думаю: вотъ человѣкъ… съ его способностями, чего бы не могъ онъ достигнуть, какими земными выгодами не обладалъ бы теперь, если-бъ захотѣлъ!… а я его встрѣчаю голоднымъ, безъ пристанища…
— Я возбуждаю твое сожалѣніе, — промолвилъ глухо Рудинъ.
— Нѣтъ, ты ошибаешься. Ты уваженіе мнѣ внушаешь — вотъ что́. Кто тебѣ мѣшалъ проводить годы за годами у этого помѣщика, твоего пріятеля, который, я вполнѣ увѣренъ, если-бъ ты только захотѣлъ подъ него подлаживаться, упрочилъ бы твое состояніе? Отчего ты не могъ ужиться въ гимназіи, отчего ты — странный человѣкъ! — съ какими бы помыслами ни начиналъ дѣло, всякій разъ непремѣнно кончалъ его тѣмъ, что жертвовалъ своими личными выгодами, не пускалъ корней въ недобрую почву, какъ она жирна ни была?
— Я родился перекати-полемъ, — продолжалъ Рудинъ съ унылой усмѣшкой. — Я не могу остановиться.
— Это правда; но ты не можешь остановиться не оттого, что въ тебѣ червь живетъ, какъ ты сказалъ мнѣ сначала… не червь въ тебѣ живетъ, не духъ празднаго безпокойства, — огонь любви къ истинѣ въ тебѣ горитъ и видно, не смотря на всѣ твои дрязги, онъ горитъ въ тебѣ сильнѣе, чѣмъ во многихъ, которые даже не считаютъ себя эгоистами, а тебя, пожалуй, называютъ интриганомъ. Да я первый, на твоемъ мѣстѣ, давно бы заставилъ замолчать въ себѣ этого червя и примирился бы со всѣмъ; а въ тебѣ даже желчи не прибавилось, и ты, я увѣренъ, сегодня же, сейчасъ, готовъ опять приняться за новую работу, какъ юноша.
— Нѣтъ, братъ, я теперь усталъ, — проговорилъ Рудинъ. — Съ меня довольно.
— Усталъ! Другой бы умеръ давно. Ты говоришь, смерть примиряетъ; а жизнь, ты думаешь, не примиряетъ? Кто пожилъ, да не сдѣлался снисходительнымъ къ другимъ, тотъ самъ не заслуживаетъ снисхожденія. А кто можетъ сказать, что онъ въ снисхожденіи не нуждается? Ты сдѣлалъ, что́ могъ, боролся, пока могъ… Чего же больше? Наши дороги разошлись…
— Ты, братъ, совсѣмъ другой человѣкъ, нежели я, — перебилъ Рудинъ со вздохомъ.
— Наши дороги разошлись, — продолжалъ Лежневъ: — можетъ быть, именно оттого, что, благодаря моему состоянію, холодной крови, да другимъ счастливымъ обстоятельствамъ, ничто мнѣ по мѣшало сидѣть сиднемъ, да оставаться зрителемъ, сложивъ руки; а ты долженъ былъ выйти на полѣ, засучивъ рукава, трудиться, работать. Наши дороги разошлись… но посмотри, какъ мы близки другъ другу. Вѣдь мы говоримъ съ тобой почти однимъ языкомъ, съ полунамека понимаемъ другъ друга; на однихъ чувствахъ выросли. Вѣдь ужъ мало насъ остается, братъ; вѣдь мы съ тобой послѣдніе могикане! Мы могли расходиться, даже враждовать въ старые годы, когда еще много жизни оставалось впереди; но теперь, когда толпа рѣдѣетъ вокругъ насъ, когда новыя поколѣнія идутъ мимо насъ къ не нашимъ цѣлямъ, намъ надобно крѣпко держаться другъ за друга. Чокнемся, братъ, и давай-ка, по старинному: Gaudeamus igitur!
Пріятели чокнулись стаканами и пропѣли растроганными и фальшивыми, прямо русскими голосами старинную студенческую пѣсню.
— Вотъ, ты теперь въ деревню ѣдешь, — заговорилъ опять Лежневъ. — Не думаю, чтобъ ты долго въ ней остался, и не могу себѣ представить, чѣмъ, гдѣ и какъ ты кончишь… Но помни: что́ бы съ тобою ни случилось, у тебя всегда есть мѣсто, есть гнѣздо, куда ты можешь укрыться. Это мой домъ… слышишь, старина? У мысли тоже есть свои инвалиды: надобно, чтобъ и у нихъ былъ пріютъ.
Рудинъ всталъ.
— Спасибо тебѣ, братъ, — продолжалъ онъ. — Спасибо! Не забуду я тебѣ этого. Да только пріюта я не стою. Испортилъ я свою жизнь, и не служилъ мысли, какъ слѣдуетъ.
— Молчи! — продолжалъ Лежневъ. — Каждый остается тѣмъ, чѣмъ сдѣлала его природа, и больше требовать отъ него нельзя! Ты назвалъ себя Вѣчнымъ Жидомъ… А почему ты знаешь, можетъ-быть, тебѣ и слѣдуетъ такъ вѣчно странствовать, можетъ-быть, ты исполняешь этимъ высшее, для тебя самого неизвѣстное назначеніе: народная мудрость гласитъ не даромъ, что мы всѣ подъ Богомъ ходимъ. — Ты ѣдешь, — продолжалъ Лежневъ, видя, что Рудинъ брался за шапку. — Ты не останешься ночевать?
— Ѣду! Прощай. Спасибо… А кончу я скверно.
— Это знаетъ Богъ… Ты рѣшительно ѣдешь?
— Ѣду. Прощай. Не поминай меня лихомъ.
— Ну, не поминай же лихомъ и меня… и не забудь что́ я сказалъ тебѣ. Прощай…
Пріятели обнялись. Рудинъ быстро вышелъ.
Лежневъ долго ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, остановился передъ окномъ, подумалъ, промолвилъ вполголоса: „бѣднякъ!“ и, сѣвъ за столъ, началъ писать письмо къ своей женѣ.
А на дворѣ поднялся вѣтеръ и завылъ зловѣщимъ завываньемъ, тяжело и злобно ударяясь въ звенящія стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто въ такія ночи сидитъ подъ кровомъ дома, у кого есть теплый уголокъ… И да поможетъ Господь всѣмъ безпріютнымъ скитальцамъ!
•••
Въ знойный полдень 26 іюля 1848 года, въ Парижѣ, когда уже возстаніе „національныхъ мастерскихъ“ было почти подавлено, въ одномъ изъ тѣсныхъ переулковъ предмѣстій св. Антонія, баталіонъ линейнаго войска бралъ баррикаду. Нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ уже разбили ее; ея защитники, оставшіеся въ живыхъ, ее покидали и только думали о собственномъ спасеніи, какъ вдругъ на самой ея вершинѣ, на продавленномъ кузовѣ поваленнаго омнибуса, появился высокій человѣкъ въ старомъ сюртукѣ, подпоясанномъ краснымъ шарфомъ и соломенной шляпѣ на сѣдыхъ, растрепанныхъ волосахъ. Въ одной рукѣ онъ держалъ красное знамя, въ другой — кривую и тупую саблю, и кричалъ что-то напряженнымъ, тонкимъ голосомъ, карабкаясь кверху и помахивая и знаменемъ, и саблей. — Венсенскій стрѣлокъ прицѣлился въ него — выстрѣлилъ… Высокій человѣкъ выронилъ знамя — и, какъ мѣшокъ, повалился лицомъ внизъ, точно въ ноги кому-то поклонился… Пуля прошла ему сквозь самое сердце.
— Tiens! — сказалъ одинъ изъ убѣгавшихъ инсургентовъ другому: on vient de tuer le Polonais.
— Bigre! — отвѣтилъ тотъ, и оба бросились въ подвалъ дома, у котораго всѣ ставни были закрыты и стѣны пестрѣли слѣдами пуль и ядеръ.
Этотъ „Polonais“ былъ — Дмитрій Рудинъ.
КОНЕЦЪ.
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.