Среди враговъ
Дневникъ юноши, очевидца войны 1812 года
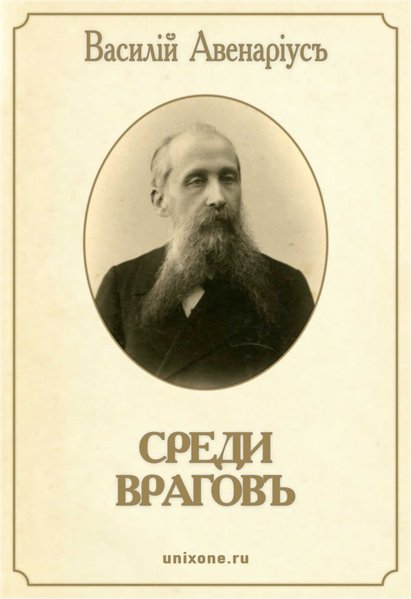
Содержаніе:
- ПРЕДИСЛОВІЕ.
- ГЛАВА ПЕРВАЯ.
- ГЛАВА ВТОРАЯ.
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
- ГЛАВА ПЯТАЯ.
- ГЛАВА ШЕСТАЯ.
- ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
- ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
- ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
- ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
- ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
- ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
- ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
- ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
- ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
- ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
- ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
- ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
- ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
- ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
ПРЕДИСЛОВІЕ.
Старинныя книги и рукописи — страсть моя. Изъ заброшенной барской усадьбы знакомому мнѣ букинисту было доставлено нѣсколько ящиковъ старыхъ книгъ. Отобравъ все мало-мальски цѣнное, букинистъ свалилъ остальной хламъ въ уголъ лавки для продажи на вѣсъ. Роясь въ этомъ хламѣ, я напалъ на объемистую тетрадь съ пожелтѣвшими, подмоченными листами, исписанную притомъ карандашомъ. Почеркъ писавшаго былъ не совсѣмъ еще твердый, но четкій, съ затѣйливыми завитушками, орѳографія же — въ нѣкоторомъ разладѣ съ грамматикой. Я хотѣлъ ужъ бросить мою находку въ общую кучу, когда на глаза мнѣ попалось одно имя, сразу приковавшее мое вниманіе, — имя Наполеона. Перелистывая страницу за страницей, я встрѣтилъ еще нѣсколько именъ французскихъ и русскихъ, получившихъ громкую извѣстность въ эпоху Отечественной войны, а вчитавшись, убѣдился, что имѣю въ рукахъ подлинный дневникъ 1812 года. Букинистъ, не придавая никакого значенія этой рукописи, отдалъ мнѣ ее въ придачу къ купленнымъ мною книгамъ. Выпустивъ изъ нея все лишнее, не идущее къ дѣлу, я раздѣлилъ ее, для удобства читателей, на главы съ соотвѣтственными заголовками и печатаю теперь этотъ любопытный дневникъ очевидца, а отчасти и участника великой войны въ первоначальномъ, безыскусственномъ видѣ.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Ну, вотъ, очинилъ карандашъ и, благословясь, начинаю.
Было то сегодня же, 11 іюня. Хожу я этакъ по двору, въ думы свои погруженный, а навстрѣчу мосье Мулине́:
— Здравствуйте, молодой человѣкъ! Чего носъ повѣсили?
— Тяжело, — говорю, — на душѣ, — носъ книзу и тянетъ.
— Шутите, мой другъ, шутите, — говоритъ, — а я отлично знаю что̀ васъ гнететъ. Тоже вѣдь разъ зеленымъ юнцомъ былъ.
— Ну, что̀? что̀?
— А то, что мадемоазель Барбъ вамъ опять голову намылила. Вѣдь такъ?
— Такъ или не такъ, — говорю, — вы-то, мосье Мулине́, мнѣ все равно не поможете!
— Напротивъ, — говоритъ, — у меня есть для васъ вѣрное средство: пишите дневникъ. Какъ выльется на бумагу, что на душѣ накипѣло, — сразу полегчаетъ. На себѣ испыталъ.
— Да въ домѣ у насъ, — говорю, — и чернилъ-то нѣтъ.
— А еще въ семинаріи всякимъ наукамъ обучались! Такъ карандашъ-то хоть найдется. Нѣтъ, безъ шутокъ, — говоритъ, — послушайтесь моего совѣта; этакій дневникъ — что̀ горчичникъ: всякую боль оттянетъ.
Сказалъ и пошелъ своей дорогой.
А задала она мнѣ и вправду здоровую взбучку:
— Не могу, — говоритъ, — глядѣть на тебя, Андрюша, какъ ты цѣлый день этакъ безъ дѣла болтаешься! Вѣдь ты годомъ всего меня моложе.
— Да, — говорю, — съ Рождества восемнадцатый пошелъ.
— Что̀ жъ изъ тебя наконецъ выйдетъ!
— Ничего, — говорю, — не выйдетъ, — А самъ вздыхаю. — Изъ бурсы за малоуспѣшность удаленъ.
— Да малоуспѣшность-то отчего? Отъ лѣни?
— Лѣнь, Варвара Аристарховна, раньше насъ родилась! Старая еще пословица.
— И преглупая. Поискалъ бы ты себѣ какихъ-нибудь занятій.
— Да что̀ же я умѣю? Въ шашки играть, голубей гонять, бумажный змѣй пускать…
— И не правда! Училъ же ты брата Петю письму, ариѳметикѣ. Но съ тѣхъ поръ, что взяли для него гувернера, ты отъ всего отбился, а Петю только глупостямъ учишь.
— Ахъ, Варвара Аристарховна! — говорю. — Братецъ вашъ — дворянинъ; впереди ему вездѣ дорога, А я что̀? Разночинецъ, простого діакона сынъ…
— Да умомъ вѣдъ тоже не обиженъ? Давно ли у насъ Мулине́; говоришь ты съ нимъ не часто; а вонъ какъ бойко ужъ болтаешь съ нимъ по французски.
— И а̀кцентъ безподобный, бурсацкій.
— Не а̀кцентъ, а акцѐнтъ. Способность къ языкамъ у тебя все-таки есть. Право же, Андрюша, взялся бы ты наконецъ за умъ.
Тутъ ее отозвали…
Однако рука у меня съ непривычки отекла. На сегодня довольно. А на душѣ и то вѣдь какъ будто немножко отлегло, просвѣтлѣло.
•••
Іюня 12. Видѣлъ ее нынче только издалека межъ деревьевъ. Въ садъ свой вышла свѣжимъ воздухомъ подышать. Своя у нея тоже забота немалая: папенькѣ ея, Аристарху Петровичу, опять много хуже. Съ утра еще за докторомъ посылали.
— Въ Толбуховку переѣзжать, — говоритъ, — ни-ни, и думать еще нечего.
Что жъ, этимъ помѣщикамъ, что̀ у себя въ усадьбѣ, что въ городскомъ своемъ домѣ, не житье — малина. И здѣсь у нихъ при домѣ какой садъ-то: большущій, тѣнистый, съ дорожками, съ бесѣдками… А домъ подлинно барскій: съ колоннами, балконами; покои высокіе, просторные. Не то, что̀ черезъ дворъ матушкина хибарка, — убогая избушка на курьихъ ножкахъ! Давно ужъ починки проситъ: крыша протекаетъ, отъ оконъ, какъ изъ трубы, дуетъ. Да гдѣ денегъ взять? А помретъ матушка (не дай, Господи!), такъ и вдовья пенсія ея ухнетъ; останусь безъ гроша…
Правду говоритъ Варвара Аристарховна, что пора мнѣ, пора тоже за умъ взяться, свой хлѣбъ добывать. Да чѣмъ? Въ приказные писцы идти, что ли, и весь вѣкъ за гроши скрипѣть перомъ?
Эхъ-ма! И стыдно-то, и смертельно-скорбно. А роптать не моги. Самъ же виноватъ. Переноси благопокорно.
•••
Іюня 13. Вечоръ горе свое въ слезахъ растворилъ; а нынѣ вновь влетѣло, и отъ кого? Отъ своей же родительницы, а тамъ и отъ протодіакона соборнаго, о. Захарія.
Сидимъ мы съ матушкой за трапезой обѣденной, а она на меня, знай, поглядываетъ и „охъ!“ да „охъ!“.
— О чемъ вы, — говорю, — маменька, воздыхаете?
А она:
— Охъ, болѣзный ты мой! Кабы премудрости семинарскія, какъ должно, произошелъ, быть бы тебѣ разъ добрымъ пастыремъ…
— Оставьте, — говорю. — Такое мнѣ, знать, предопредѣленіе вышло.
Отодвинулъ тарелку и всталъ изъ-за стола. А маменька:
— Куда жъ ты, миленькій, и чаю-то не пивши?
Ничего не сказалъ, иду къ двери. А навстрѣчу о. Захарій.
— Я, — говоритъ, — васъ, матушка Серафима Исидоровна, пришелъ провѣдать: какъ во вдовствѣ своемъ живете-можете?
Маменька благодарствуетъ за великую честь, что не забылъ ее, вдовицу, проситъ откушать чаю стаканчикъ, а сама уже платокъ къ глазамъ. Вопрошаетъ тутъ о. протодіаконъ, о чемъ, молъ, печалуется.
— Да вотъ, — говоритъ и пошла — сперва про собственную хворь свою, а тамъ и обо мнѣ, непутящемъ.
Озираетъ онъ меня искоса, словно медвѣженка неприрученаго, головой качаетъ.
— Да что у паренька вашего, матушка, клепки одной развѣ въ мозгу не хватаетъ, скудоуменъ?
А маменька:
— Ай, нѣтъ, онъ у меня мозговатый…
— Такъ мало, знать, въ бурсѣ лозами уму-разуму наставляли.
Тутъ и самъ я уже не выдержалъ.
— Каждую субботу намъ, — говорю, — секуціи общія чинили.
— Да не по винамъ, — говоритъ. — И насъ тоже во времена оны единожды въ недѣлю наказывали и все во благо. Во гробу одной ногой стою, а доднесь тружусь, въ потѣ лица моего снѣдаю хлѣбъ свой.
Сталъ было я оправдываться, а онъ, не дослушавъ:
— Все сіе, — говоритъ, — столь глупо, что уши вянутъ.
Маменька опять въ слезы.
— Да нельзя ли его, о. протодіаконъ, хоть бы въ причетники соборные поставить, а на дурной конецъ въ понамари, что ли?
— Темна вода во облацѣхъ, — говоритъ: — еще не время, годами не вышелъ. Ну, да уповайте на Бога; авось, еще сподобитъ.
И пошелъ. Маменька залилась еще пуще…
Вседержитель и Сердцевѣдецъ! просвѣти меня: что мнѣ дѣлать, шалоброду?
•••
Іюня 15. Давно ужъ поговаривали, что императоръ французскій Наполеонъ Бонапартъ на насъ войной собирается, что и войска-то наши къ границѣ прусской стянуты, что самъ государь нашъ Александръ Павловичъ со своимъ штабомъ въ Вильнѣ пребываетъ. Проходили чрезъ Смоленскъ нашъ полки за полками, иные и на постой уже поставлены, а все какъ-то не вѣрилось. Громъ не грянетъ — мужикъ не перекрестится.
И вотъ, грянулъ! Отъ государя курьеръ къ губернатору прискакалъ. 12 числа, вишь, французы, войны даже не объявивши, рѣку Нѣманъ перешли. Что за вѣроломство! Изъ Вильны ко всѣмъ нашимъ командирамъ гонцы полетѣли съ приказомъ — самимъ въ бой до времени не вступать, только отбиваться. Князю же Багратіону, что командуетъ второю арміею, да славному казацкому атаману графу Платову повелѣно по мѣрѣ силъ и возможности задерживать непріятеля, дабы дать нашимъ отступать въ порядкѣ; дождемся поры, такъ и мы изъ норы. А самому Наполеону Бонапарту послано требованіе — не медля отозвать свои войска.
„Не положу оружія, доколѣ ни единаго непріятельскаго воина не останется въ царствѣ моемъ,“ — сказано въ государевомъ указѣ.
Да подчинится ли еще таковому требованію всемірный воитель, вознесшійся превыше всѣхъ человѣческихъ тварей?
— Ни въ коемъ разѣ не подчинится! — увѣряетъ мосье Мулине́.
Но самъ онъ весьма озабоченъ, за своихъ будто оконфуженъ. Вѣдь какъ онъ обожаетъ своего „великаго“ императора!
•••
Іюля 1. Двѣ недѣли дневника не раскрывалъ. Баталіи настоящей все еще вѣдь не было. Войска, что ни день, чрезъ Смоленскъ нашъ проходятъ; но куда? никому не вѣдомо.
Обыватели, кто потрусливѣй, за городъ уже выбираются: береженаго и Богъ бережетъ. Толбухины же, хоть бы и хотѣли, не могутъ тронуться: Аристархъ Петровичъ все еще такъ слабъ, что везти его въ Толбуховку за тридцать верстъ по проселочнымъ дорогамъ и разговору быть не можетъ: по дорогѣ, того и гляди, Богу душу отдастъ.
А съ мосье Мулине́ что-то неладное творится: выхожу за ворота, завернулъ за уголъ, а онъ, гляжу, за угломъ съ евреемъ торгуется.
— Далибугъ, никакъ не можно, мусье, — говоритъ еврей: — сто карбованцевъ, ни гроша меньше.
Узрѣли меня тутъ оба, къ забору прижались.
— Сто рублей! — говорю. — За что̀ онъ съ васъ, мосье Мулине́, столько деретъ?
— Идите, Андре́, идите! — говоритъ. — Не ваше дѣло.
Ушелъ я; само собою, какое мнѣ дѣло? Но почему онъ меня такъ испугался? Ужъ не замыслилъ ли тихомолкомъ къ своимъ сбѣжать? Не даромъ эта піявка къ нему присосалась; послѣднее, можетъ, сбереженіе у него высосетъ…
•••
Іюля 3. Такъ вѣдь и есть: сбѣжалъ! Толбухины весьма объ немъ жалѣютъ: и гувернеръ-то, и учитель прекрасный, да и человѣкъ милый, душевный. Какъ бы ему только на казачью пику не напороться!
•••
ГЛАВА ВТОРАЯ.
Іюля 9. Видѣлъ нынѣ самого государя. Съ ранняго утра еще мы съ Петей Толбухинымъ забрались къ казенному „инспекторскому“ дому, нарочито приготовленному для пріема царскаго. Народу, разумѣется, тьма тьмущая. Ровно въ 11 слышимъ издали:
— Ура! ура!
И вотъ, показалась государева коляска. Тутъ уже вся толпа кругомъ подхватила, какъ одинъ человѣкъ, и мы съ Петей тоже:
— Ура-а-а!
По портретамъ я давно его уже зналъ; но самого воочію лицезрѣть — совсѣмъ иное. Когда онъ намъ всѣмъ милостиво этакъ головой закивалъ, отъ его улыбки ласковой и грустной сердце въ груди у меня такъ и запрыгало, да и заныло.
„О, кабы теперь же нѣкій подвигъ отчизнолюбія совершить!“ подумалось мнѣ. Отъ восторга и жалости бросился бы, право, подъ колеса его экипажа, еслибъ симъ чуточку хоть могъ облегчить ему бремя заботъ о его народѣ, о дорогой намъ всѣмъ Россіи.
Нашему губернскому предводителю, маіору Лесли, выпало счастье доложить государю, что Смоленское дворянство на свой коштъ ополченіе въ 20.000 ратниковъ выставляетъ. Послѣ пріема былъ еще смотръ войскамъ съ церемоніальнымъ маршемъ, а послѣ обѣда государь въ Москву уже отбылъ, гдѣ объявитъ манифестъ о вооруженіи всего государства. Но и до сей еще минуты видится мнѣ его столь скорбная и добрая улыбка…
•••
Іюля 10. Чиновникъ губернаторской канцеляріи разсказывалъ Толбухинымъ, а Петя потомъ мнѣ пересказалъ, что государь еще изъ Вильны посылалъ своего генералъ-адьютанта Балашова съ письмомъ къ Наполеону. И что же? Замѣсто того, чтобы сего парламентера принять съ подобающимъ почетомъ, четыре дня его водили отъ маршала къ маршалу, какъ бы за носъ, кормили всякою дрянью, и тогда лишь допустили предъ ясныя очи своего повелителя.
Въ письмѣ томъ говорилось, что государь не прочь, пожалуй, войти еще въ соглашеніе о прекращеніи военныхъ дѣйствій, но съ тѣмъ, чтобы сперва французскія войска за Нѣманъ отошли.
— А если не отойдутъ? — спросилъ Наполеонъ.
— Если нѣтъ, — отвѣчалъ Балашовъ, — то я уполномоченъ заявить вашему величеству, что царь нашъ ни самъ уже не замолвитъ, ни отъ васъ не приметъ ни единаго слова о мирѣ, доколѣ одинъ хоть вооруженный французъ будетъ еще въ Россіи.
— Вотъ какъ! Ну, а я что̀ разъ занялъ, то считаю уже своимъ. Такъ вашему царю и передайте. Я его люблю и уважаю, какъ брата. Поссорили насъ англичане. И что̀ ему, скажите, дѣлать при своей арміи? Его дѣло — царствовать, а не воевать. Мое дѣло другое: я — солдатъ, это — мое ремесло. Да и войска у него вдвое меньше. Какъ же ему защитить отъ меня на всемъ протяженіи границу своего обширнаго царства?
Говоритъ онъ такъ, говоритъ, а самъ ходитъ изъ угла въ уголъ, точно покою себѣ не находитъ. Однакожъ позвалъ Балашова обѣдать. А за обѣдомъ о Москвѣ рѣчь завелъ, точно и Москвѣ отъ него ужъ не уйти.
— Деревня вѣдь это, — говоритъ, — большая деревня! И на что у васъ тамъ столько церквей? Въ нашемъ вѣкѣ набожныхъ людей уже нѣтъ.
До чего вѣдь договорился! Гордыня обуяла. А Балашову, православному человѣку, за великую обиду показалося.
— Не знаю, — говоритъ, — ваше величество, какъ у васъ во Франціи; тамъ, можетъ, страху Божьяго уже и не стало; у насъ на Руси Богу еще молятся.
Отбрилъ чище бритвы! Однакожъ, ни къ чему; отпустили его ни съ чѣмъ.
•••
Іюля 20. Пока Багратіонъ да Платовъ задерживаютъ Наполеона, Барклай-де-Толли все вспять да вспять, а нынѣ вотъ и нашъ Смоленскъ своей первой арміей наводнилъ. Въ хижинку къ намъ на постой тоже 10 человѣкъ съ фельдфебелемъ поставлено. Для другихъ 10-ти человѣкъ, съ офицеромъ, поручикомъ Шмелевымъ, Толбухины свой надворный флигель отвели.
Подъ Островной близъ Витебска завязалось, говорятъ, уже жаркое дѣло. Наши лейбъ-гусары и драгуны дрались съ авангардомъ непріятеля, дрались храбро, отчаянно, а въ концѣ концовъ, — сказать зазорно, — были все же побиты, потеряли даже 6 пушекъ… Да, воевать и впрямь, видно, ремесло Наполеона, сего Аттилы XIX вѣка!
А промежъ Барклая и Багратіона вдобавокъ, слышь, еще нелады идутъ…
•••
Іюля 21. Слава Богу, помирились. Багратіонъ для сего самъ сюда въ Смоленскъ прибылъ. Мы съ Петей выжидали его выхода у губернаторскаго дома. Оба главнокомандующіе вмѣстѣ рука-объ-руку на крыльцо вышли. Тутъ Багратіонъ окинулъ насъ, зѣвакъ, огненнымъ взглядомъ.
— Завтра, значитъ, — говоритъ Барклаю, — опять свидимся.
Вскочилъ въ коляску и укатилъ, — только пыль взвилась.
— Этотъ-то не выдастъ! — говорили кругомъ. — И носъ крючкомъ, какъ у орла, и взоръ орлиный — прямой орелъ!
•••
Іюля 22. За ночь и багратіонова армія подошла. У Барклая тоже словно крылья выросли.
„Ни при какихъ обстоятельствахъ не отступлю уже отъ Смоленска“ — собственные слова его.
Дай то Богъ!
По случаю тезоименитства императрицы-матери съ утру со всѣхъ колоколенъ колокола гудятъ. А послѣ обѣдни народное гулянье, на площадяхъ полковая музыка гремитъ, по улицамъ солдаты ходятъ, пѣснями заливаются. Точно войны и не бывало, Наполеона ни у кого и въ поминѣ нѣтъ.
•••
Іюля 25. А поручикъ-то Шмелевъ у Толбухиныхъ уже свой человѣкъ: у нихъ столуется, съ Варварой Аристарховной по саду разгуливаетъ. Пускай! мнѣ что̀? А все же, признаться, ретиво́е нѣтъ-нѣтъ да и заноетъ…
•••
Іюля 31. Что-то у нихъ будто налаживается. По часамъ все вмѣстѣ: то книжку онъ ей читаетъ, то горячо спорятъ, потомъ опять смѣются. А ввечеру, слышу, на фортепьянахъ забренчали (съ болѣзни Аристарха Петровича впервые, ибо со вчерашняго ему немного легче). Поручикъ романсъ поетъ:
Пропѣлъ куплетъ — и умолкъ. Не спроста!
•••
Августа 2. Такъ и чуялъ: обручились! Прибѣгаетъ Петя:
— А знаешь-ли, — говоритъ, — что̀ я подглядѣлъ?
— Ну?
— Только по секрету, Андрюша!
— Да въ чемъ дѣло-то?
— Варенька съ Дмитріемъ Кириллычемъ кольцами обмѣнялись. Папенька и маменька ничего еще не знаютъ. Такъ и ты пока молчи.
— Хорошо, — говорю, — хорошо…
А у самого въ груди точно что̀ порвалось.
Ну, что жъ, дай имъ Господи! Женихъ какъ женихъ, все же гвардіи поручикъ; разъ и до генерала дослужится. А я что̀? Недоучка, балбесъ, мизинца его не стою.
•••
Августа 3. Зашевелились французы: у архіерейскаго двора — всего 7 верстъ отсюда — перестрѣлка съ авангардомъ. Не нынче-завтра подойдутъ и къ Смоленску Жителямъ предложено выбираться по добру по здорову. По улицамъ возы потянулись. И Толбухины рѣшились-таки въ деревню перебраться; на дворѣ возы нагружаютъ. Сами по утру двинутся. Боятся только, какъ-то еще Аристархъ Петровичъ переѣздъ выдержитъ.
•••
Августа 4. Уѣхали и маменьку мою съ собой забрали. Упиралась спервоначалу:
— Какъ, молъ, я Андрюшу моего одного здѣсь на погибель оставлю?
Варвара Аристарховна успокаиваетъ:
— Да съ чего ему погибать-то? Будь онъ еще военный. Ничего ему не сдѣлаютъ.
— А присмотрѣть въ домѣ, — говорю, — все-таки кому-нибудь да надо, чтобы не разграбили.
— Грабить-то у насъ, пожалуй, нечего… — говоритъ маменька.
— Тѣмъ паче, значитъ. А взглянуть мнѣ на этого Наполеона, маменька, куда какъ любопытно!
— Потомъ и намъ про него разскажетъ, — говоритъ Варвара Аристарховна. — Кстати, Андрюша: ты: вѣдь дневникъ пишешь?
— Пишу…
— Такъ все, смотри, описывай, что̀ бы ни было: дашь потомъ прочитать. Особливо же…
Тутъ она запнулась, покраснѣла и оглядѣлась на, маменьку.
— Послѣ скажу тебѣ.
И вотъ, когда другіе въ карету уже садились, она, вдругъ быстро ко мнѣ подходитъ, а у самой щеки и уши такъ и горятъ.
— Тихонычъ здѣсь хоть и остается, — говоритъ мнѣ шопотомъ, — но надежда на старика плохая. Еслибъ Дмитрію Кириллычу что̀ понадобилось, такъ ты, Андрюша, пожалуйста, ужъ пригляди, постарайся…
— Постараюсь, — говорю.
— И дневникъ свой, смотри, не забывай.
И вотъ ихъ уже нѣтъ!
А въ гостиной на фортепьянахъ онъ опять бренчитъ, заунывно таково распѣваетъ;
И слышать не могу! Пройдусь-ка по улицѣ…
•••
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Августа 5.
Ломоносова муза пророческимъ окомъ словно предвидѣла наши здѣшніе ужасы.

Съ картины П. Гесса.
Во-время же убрались Толбухины! И за маменьку трепетать уже нечего.
Началось еще вчера, скоро послѣ ихъ отъѣзда. Подходили французы сразу съ трехъ сторонъ; думали городъ штурмомъ взять. Анъ съ крѣпостныхъ стѣнъ имъ чугунную хлѣбъ-соль поднесли; а генералъ Раевскій изъ воротъ навстрѣчу къ нимъ вышелъ съ батальнымъ огнемъ, да въ штыки, за ровъ крѣпостной погналъ, весь ровъ и гласисъ тѣлами ихъ усѣялъ.
Но съ вечера и за ночь подходили все новыя полчища, весь Старый городъ до Днѣпра какъ кольцомъ обложили. Сыплятся на нихъ ядра и съ городскихъ-то батарей, и съ того берега Днѣпра, куда стянулись наши главныя силы. А они ломятся уже въ Молоховскія и Никольскія ворота. Наполеону же не терпится, рѣшилъ зажечь городъ, — дома-то все больше вѣдь деревянные; и взвились надъ городомъ гранаты, лопаются въ воздухѣ и загорается то тамъ, то сямъ; вѣтромъ пламя съ крыши на крышу переноситъ. Бывало, бѣжишь поглазѣть на пожаръ, какъ на нѣкое зрѣлище; а теперь, какъ кругомъ запылало, — не то: адъ, да и только.
Перекинуло и на нашу улицу. Люди мечутся, какъ угорѣлые, ревомъ ревутъ:
— Отцы наши, батюшки! Воды, воды!
А гдѣ ее взять? Пока еще до рѣки доберешься, отъ всего строенія однѣ головешки останутся. И я спасать помогаю, схватилъ въ охапку первое, что подъ руку попалось. Тутъ кличетъ меня, слышу, Тихонычъ:
— Андрей Серапіонычъ! гдѣ ты? И у тебя вѣдъ занялося.
Съ нами крестная сила! И то вѣдь на крышѣ у насъ уже языки огненные. А помогать мнѣ, опричъ старика Тихоныча, некому: солдаты-постояльцы всѣ у городскихъ стѣнъ, кровь свою за насъ проливаютъ. Вынесли мы образа, забрали кое-что изъ платья, посуды; захватилъ я и дневникъ свой; а огонь уже стѣны лижетъ, волоса мнѣ на головѣ спалилъ… Не прошло и получаса времени, какъ домишка нашего какъ не бывало.
— Богъ далъ — Богъ и взялъ! — утѣшаетъ Тихонычъ. — Буди Его святая воля! Прибѣжище у насъ и для тебя найдется. Домъ каменный, крыша желѣзная, — огня не боится.
А погода весь день чудная, солнечная, на небѣ ни облачка. Жители же, крова послѣдняго лишившись, бѣгутъ изъ города, бѣгутъ безъ оглядки, на ту сторону Днѣпра.
Поручикъ Шмелевъ домой только на минутку забѣжалъ, весь черный отъ порохового дыму.
— Что, Дмитрій Кириллычъ, — спрашиваю, — не ранены?
— Нѣтъ еще, — говоритъ, — Богъ миловалъ. Но раненыхъ не счесть; доктора перевязывать не поспѣваютъ.
— Но французы насъ не одолѣваютъ? Еще держимся?
— Держимся крѣпко.
Въ 8 часовъ ко всенощной ударили.
— А завтра-то вѣдь великій праздникъ — Преображеніе Господне! — говоритъ Тихонычъ. — Весь домъ свой господа мнѣ препоручили; такъ отлучиться не смѣю. Иди же ты, милый, помолись за нашихъ воиновъ: многимъ изъ нихъ придется пить смертную чашу.
Бѣжали изъ города народу хоть и тысячи, но въ соборъ стеклось еще многое множество, молились всѣ истово съ плачемъ и воздыханіемъ; а въ крестномъ ходѣ вкругъ собора съ иконой чудотворной Смоленской Божіей Матери и самъ я тоже фонарь несъ.
•••
Только дописалъ, лечь собираюсь, какъ слышу Шмелева, зоветъ деньщика:
— Собирай вещи, да живо, живо! Уходимъ. Выскочилъ я къ нему.
— Ка́къ уходите, Дмитрій Кириллычъ? Сами давеча еще говорили, что „держимся крѣпко“?
Плюнулъ съ досады.
— Ужъ не говорите! Все эта нѣмчура проклятая…
— Кто? Барклай-де-Толли?
— Ну да. Главнокомандующій! Ну, и слушайся его.
— Да вѣдь и Багратіонъ — такой же главнокомандующій?
— Такой, да не такой. У каждаго своя армія, но Барклай вдобавокъ и военный министръ, такъ въ бою у него рѣшающій голосъ. А какой ужъ онъ боевой генералъ! Чиновникъ, управлять войскомъ умѣетъ только на бумагѣ; отдалъ приказъ — и дѣло, думаетъ, въ шляпѣ.
— Да не самъ ли онъ увѣрялъ, что ни при какихъ обстоятельствахъ не отступитъ?
Не вытерпѣлъ тутъ и деньщикъ:
— Осмѣлюсь доложить, ваше благородіе, — говоритъ: — солдаты наши тоже ужъ ропщутъ, что все отступаемъ.
— Тебя не спрашиваютъ! — строго замѣтилъ ему Шмелевъ. — Пошелъ вонъ!
— Слушаю-съ.
И вышелъ вонъ.
— Простите, Дмитрій Кириллычъ, — говорю я Шмелеву. — Но, уклоняясь отъ боя, Барклай и то вѣдь противъ государя и всего войска яко бы измѣнникъ?
— Измѣнникъ онъ не измѣнникъ, а малодушествуетъ… По своему онъ, пожалуй, даже и правъ: армія Наполеонова вдвое нашей сильнѣе, а самъ Наполеонъ въ военномъ искусствѣ противъ него исполинъ.
— Но солдаты, вы слышите, уже ропщутъ…
— И мы, офицеры, ропщемъ, но — дисциплина. Приказано отступать — и отступаемъ. Генералъ Дохтуровъ будетъ еще сдерживать ихъ натискъ, чтобы намъ уйти въ порядкѣ и увезти съ собой нашихъ раненыхъ. А чудотворный образъ Богоматери Смоленской будетъ намъ сопутствовать: батарейная рота полковника Глухова ее въ свой зарядный ящикъ уложила…
•••
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Августа 6. Не раздѣваясь, спалъ какъ убитый. И то бы еще не проснулся, кабы не Тихонычъ: растолкалъ меня.
— Вставай-ка, сударикъ, вставай! Французы сейчасъ быть должны. Наше войско все уже за Днѣпромъ; мостъ за собой разрушило; а уѣздный предводитель въ каретѣ къ Никольскимъ воротамъ поѣхалъ — ключи городскіе Бонапарту сдать.
— Уѣздный? — говорю. — А губернскій-то что же?
— Тотъ съ губернаторомъ вечоръ еще, слышь, за городъ убрался. Быть худу! быть худу! Чу! музыка трубная, барабаны… Въ городъ, значитъ, уже побѣдителями вступаютъ. Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ!
Я же, ни мало не ужаснувшись, съ гвоздя картузъ — и на улицу. Что́ съ меня возьмутъ?
По пожарищу еще дымится, погорѣльцы бродятъ. А военныя трубы и барабаны отъ Никольскихъ воротъ все ближе, ближе. Завернулъ за уголъ, а навстрѣчу верхами трубачи-кирасиры въ стальныхъ латахъ, въ шлемахъ съ конскими хвостами. За трубачами на лихомъ аргамакѣ молодой генералъ, высокій, статный, локоны по плечи, треуголка съ золотымъ позументомъ, съ плюмажемъ, плащъ коротенькій, зеленый, панталоны брусничныя, чулки синіе. По сторонамъ весело озирается: „смотрите, молъ, люди добрые, какой я хватъ!“ (Послѣ узналъ, что былъ то Мюратъ, король неаполитанскій). За нимъ цѣлый полкъ кирасиръ, такіе же все чистенькіе, нарядные, точно и въ огнѣ не побывали, на парадъ собрались.
За кирасирами — гренадеры-великаны, молодецъ къ молодцу, въ мохнатыхъ медвѣжьихъ шапкахъ, а за ними на бѣлоснѣжномъ конѣ самъ Наполеонъ Бонапартъ съ генералитетомъ. Генералы въ блестящихъ мундирахъ и шляпахъ, а онъ въ простой лишь треуголкѣ, въ сѣромъ сюртукѣ дорожномъ: ростомъ не вышелъ, но съ брюшкомъ. Зато собой красавецъ писаный, взоръ грозный, язвительный, осанка величавая, по истинѣ цесарская.
„Не поклонюсь тебѣ, — думаю, — не жди!“
Но какъ глянулъ онъ въ мою сторону — духъ у меня заняло, картузъ самъ собой съ головы сорвался: а онъ чуть-чуть только въ отвѣтъ кивнулъ. Съ миромъ, значитъ, отпустилъ.
Тутъ ужъ всякія войска потянулись, и конца не видать.
Вернулся я домой не раньше, какъ всѣхъ мимо пропустилъ: а французы-то въ домѣ, какъ у себя, уже хозяйничаютъ. Тихонычъ, изъ окна меня углядѣвъ, на крыльцо ко мнѣ выскочилъ.
— И гдѣ это ты, — говоритъ, — пропадалъ, милага? Думалъ, что тебя и на свѣтѣ ужъ нѣтъ. По комнатамъ, каторжные, рыщутъ, въ барышнину спальню порывались. Да какъ бы не такъ! На ключъ заперъ; но разговорныхъ словъ ихъ не знаю. Объяснись съ ихъ набольшимъ, сдѣлай милость, — полковникъ, что ли, или унтеръ — шутъ его знаетъ!
Пошелъ я объясняться. Оказалось, сержантъ, по фамиліи Мушеронъ, видный, бравый. Тоже обрадовался, что есть съ кѣмъ столковаться.
— Э! — говоритъ, — да вы понимаете хоть по нашему. Съ этимъ старикашкой никакого толку не добьешься.
— Что́ вамъ, — говорю, — угодно?
— Мы къ вамъ, монъ шеръ, издалека въ гости пришли; а гостей кормятъ и поятъ. Чѣмъ насъ угостите?
Перевелъ я Тихонычу; онъ на дыбы.
— Доброй волей не дадимъ, — говорю, — такъ безъ спросу вѣдь возьмутъ. Въ кладовой да на ледникѣ вѣрно запасы еще найдутся?
— Какъ не найтись…
— А въ погребѣ, слышалъ я, всегда вина имѣлись. Съ собой вѣдь въ деревню всѣхъ не взяли?
— Ну, нѣтъ, шалишь, — говоритъ, — вина дорогія, виноградныя, заморскія…
— То̀ какъ разъ, что имъ и нужно: привыкли у себя дома винограднымъ виномъ ѣду запивать.
Закряхтѣлъ мой старикашка, заохалъ, а дѣлать нечего — сдался.
— Умываю, — говоритъ, — руцѣ въ неповинныхъ.
Принесъ муки, крупъ разныхъ, яицъ, масла; потомъ и полдюжину бутылокъ. А сами гости тѣмъ часомъ на дворѣ и индюка изловили. Нашелся межъ нихъ и поваръ, развелъ подъ плитой огонь, давай орудовать. Долго ли, коротко ли, пошелъ у нихъ пиръ горой, крики, пѣсни. Въ подпитіи и меня къ себѣ зовутъ, въ маленькаго гражданина — пти буржуа — окрестили:
— Эй, пти буржуа! иди-ка сюда, садись къ намъ.
Полный стаканъ подносятъ. Я отказываюсь: капли вина въ ротъ никогда, молъ, не бралъ. А. они:
— Стыдись! Вонъ какимъ дылдой выросъ, а вина еще не пробовалъ. Пей, сакръ-Діе, коли налито! Не то вѣдь силой въ глотку нальемъ.
Взялъ, пригубилъ.
— Ну, а теперь кричи: „Да здравствуетъ императоръ!“.
Но я дерзновенно въ отвѣтъ:
— За какого императора? За своего всероссійскаго? Извольте.
Какъ заорутъ тутъ всѣ, затопаютъ на меня! Но сержантъ Мушеронъ заступился:
— У него, братцы, пока что, еще свой императоръ; неволить не годится.
Оставили меня за симъ въ покоѣ. Сижу среди нихъ, уши навострилъ: вино языкъ имъ вѣрно развяжетъ; въ винѣ правда — in vino veritas — говорили еще латынцы.
— Здѣсь въ Смоленскѣ и кампанію бы намъ закончить, — молвилъ одинъ. — Какъ изъ Пруссіи вышли, чего-чего не натерпѣлись!
— Да, ужъ эти русскіе — подлинные варвары, — говоритъ другой: — и дома-то свои жгутъ, и запасы. Ни фуража, ни продовольствія. А мародерствовать начальство не дозволяетъ; Даву сколькихъ уже разстрѣлялъ.
— Оттого у него и дисциплина образцовая, — говоритъ сержантъ. — Изъ всѣхъ маршаловъ какъ никакъ Даву все-же первый. Не даромъ императоръ ему и 1-ый корпусъ ввѣрилъ: люди отборные, въ походахъ закаленные, у пирамидъ въ Египтѣ побывали.
Такъ перебрали они по пальцамъ всѣхъ своихъ маршаловъ: пасынка Наполеонова Евгенія Богарне, Мюрата неаполитанскаго, Жерома вестфальскаго… Тутъ одинъ какъ расхохочется:
— Ну, ужъ эти вестфальцы!
—А что?
— Какъ казакъ-то съ однимъ ихъ лейтенантомъ раздѣлался!
— На пику посадилъ?
— Хуже того.
— Чего ужъ хуже!
— Нагайкой отхлесталъ.
— Ври больше!
— Отъ вѣрнаго человѣка слышалъ.
— Да какъ же то быть могло?
— А такъ, что эти дьяволы-казаки на вестфальцевъ налетѣли. Тѣ въ карре́ и дали залпъ. Казаки какъ налетѣли, такъ и отлетѣли. Одинъ только, какъ ни въ чемъ не бывало, отъѣзжаетъ шагомъ, трубочку себѣ еще набиваетъ. Вотъ и загорѣлось молодому лейтенанту отличиться — забрать въ плѣнъ казака. Поскакалъ за нимъ, саблею храбро этакъ машетъ. Казакъ же коня разомъ повернулъ да на вестфальца съ пикой. Вестфалецъ саблей хвать — пика пополамъ. „Сдавайся!“ кричитъ. Но казакъ мигомъ его обскакалъ, да и давай жарить плеткой, пока тотъ съ сѣдла замертво не скатился…
Сему анекдоту всѣ весьма разсмѣялись:
— Ай да казакъ!
Вестфальцы вѣдь тѣ же нѣмцы, а французы и нѣмцы, извѣстно, что̀ кошка да собака, враги исконные.
Болтаютъ такъ межъ собой наши новые хозяева, какъ вдругъ въ дверяхъ офицеръ:
— Это еще что за вольности? Сержантъ Мушеронъ! За Днѣпромъ кровь ручьями льется, а у васъ здѣсь…
Мушеронъ на вытяжку, честь отдаетъ.
— А у насъ, г-нъ лейтенантъ, вино льется, только не ручьями, а ручейкомъ: полдюжины всего изъ погреба на пробу взяли, подойдетъ ли для стола г-на лейтенанта.
Улыбнулся.
— Ну, и что же?
— О! марки преотмѣнныя: стараго разлива бордо, лафитъ, ике́мъ. Жила преизобильная; порыться глубже, такъ забьетъ и шампанское.
— Хорошо; но то уже не про васъ. А комната для меня приготовлена?
— Да вотъ здѣшній метръ-д’отель отъ одной комнаты ключа ни за что не даетъ, а та комната, я чаю, какъ разъ подошла бы г-ну лейтенанту.
— Чья же то комната?
— „Молодой, — говоритъ, — барышни, хозяйской дочки“.
— Взять у него ключъ!
Шутить съ нимъ, вижу, не приходится. Побѣжалъ за Тихонычемъ, отобралъ у него ключъ. Отперъ. Не комната — игрушка.
— Премило, — говоритъ лейтенантъ.
На столѣ книжка. Подошелъ, раскрылъ.
— „Поль и Виржини“. Гм… Чиста еще, какъ ангелъ. Не станемъ же нарушать ея святилища. Заприте и ключъ отдайте опять метръ-д’отелю.
Сказалъ и вышелъ. Деликатность по истинѣ французская! А я, грѣшный человѣкъ, былъ не столь деликатенъ: изъ книжки на полъ бисерная закладка выпала; поднялъ ее и — въ карманъ. Сама вѣдь вѣрно вышила. Хоть что-нибудь-то отъ нея на память!
•••
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Августа 7. Къ тремъ часамъ утра непріятели сломанный на Днѣпрѣ мостъ починили, а нѣсколько верстъ выше другой мостъ еще наводятъ, дабы русскому арьергарду отрѣзать отступленіе. Издали слышна неумолчная пальба: идетъ, значитъ, упорный бой. А здѣшніе наши постояльцы и ухомъ не ведутъ. Гвардія! Разыскалъ сержантъ Мушеронъ въ погребѣ для своего лейтенанта и шампанское; тотъ пріятелей офицеровъ зазвалъ; до глубокой ночи пировали. Нижніе чины тоже устроились, какъ въ мирномъ лагерѣ: кто аммуницію чинитъ, кто ружье чиститъ, кто чулокъ штопаетъ; мухи, кажись, не обидятъ.
И вдругъ — не сонное ли видѣніе? Вносятъ раненаго на носилкахъ, и кого же? Толбухинскаго гувернера, мосье Мулине́!
Увидалъ меня — простираетъ руки.
— О, мой дорогой Андре́! Вы-то хоть еще здѣсь! А у меня бомбой оторвало ногу.
Отнесли бѣднягу во флигель, въ прежнюю его комнату. Пришелъ тутъ къ нему понавѣдаться и лейтенантъ-постоялецъ, рекомендуется:
— Лейтенантъ д’Орвиль. Чѣмъ могу служить? Вы вѣдь тоже офицеръ великой арміи?
А Мулине́:
— Былъ таковымъ 12 лѣтъ назадъ. При Маренго, въ чинѣ корнета, раненъ въ грудь на вылетъ; изъ собственныхъ рукъ императора — тогда еще перваго консула — ордена Почетнаго Легіона удостоился. О! онъ умѣетъ цѣнить заслуги. Но одно легкое у меня было прострѣлено; пришлось подать въ отставку. Сталъ учительствовать… Надо же чѣмъ-нибудь прокормиться! Такъ гувернеромъ и въ Россію попалъ къ достойному семейству…
— Но когда услышали теперь военныя трубы обожаемаго нашего императора, то не выдержали?..
— Да, помчался на призывъ, какъ боевой конь. И вотъ — безногій инвалидъ! Въ госпиталѣ перевязали; но я просилъ перенести меня сюда. Коли умирать, такъ въ родномъ домѣ; а домъ господъ Толбухиныхъ сталъ для меня все равно что родной.
•••
Августа 8. Бѣдный мосье Мулине́ отъ адскихъ мученій всю ночь глазъ не сомкнулъ. Не жалуется, а тихонько только этакъ стонаетъ. Ввечеру еще посылали въ госпиталь за докторомъ, чтобы снова перевязалъ рану. Обѣщалъ быть, да такъ и не прибылъ; забылъ, что ли.
„Дай-ка, — думаю, — напомню“.
Пошелъ. Подъ госпиталь свой французы заняли домъ губернатора; каменный онъ, такъ уцѣлѣлъ отъ огня.
Прихожу, спрашиваю хирурга.
— Да вамъ какого?
— А кто у васъ главный?
— Главный — баронъ Ларрей, его величества генералъ-штабъ-докторъ.
— Его-то мнѣ и нужно. Проведите меня къ нему.
— Простите: онъ на операціи.
— Такъ я обожду.
— Да вы-то сами отъ кого?
— Отъ раненаго французскаго офицера.
— На частной квартирѣ?
— На частной. Вчера его здѣсь уже перевязали; обѣщали прислать вечеромъ хирурга, да вотъ не прислали.
— Прошу за мною.
Поднялись во второй этажъ. Идемъ палатами.
— Обождите тутъ.
А кругомъ раненые лежатъ вповалку. У кого голова забинтована, кто безъ руки, кто безъ ноги, а кто и безъ обѣихъ ногъ. И все-то больше молодой еще народъ.
Одни молчатъ, временами только охаютъ, стонутъ; другіе разговоръ ведутъ. Громче всѣхъ, задорнѣе одинъ — и по виду, и по говору не французъ.
— Что̀, — говоритъ, — всѣ ваши маршалы! Одинъ нашъ Понятовскій всѣхъ ихъ сто́итъ. Націи храбрѣе нашей нѣтъ. Самъ Наполеонъ вашъ это признаетъ.
А французовъ за живое задѣло.
— Ну да! — говорятъ. — Ваша шляхта — извѣстные хвастуны. Чѣмъ вы въ этой кампаніи отличились, ну-ка?
— Да хоть бы тѣмъ, что пока вы на Нѣманѣ понтонные мосты наводили, наша кавалерія уже вплавь пустилась.
— И безъ всякой нужды перетопила сорокъ человѣкъ!
— Что жъ такое? Зато императоръ насъ какъ расхвалилъ! А здѣсь, подъ Смоленскомъ, онъ насъ же первыми въ атаку послалъ: „Поляки! этотъ городъ принадлежитъ вамъ“.
Что̀ дальше говорилось — я уже не слышалъ: меня провели въ уборную, куда баронъ Ларрей долженъ былъ выйдти послѣ операціи — руки мыть.
Наконецъ-то операція кончена. Входитъ самъ Ларрей, сѣдой уже, преважный, въ генеральскихъ эполетахъ, но въ бѣломъ фартукѣ, съ засученными рукавами. Фартукъ весь кровью забрызганъ, руки въ крови.
Фельдшеръ во слѣдъ бѣжитъ, воду на руки ему наливаетъ. А баронъ про себя брюзжитъ, ругательски ругается:
— Ужъ это анафемское интендантство! Чортъ бы его подралъ! Ни бинтовъ, ни полотенецъ, ни корпіи… Справляйся, какъ знаешь! Ни въ итальянскую кампанію, ни въ австрійскую ничего подобнаго не было.
— Смѣю доложить г-ну барону, — говоритъ фельдшеръ: — ни въ Италіи, ни въ Австріи жители своихъ городовъ не жгли.
— И мы гранатами домовъ ихъ не поджигали!
— Точно такъ. Но Россія — страна варварская. И хлѣба не допросишься. Хоть бы тутъ, въ Смоленскѣ..
Большой вѣдь городъ, и лавки есть еще несожженныя, да съ чѣмъ? Съ желѣзнымъ товаромъ, съ посудой, хомутами и дегтемъ; а булочныя заколочены, мясныя пусты…
— Ну, вотъ, ну, вотъ! Что̀ же я говорю? Прежде, чѣмъ воевать, надо изучить страну, принять мѣры. Такъ нѣтъ же, ради военной своей славы, опустошаемъ цѣлый край, раззоряемъ тысячи людей, ни въ чемь неповинныхъ, свое собственное войско заставляемъ голодать, да требуемъ отъ него еще геройскихъ подвиговъ…
Тутъ только онъ замѣтилъ меня.
— Вы кто такой? Какъ сюда попали?
Я объяснилъ.
— Гм… Самому мнѣ уйти никакъ невозможно…
— Не позвать ли мнѣ г-на де-ла-Флиза? — говоритъ фельдшеръ.
— Позовите.
И такъ-то вотъ помощникъ Ларрея, докторъ де-ла-Флизъ пошелъ со мной.
Какъ обмылъ онъ мосье Мулине́ рану, перевязалъ, — я за нимъ въ переднюю.
— Что, г-нъ докторъ, не очень опасно?
— Ни за какую ампутацію, — говоритъ, — отвѣчать врачъ не можетъ, особенно когда рана запущена…
А кто же запустилъ?
•••
Августа 9. Полъ-ночи у нашего больного просидѣлъ Тихонычъ; въ 5 часовъ утра я его смѣнилъ. Сперва бѣдный метался, бредилъ; потомъ крѣпко заснулъ. Проснулся уже въ 10-мъ часу, когда навѣдать его пришелъ лейтенантъ д’Орвиль.
— Ну, что, дорогой мой, — говоритъ лейтенантъ, — какъ себя чувствуете?
А Мулине́:
— Не во мнѣ ужъ дѣло. Буде и выживу, то останусь все-таки навѣкъ инвалидомъ; моя пѣсня спѣта. А что, скажите, русскіе все еще отступаютъ?
— Отступаютъ, но отбиваются. Вчера была опять отчаянная схватка: изъ строя у насъ выбыло 6.000…
— А здѣсь при штурмѣ города 12.000!
— Да, потери крупныя. Императоръ послѣ вчерашняго боя самъ нарочно на мѣсто выѣзжалъ и вернулся крайне разгнѣванный: Жюно опоздалъ подать помощь Нею, а опоздалъ потому, что въ болотѣ завязъ.
— Сказать между нами, г-нъ лейтенантъ, боюсь я за нашу французскую армію, сильно боюсь. Императоръ нашъ не считается съ здѣшнимъ климатомъ, съ здѣшними дорогами. Наступитъ осень, польютъ дожди, — дороги, и такъ уже плохія, станутъ непроходимыми; а тамъ снѣгъ, лютые морозы….
— Ну, съ этими дикарями мы справимся еще до морозовъ. Армія у насъ громадная — 650.000 при 200.000 коняхъ и 1300 орудіяхъ…
— Но на такую громаду и запасы нужны громадные; а ни провіанта, ни фуража уже не хватаетъ?
— Такъ-то такъ…
— Барклай-де-Толли — лукавый нѣмецъ, нарочно завлекаетъ императора въ глубь страны. Это можетъ окончиться весьма печально!
— Да не самому же императору, великому Наполеону, первому предлагать миръ! Бертье и то уже совѣтовалъ ему начать переговоры.
— А онъ что же?
— „Я не прочь, — говоритъ, — помириться. Но для заключенія мира мало одного, нужны двое“. Теперь же, когда во всѣхъ русскихъ газетахъ напечатано воззваніе царя къ своему народу, — онъ покоя себѣ уже не находитъ; клянетъ и турецкаго султана, что помирился съ царемъ, и короля шведскаго Бернадота, что вступилъ съ нимъ въ союзъ: „О, глупцы, глупцы! они дорого поплатятся за это!“
А я слушаю обоихъ, да на усъ себѣ мотаю: „А вѣдь Барклай-то, пожалуй, и взаправду готовитъ имъ ловушку! Не даромъ говорится, что нѣмецъ обезьяну выдумалъ“.
•••
Августа 10.
Бѣдный, бѣдный мосье Мулине́! Вчера вечеромъ еще докторъ де-ла-Флизъ вышелъ отъ него хмурый-прехмурый. „Плохо!“ думаю. А къ утру аминь: антоновъ огонь! Въ столовой, на томъ самомъ столѣ, за коимъ земляки его намедни пировали, лежалъ онъ въ гробу, съ своимъ орденомъ Почетнаго Легіона на груди, весь въ цвѣтахъ: мы съ Тихонычемъ опустошили для него весь цвѣтникъ въ саду. А лейтенантъ д’Орвиль еще полковую музыку привелъ, чтобы и до могилы проводить его со всѣми „онёрами“. Да будетъ легка тебѣ земля, милый человѣкъ!
•••
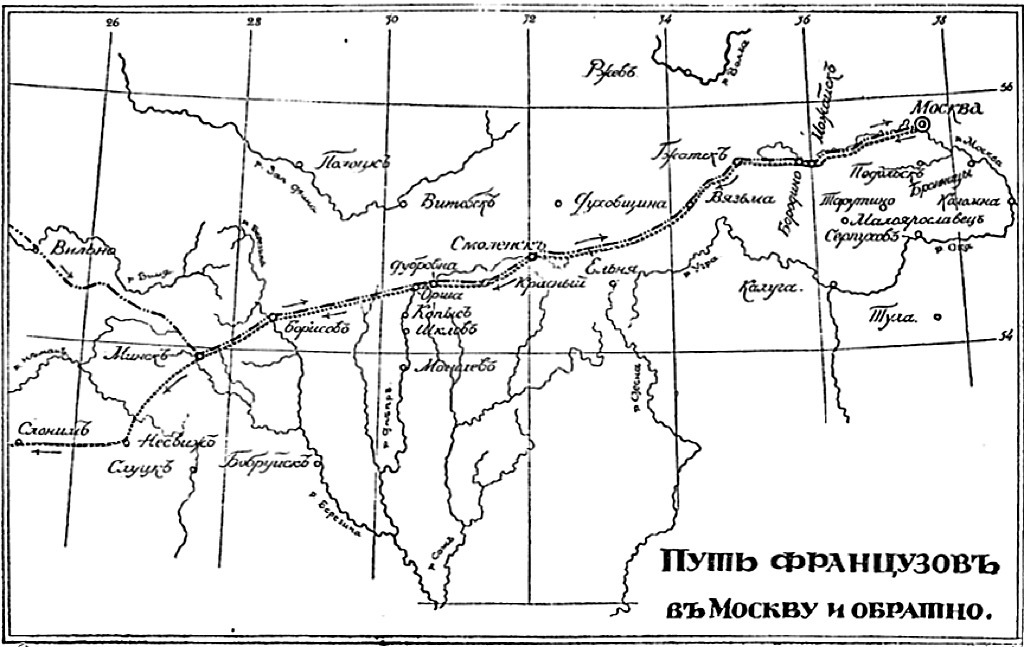
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
На привалѣ, августа 13. Вотъ гдѣ довелось за дневникъ опять приняться! Хоть и сонъ клонитъ, усталъ шибко, а надо-жъ самое важное занести.
Приходитъ ко мнѣ третьяго дня Мушеронъ.
— Ну, пти буржуа, собирайся-ка въ путь-дорогу.
— Куда? — говорю.
— Въ Москву.
— Въ Москву! Вы шутите, г-нъ сержантъ.
— Какія ужъ шутки! Вся гвардія съ самимъ императоромъ сейчасъ выступаетъ. А тебя лейтенантъ беретъ съ собой переводчикомъ.
Вотъ не думалъ, не гадалъ — въ Москву попасть, въ нашъ градъ первопрестольный! Вожделѣнный случай, о коемъ мечталъ и денно, и нощно. Кабы маменька-то про то знала-вѣдала! Да доберемся ли еще? Нѣтъ, русскіе не отдадутъ Москвы-матушки! И куда занесетъ еще меня театръ войны? Быть можетъ, приближаюсь къ вратамъ смертнымъ… Но, пока что, взираю на все равнодушно. Не ратный вѣдь человѣкъ; такъ что̀ можетъ со мною приключиться?
А этакій походъ — дѣло, охъ, куда не легкое! Съ ранняго утра до поздняго вечера все впередъ да впередъ. Днемъ жарища нестерпимая:
— Та же Италія! — жалуются французы. — Хуже Италіи — пекло адское!
Отъ пѣхоты да отъ конскихъ копытъ пыль облакомъ, глаза ѣстъ, въ носъ и глотку забивается. А тебя, безъ вкушенія хлѣба и воды, все впередъ гонятъ:
— Марше́! марше́!
Попадается рѣчка, ручеекъ; промочилъ бы горло, анъ нѣтъ:
— Чего сталъ? Марше́!
Наконецъ-то привалъ, — слава Тебѣ, Господи! Уляжешься въ лѣсу у костра; да лѣса-то все сосновые, болотистые, комариное царство: жужжатъ проклятые, какъ рой пчелиный, кусаются что̀ собаки.
… Не дописалъ, какъ Мушеронъ тетрадь изъ-подъ рукъ вырвалъ:
— Это что̀ у тебя?
— Дневникъ.
— Эге! Г-нъ лейтенантъ!
Подошелъ д’Орвиль:
— А что̀?
— Не угодно ли поглядѣть: нашъ пти буржуа дневникъ ведетъ. Не шпіономъ ли ужъ къ намъ приставленъ?
Разсмѣялся тотъ:
— Да не сами ли мы его съ собой забрали? И что̀ онъ въ нашемъ военномъ дѣлѣ смыслитъ?
— Такъ пускай вамъ прочитаетъ что̀ сейчасъ написалъ.
— Извольте, — говорю; — по-русски прочитать или перевести?
— Само собой, перевести.
Перевелъ я имъ страницу, другую.
— Ну, что, Мушеронъ? — говоритъ лейтенантъ. — Похоже на доносъ шпіона?
— А вотъ пускай-ка съ первой страницы прочитаетъ. Началъ я съ первой страницы про то, какъ мосье Мулине́ совѣтъ мнѣ даетъ дневникъ писать, дабы облегчить сердце. Какъ оба тутъ расхохочутся!
— Пишите себѣ, пишите, молодой человѣкъ, — говоритъ лейтенантъ, — облегчайте свое сердце.
•••
Августа 17. Мы уже за Вязьмой. На каждомъ верстовомъ столбѣ цифры читаемъ: далеко ли еще до Москвы? Насъ, гвардію свою, Наполеонъ бережетъ, не пускаетъ въ огонь. Но авангарду тяжко приходится: дорога наша устлана мертвыми тѣлами, а Дорогобужъ, Вязьма и всѣ деревушки выжжены до тла. По-прежнему, пуще прежняго насъ голодъ-жажда пронимаетъ. Отъ каждаго полка фуражиры по окрестностямъ рыщутъ, но возвращаются рѣдко съ чѣмъ: жители вездѣ разбѣжались, а запасы сожгли или съ собой унесли. Картофель-то хоть не снятъ еще съ полей; такъ солдаты имъ ранцы свои набиваютъ, а потомъ на кострахъ пекутъ, да съ палой кониной уплетаютъ. И я тоже, — въ татарина обратился! Но мясо препротивное: жестко и жилисто. Только сердце да печенка мягче и вкуснѣе. Да намъ-то рѣдко когда перепадетъ: для офицеровъ отбираютъ.
•••
Августа 20. Вотъ мы и въ Гжатскѣ. Живое кладбище! Подобрали здѣсь одного русскаго тяжело-раненаго. Стали его чрезъ меня разспрашивать, вывѣдывать.
А онъ:
— Прибылъ Кутузовъ — бить васъ, французовъ…
— Какъ? что̀? Князь Кутузовъ, сподвижникъ Суворова?
— Онъ самый: смѣнилъ нѣмца Барклая. До Москвы еще расправится съ вами по-суворовски.
Озадачились, призадумались. До Москвы-то вѣдь еще 147 верстъ; задержать сколько разъ можетъ!
•••
Августа 24. По сказанному какъ по писанному: Кутузовъ остановился, загородилъ намъ (сирѣчь, французской арміи) путь къ Москвѣ. Отдѣляютъ насъ отъ русскихъ глубокіе овраги. За оврагами въ долинѣ и кругомъ на высотахъ вся русская армія.
Вдали налѣво бѣлѣетъ сельская церковь: то — село Бородино, занятое тоже русскими. Направо — село Шевардино; передъ нимъ русскими же „редутъ“ возведенъ — крѣпостца со рвомъ и валомъ, а на валу — пушки.
На душѣ у французовъ и радостно, что наконецъ-то можно посчитаться съ русскими, и жутко; бранятъ Кутузова.
— Ишь, чортовъ кумъ, какую позицію выбралъ!
Самъ Наполеонъ не разъ на холмъ въѣзжалъ — въ зрительную трубу обозрѣть будущее поле сраженія; потомъ въ палаткѣ у себя на картѣ обозначалъ расположеніе своихъ и русскихъ войскъ булавками съ разноцвѣтными головками.
…Съ вечера уже началось; но это, говорятъ, только генеральная проба. Дабы лучше выяснить силы русскихъ, Наполеонъ двинулъ черезъ оврагъ колонны пѣхоты на Шевардинскій редутъ. Пущей храбрости ради напоилъ еще допьяна солдатъ. И точно, пошли тѣ храбро съ барабаннымъ боемъ.
Да не тутъ-то было! Огорошили ихъ съ редута картечью, и побѣжали они вспять. Первый блинъ да комомъ. Рѣшили взять редутъ во что бы то ужъ ни стало. Идетъ цѣлый полкъ, потомъ другой, потомъ еще удальцы-поляки, и все тоже: бѣгутъ назадъ! А за бѣгущими вдогонку русскіе кирасиры; ворвались въ польскій лагерь и увезли семь орудій. То-то, чай, осерчалъ Понятовскій! Про Наполеона и говорить нечего.
Стемнѣло. Но оставить дѣла такъ нельзя. Новый штурмъ. И вдругъ — что за притча? Ни единаго выстрѣла. Взлѣзаютъ на редутъ, — ни души. Русскіе въ темнотѣ его очистили! Точно въ насмѣшку: на́ тебѣ, небоже, что̀ намъ ужъ не гоже.
•••
Августа 25. Сегодня погода хмурится. Прохладно. Порой мороситъ. Дабы подбодрить мерзнущихъ, велѣно по всѣмъ полкамъ раздавать водку. Но на всѣхъ, не хватило: обозы нѣкоторыхъ полковъ гдѣ-то застряли.
Сраженія нынче, кажись, еще не будетъ. Была только съ утра слабая перестрѣлка. А теперь въ обоихъ лагеряхъ зловѣщая тишина — тишина передъ бурей. Но и тамъ, и здѣсь готовятся къ бою: роютъ окопы, возводятъ редуты, устанавливаютъ орудія… Вчужѣ дрожь пробираетъ!
Вотъ изъ русскаго лагеря доносится молебное пѣніе.
„Что̀ бы это значило?“ дивятся французы. Не въ домекъ имъ, что люди православные передъ боемъ къ Богу молитву возсылаютъ. Тогда лишь поняли, когда адъютантъ съ холма прискакалъ съ докладомъ, что у „непріятеля“ по всему лагерю, отъ полка къ полку, попы шествуютъ съ хоругвями и иконой, передъ коей солдаты, снявъ кивера, ницъ падаютъ. Не иначе, какъ наша же Смоленская икона Божіей Матери. Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его!
А тутъ, у французовъ, замѣсто того сборъ бьютъ, передъ каждымъ полкомъ читаютъ воззваніе Наполеона:
„Солдаты! Сраженіе близко, котораго вы столь желали. Побѣда зависитъ отъ васъ самихъ. Она дастъ вамъ изобиліе, хорошія зимнія квартиры и скорое возвращеніе на родину. Отличитесь же и здѣсь, какъ отличились при Аустерлицѣ, при Фридландѣ, Витебскѣ, Смоленскѣ, — и самое отдаленное потомство будетъ говорить еще о вашихъ подвигахъ. Да скажутъ о каждомъ изъ васъ: и онъ былъ тоже въ великой битвѣ подъ стѣнами Москвы!“
Послѣ сего воззванія всѣ кругомъ встрепенулись, возликовали. По всему лагерю музыка, пѣсни. Только и слышишь:
— Да здравствуетъ императоръ!
А у меня сердце захолонуло: что̀-то будетъ?.. Неужто въ самомъ дѣлѣ?… Додумать не смѣю…
•••
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Можайскъ, августа 28. Третій день вѣдь ужъ отъ великой баталіи подъ Бородинымъ, коей равной по кровопролитію, говоритъ лейтенантъ д’Орвиль, не запомнятъ въ исторіи ни въ древней, ни въ новой, — а теперь лишь улучилъ минутку взяться за дневникъ. Русскіе опять ретируются, но въ полномъ порядкѣ по собственной же охотѣ. Похвалиться ихъ разгромомъ Наполеонъ отнюдь не можетъ. Благодареніе и хвала Создателю во святой Троицѣ!
Опишу за симъ по́ ряду все, какъ что̀ было.
Въ ночь на 26 число сѣялъ мелкій дождикъ, а къ утру поднялся столь густой туманъ, что русскаго лагеря по ту сторону оврага точно и не бывало. Въ пять часовъ утра Наполеонъ сѣлъ уже на коня и сталъ объѣзжать свои войска, полкъ за полкомъ. Когда же подъѣхалъ къ своей гвардіи, которая, великаго дня ради, разодѣлась какъ на парадъ, туманъ внезапно разсѣялся, и солнце показалось во всемъ своемъ блескѣ. И указалъ онъ на солнце, и воскликнулъ:
— Вотъ солнце Аустерлица!
И, посмотрѣвъ на часы:
— Уже шесть часовъ. Пора начать.
И подалъ знакъ. И грянула ближайшая батарея сигналъ для начала. И потекли безконечнымъ потокомъ черезъ оврагъ къ русскимъ колонны за колоннами, полки за полками. И загрохотали съ батарей французскихъ и русскихъ сотни орудій. И заволокло кругомъ — уже не туманомъ, а пороховымъ дымомъ, — и поле сраженія, и самое солнце на небѣ.
Временами лишь вѣтромъ дымный пологъ отодвинетъ, и видно тогда, какъ русскія батареи съ своихъ высотъ изрыгаютъ непрестанно огонь и дымъ, а по всей равнинѣ идетъ гдѣ ружейный, гдѣ рукопашный бой. Зрѣлище преужасное!
И снова все скроется въ непроглядномъ дыму. Но неумолчный громъ орудій и ружейная трескотня говорятъ о томъ, что тамъ, въ дыму, умираютъ геройскою смертью сотни и тысячи здоровыхъ людей…
Самъ же онъ, виновникъ этого ужаса, не садился верхомъ, а стоялъ на холмѣ въ своей сѣрой походной шинели, наблюдалъ съ вышины за тѣмъ, что̀ затѣялъ, и чихалъ-чихалъ — не то отъ ѣдкаго дыма, не то отъ насморка, который схватилъ въ утреннемъ туманѣ.

Съ картины В. В. Верещагина.
Съ поля сраженія летали къ нему то-и-дѣло адъютанты. Маршалы требовали все новыхъ подкрѣпленій. Но своихъ любимцевъ — старую и молодую гвардію — онъ приберегалъ напослѣдокъ. Тутъ опять адъютантъ отъ Нея — Бога ради, прислать хоть партію гвардейцевъ.
И вотъ, отъ конскаго топота земля дрогнула; дивизія кирасиръ генерала Коленкура въ блестящихъ латахъ мчится ураганомъ подъ гору въ лощину и оттуда въ гору, во главѣ всѣхъ — самъ Коленкуръ. Какъ сшиблись они съ русскими — за дымомъ не было видно. Потомъ ужъ узнали, что первымъ же палъ Коленкуръ: русская пуля пробила ему голову.
— Скоро ли нашъ чередъ? — говорилъ лейтенантъ д’Орвиль.
И самому-то ему не терпѣлось, да и Стелла его, лошадка молодая, горячая, подъ нимъ плясала, въ бой рвалась тоже. Я держалъ ее подъ уздцы.
Какъ вдругъ изъ поднебесной ядро прямо намъ подъ ноги. Я — скачокъ въ сторону, а Стелла — на дыбы. Ядро же шипитъ и кружится по землѣ волчкомъ. Не успѣлъ лейтенантъ отдернуть назадъ лошадку, какъ ядро подкатилось ей подъ заднія ноги, и оба они — и лошадка, и сѣдокъ — кувыркомъ. Господи, помилуй!
Ка́къ лейтенантъ себѣ хребта не переломилъ — для меня до сихъ поръ загадка. Когда ему помогли приподняться, онъ только охнулъ отъ боли.
— Сильно ушиблись? — спрашиваетъ полковникъ.
— На правую ногу ступить не могу: не то сломана, не то вывихнута.
— Благодарите судьбу, мой другъ: по крайней мѣрѣ останетесь живы. Кто изъ насъ прочихъ вернется живымъ — одному Богу извѣстно.
— Да лучше умереть на полѣ битвы, чѣмъ въ лазаретѣ! А моя бѣдная Стелла! Смотрите: одно копыто у нея оторвано!
И на глазахъ у лейтенанта навернулись слезы.
— Да, придется ее пристрѣлить, — говоритъ полковникъ.
— Только, пожалуйста, безъ меня! А теперь дайте мнѣ другую лошадь.
— Нѣтъ, нѣтъ, мой милый; сама судьба, видно, хранитъ васъ. Отправляйтесь-ка въ лазаретъ, вонъ въ тотъ перелѣсокъ.
И, опираясь одной рукой на меня, другой на свою саблю, д’Орвиль заковылялъ къ перелѣску.
— Что̀, очень больно? — спрашиваю его.
Не отвѣчаетъ, только зубы крѣпко стиснулъ.
Доплелись. У опушки лазаретный фургонъ и костеръ съ котломъ. Отъ дерева къ дереву, въ видѣ палатки, протянута засмоленная парусина; на землѣ — свѣжая солома, прямо съ поля сорванная; а на соломѣ — рядами — раненые. Они уже ампутированы, перевязаны и тихо только стонутъ. Зато изъ другой палатки — операціоннаго пункта — доносятся такіе вопли, что кровь въ жилахъ стынетъ.
Мы — туда. У операціонныхъ столовъ баронъ Ларрей и де-ла-Флизъ, засучивъ рукава, орудуютъ. На другомъ концѣ докторъ Бонфисъ съ фельдшеромъ перевязываетъ молодого солдата, у котораго только-что руку по локоть отняли.
— Что̀ у васъ? — спрашиваетъ докторъ моего лейтенанта.
— Переломъ ноги у щиколки или вывихъ, — не знаю.
— Сейчасъ къ вашимъ услугамъ. Вотъ табуретка, — присядьте.
— А гдѣ моя отрѣзанная рука? — говоритъ ампутированный. — Дайте-ка ее сюда.
Фельдшеръ подаетъ; а тотъ беретъ ее у него здоровой рукой, возноситъ надъ головою яко бы побѣдную трофею и восклицаетъ:
— Да здравствуетъ императоръ Наполеонъ!
Такова слѣпая любовь французовъ къ сему бичу рода человѣческаго, околдовавшему ихъ своими злыми чарами!
Фельдшеръ отбираетъ опять у больного отрѣзанную руку и относитъ въ уголъ, гдѣ свалена какая-то кровавая груда. Лейтенанта передергиваетъ.
— Что̀ это, докторъ? Богъ ты мой! Да это все вѣдь руки и ноги?
— Да, „пушечное мясо“, — говоритъ Бонфисъ. — Для него (разумѣй: для Наполеона) мы всѣ вѣдь только пушечное мясо!
Д’Орвилю дѣлается дурно. Бонфисъ велитъ подать ему вина; потомъ, когда тотъ оправился, ощупываетъ у него щиколку.
— Пустяки! — говоритъ. — Простой вывихъ. Я причиню вамъ нѣкоторую боль; но безъ этого, простите, невозможно.
Въ ногѣ лейтенанта что-то хрустнуло; самъ онъ весь поблѣднѣлъ, потомъ покраснѣлъ, но не пикнулъ.
— Вотъ и все, — говоритъ Бонфисъ. — Попробуйте встать… Ну, что̀?
— Да ничего… Чувствительно…
— Но не очень?
— Не очень; сносно.
— Поберечься вамъ все-таки еще нужно. А теперь съ Богомъ — вы за свое дѣло, я за свое.
Мы оба съ лейтенантомъ счастливы выбраться на волю. Но передъ самой палаткой видимъ… кого же? Его Стеллу! На трехъ ногахъ приплелась бѣдняжка за своимъ господиномъ. Узрѣла его — заржала отъ радости.
Прослезился мой лейтенантъ, взялъ въ руки ея голову, поцѣловалъ въ губы.
— Дорогая ты моя! Увы! ни Бонфисъ, ни самъ Ларрей не воротитъ тебѣ твоего копыта. Вы не повѣрите, Андре́, какъ привязываешься къ этакому животному въ походѣ! Вотъ пистолетъ, — пристрѣлите ее… Я самъ не могу…
Но и я отказался. Сдѣлалъ это за насъ носильщикъ, что̀ только-что вмѣстѣ съ другимъ принесъ въ лазаретъ тяжело-раненаго. Легче-раненые тащились одни, волоча за собой ружье.
„А въ лощинѣ, — думаю, — иные, пожалуй, и кровью истекаютъ!“ Сдалъ лейтенанта на руки деньщику, а самъ — въ лощину. Мимо ушей пули, какъ мухи, жужжатъ.
Глядь, такъ и есть: на самомъ откосѣ лежитъ маленькій, безусый еще солдатикъ, рядомъ — барабанъ; значитъ, барабанщикъ. Глаза закатились; еле уже дышитъ. А надъ нимъ на колѣняхъ маркитантка Флорансъ.
— Помогите мнѣ, — говоритъ, — налить ему въ ротъ вина; а то уже не очнется. Тише, тише! Плечо ему раздробило.
Поднимаю я ему осторожно голову. А Флорансъ:
— Іисусъ и Марія! Ай, какъ больно! какъ больно!
И заплакала навзрыдъ: шальной пулей у нея изъ руки фляжку съ виномъ выбило, а самой ей ноготь съ большого пальца снесло.
На счастье проходили опять два носильщика съ пустыми носилками. Уложили на нихъ барабанщика. Флорансъ, все еще всхлипывая, побрела за ними.
Стыдно признаться, но отъ вида ея окровавленнаго пальца у меня самого въ глазахъ потемнѣло Послѣ потоковъ крови въ лазаретѣ это была, такъ-сказать, послѣдняя капля, переполнившая чашу моего мужества.
И теперь, спустя два дня, жутко вспоминать о всѣхъ ранахъ и страданіяхъ, коихъ тогда былъ свидѣтелемъ…
Одного только человѣка ни чуть мнѣ не жалко — самого Наполеона. Слѣдилъ онъ за сраженіемъ издали и не получилъ посему ни царапинки; но душою выстрадалъ едва ли не больше всѣхъ. Весь вѣкъ свой вѣдь воевалъ, все шло какъ по маслу: разъ, два, — и непріятель разбитъ, хватай только, знай, бѣгущихъ. А тутъ нѣтъ! бой длится съ утра до вечера, а непріятель ни съ мѣста; ни единаго даже плѣннаго.
— Ничего, ваше величество, не подѣлаешь, — оправдывался одинъ генералъ: — русскіе стоятъ какъ стѣна…
— Такъ мы ее сокрушимъ!
А самъ, мрачный какъ ночь, ходитъ все взадъ и впередъ, какъ левъ въ клѣткѣ.
— А свою старую гвардію онъ все еще бережетъ! — ропщутъ уже и раненые. — Мы, голодные, изморенные, кровь проливаемъ, жизнью жертвуемъ; а ихъ, дармоѣдовъ, кормятъ и холятъ. Будь у него коробка, онъ уложилъ бы ихъ туда, какъ оловянныхъ солдатиковъ.
Когда совсѣмъ стемнѣло, пальба сама собой прекратилась. По подсчету французовъ, у нихъ сдѣлано было въ этотъ день изъ пушекъ 70.000 выстрѣловъ, а изъ ружей нѣсколько милліоновъ. И русскіе все же не бѣжали и не просили пардону!
Сами французы понимали, что кичиться нечѣмъ. На сей разъ послѣ боя не было уже ни музыки, ни пѣсенъ; даже костровъ не зажигали, словно изъ боязни, что по огнямъ и ночью ихъ будутъ обстрѣливать.
Наполеонъ же, говорятъ, до самой зари на постели съ боку на бокъ безъ сна проворочался и бормоталъ про себя:
— Что за день! что за день!
•••
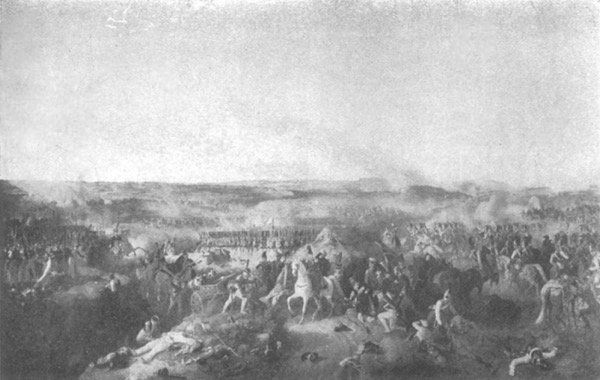
Съ картины П. Гесса.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Можайскъ, августа 29. Чѣмъ кончится кампанія — одному Богу извѣстно; но непріятель самъ весьма не въ хорошемъ положеніи.
На утро, 27-го числа, подъ Бородинымъ всѣ ожидали новаго боя. Анъ нѣтъ. Приходятъ на разсвѣтѣ маршалы въ Наполеонову палатку съ докладомъ, что русскіе, молъ, снялись съ позицій и опять уходятъ. Какъ быть?
А онъ, пуще простуженный, шопотомъ, ибо совсѣмъ осипъ:
— А много ли еще у насъ, господа, людей въ строю?
Стали подсчитывать, — ста тысячъ не досчитались.
— У русскихъ, ваше величество, по меньшей мѣрѣ столько же выбыло изъ строя. У насъ убавилось войска всего на треть, у нихъ — на половину.
— Да раненые не всѣ вѣдь еще подобраны?
— Хирурги наши, не покладая рукъ, всю ночь напролетъ проработали; а въ лазаретъ приносятъ имъ все новыхъ безъ счету.
— А двинемся сейчасъ за русскими, такъ сколько еще прибавится? Пускай уходятъ! Догонимъ.
И такъ-то почти цѣлый день пошелъ на уборку раненыхъ. Своихъ раненыхъ русскіе, уходя, уже подобрали. Однако, здѣсь, въ Можайскѣ, имъ поневолѣ пришлось оставить цѣлую партію ампутированныхъ. Всего жальче мнѣ одного юнкера съ отнятой ногой. Зовутъ его Викторъ Топорковъ. Почти ровесникъ мнѣ и на весь вѣкъ свой уже калѣка! Самъ онъ здоровякъ, проживетъ, конечно, еще долго, и горюетъ только о томъ, что не годенъ ужъ для военной службы. Раздробило ему ногу ниже колѣна въ той самой атакѣ, въ коей его командира, графа Кутайсова, ядромъ съ сѣдла сорвало.
— Тѣла графа такъ и не нашли! — говорилъ со слезами Топорковъ. — А не было ему вѣдь и 30-ти лѣтъ отъ роду! Вотъ и другой нашъ герой — Багратіонъ. Давно ли Державинъ сложилъ про него экспромтъ:
А раненъ тоже на смерть! Но пока живъ и здравъ у насъ Кутузовъ, мы не дрогнемъ.
— Французы и то, — говорю, — дивятся, какъ онъ дерзнулъ дать сраженіе ихъ „великому императору“.
— Далъ онъ сраженіе затѣмъ, слышно, чтобы поднять духъ солдатъ и показать Европѣ, что Наполеонъ намъ не страшенъ. О! однимъ своимъ глазомъ онъ видитъ дальше, чѣмъ Наполеонъ двумя глазами.
— А гдѣ онъ потерялъ другой свой глазъ?
— При штурмѣ Измаила. Турецкая пуля изъ одного виска въ другой проскочила, — случай небывалый!
— И солдаты его любятъ?
— Молятся на него. Когда онъ прибылъ къ намъ въ армію, надъ нимъ, на виду всего войска, воспарилъ орелъ. Кутузовъ снялъ шляпу и перекрестился, а лагерь кругомъ грянулъ: „ура-а-а! ура-а-а!“ Какъ узналъ о томъ Державинъ, тотчасъ воспѣлъ опять:
•••
Привалъ на 52 верстѣ отъ Москвы, августа 31. Вчера поутру мы распростились съ Топорковымъ — распростились какъ родные братья; расплакались оба.
— Нѣтъ у меня ничего, — говоритъ, — чтобы дать тебѣ на память. Да вотъ, возьми мои сапоги: твои изтоптались.
— А ты самъ-то какъ же? — говорю.
— Двухъ ногъ, какъ у тебя, у меня ужъ нѣтъ; на одной здоровой ходить я все равно не могу, пока для больной не будетъ деревяшки; а когда-то ее мнѣ еще изготовятъ! Тебѣ же мои сапоги въ дорогѣ пригодятся. Бери, бери!
И вотъ, благодаря ему, я могу еще слѣдовать за моимъ лейтенантомъ. Забылъ еще отмѣтить, что прежняго полка его и въ поминѣ уже нѣтъ: пока мы съ нимъ тогда подъ Бородинымъ ходили въ лазаретъ, полкъ его былъ въ огнѣ, и вернулось назадъ всего 48 человѣкъ нижнихъ чиновъ съ сержантомъ Мушерономъ. Самъ полковникъ и всѣ офицеры полегли на мѣстѣ. Упокой Господь ихъ души въ селеніяхъ праведныхъ! Отвѣтитъ за нихъ на Страшномъ Судѣ все тотъ же кумиръ ихъ.
Горсть оставшихся въ живыхъ поразсовали по другимъ полкамъ, а самого д’Орвиля, со мной на придачу, взялъ къ себѣ полковникъ Триго.
Русскіе отходятъ къ Москвѣ потихоньку-полегоньку, а мы, не торопясь, во слѣдъ. Были въ авангардѣ два-три жаркихъ дѣла. Мюратовская кавалерія, точно заигрывая, врывается въ тылъ русскихъ; но тѣ не даютъ ей повадки и отстрѣливаются. До Бѣлокаменной всего два перехода. Подъ ея стѣнами французы ожидаютъ рѣшительнаго боя. Но въ первопрестольный градъ свой русскіе навѣрное ужъ ихъ не впустятъ, о, нѣтъ!
•••
Подъ Москвой, сентября 2. Впускаютъ и безъ выстрѣла!
Лейтенантъ д’Орвиль, коего полковникъ Триго взялъ себѣ въ адъютанты, командированъ былъ нынче съ порученіемъ въ авангардъ къ королю Мюрату; а лейтенантъ велѣлъ дать и мнѣ лошадь на случай, что понадоблюсь для переговоровъ съ русскими. Прошлое лѣто Толбухины брали меня сь собой въ деревню; тамъ у нихъ цѣлый табунъ, и мы съ Петей каждый день скакали вперегонку на водопой. Теперь мнѣ это пошло въ прокъ.
Когда мы подъѣхали къ Мюрату, я его уже близко разглядѣлъ: красавецъ-мужчина; завитые въ кольца локоны по плечамъ развѣваются; треуголка съ перьями вся раззолоченная; плащъ — красный и черезъ плечо откинутъ, чтобы виднѣе были звѣзды на груди. Любезно самъ улыбается:
— Что скажете, г-нъ лейтенантъ?
— Такъ и такъ…
Но Мюратъ остановилъ ужъ его рукой:
— Трубятъ! Вѣрно парламентеръ.
И точно: отъ французскаго аванпоста отдѣлился русскій офицеръ въ гусарскомъ ментикѣ; подъѣзжаетъ съ рукой у кивера:
— Честь имѣю рекомендоваться вашему королевскому величеству: штабсъ-ротмистръ Акинфовъ. Присланъ отъ генерала Милорадовича съ письмомъ нашего фельдмаршала, свѣтлѣйшаго князя Кутузова, къ начальнику штаба императора Наполеона, генералу Бертье.
А король въ отвѣтъ, съ отмѣнной вѣжливостью приподнявъ на головѣ свою пышную шляпу:
— Весьма радъ познакомиться, — говоритъ и подаетъ знакъ намъ съ лейтенантомъ и своей свитѣ, чтобы отъѣхали въ сторону.
Такъ разговора ихъ мы и не слышали. Видѣли только, какъ положилъ онъ руку въ замшевой перчаткѣ на шею Акинфовой лошади и принялъ отъ него письмо. Респечаталъ, прочиталъ и кликнулъ своего адъютанта.
— Проводите-ка г-на парламентера къ его императорскому величеству.
Мы съ д’Орвилемъ опять къ нему. Но онъ уже одумался, видно: послалъ другого адъютанта вернуть назадъ Акинфова.
— Желая охранить Москву отъ разгрома, — говоритъ, — я принимаю, такъ и быть, условія генерала Милорадовича. Чтобы дать вашей арміи въ порядкѣ покинуть городъ, мы двинемся туда за вашими казаками такъ тихо, какъ вамъ угодно, но съ тѣмъ, чтобы Москва сегодня же была уже нашей. Сами вы не москвичъ?
— Москвичъ.
— Такъ объявите жителямъ, что они могутъ быть совершенно спокойны. Никакого вреда имъ сдѣлано не будетъ; не будетъ съ нихъ и никакихъ поборовъ. Но жители-то и градоправитель московскій графъ Ростопчинъ еще вѣдь въ Москвѣ?
— Простите, ваше величество, — говоритъ Акинфовъ, — но все это время я былъ въ походѣ, и ни о Москвѣ, ни о Ростопчинѣ ничего мнѣ неизвѣстно.
Тонкій тоже человѣкъ! Мюратъ же не унимался:
— А гдѣ императоръ Александръ?
— Тоже не умѣю сказать.
— Я очень уважаю вашего государя и друженъ съ его братомъ, великимъ княземъ Константиномъ. Весьма жалѣю, что вынужденъ воевать. Тяжелый походъ!
— Мы, ваше величество, — говоритъ тутъ Акинфовъ, — воюемъ за нашу родину и не замѣчаемъ тяготы похода.
Не понравилось, — поморщился.
— Та-акъ… Но почему бы вамъ не заключить мира?
— Ни ваша армія, ни наша еще не разбита, и похвалиться побѣдой ни одна сторона еще не можетъ.
— Пора бы мириться, пора! Могу я предложить вамъ завтракъ?
— Покорно благодарю ваше величество. Но генералъ Милорадовичъ ожидаетъ вашего отвѣта.
— Можете его успокоить, что Москвы мы не тронемъ. Согласился я на его предложеніе единственно изъ личнаго къ нему уваженія.
И Акинфовъ откланялся. Мюратъ во слѣдъ ему пріятно еще улыбался, но какъ только тотъ отъѣхалъ нѣсколько дальше, онъ сердито зафыркалъ:
— Проситъ, вишь, пощадить ихъ раненыхъ и плѣнныхъ, точно мы такіе же варвары, какъ они! Буде же мы не дадимъ имъ всѣмъ выйти спокойно изъ Москвы и станемъ напирать, то они примутъ опять сраженіе, а въ Москвѣ не оставятъ камня на камнѣ!
— Теперь, ваше величество, можетъ быть, выслушаете меня… — говоритъ лейтенантъ д’Орвиль.
— Не къ чему, г-нъ лейтенантъ: разъ Москву отдаютъ намъ безъ боя, то всѣ прежнія распоряженія сами собой отпадаютъ. Я ѣду сейчасъ за приказаніями къ императору.
Самъ Наполеонъ о ту пору былъ еще за нѣсколько верстъ позади на подмосковной дачѣ князя Голицына, гдѣ Мюратъ и засталъ его, говорятъ, за завтракомъ.
Мы тѣмъ временемъ, ни ѣвши, ни пивши, на солнцѣ жарились подъ Поклонной горой, изъ-за коей Москвы видать еще не было.
Только въ два часа дня подъѣхалъ онъ съ своей свитой и конвоемъ — стрѣлками и польскими уланами: ѣдетъ, не спѣша, сытый и довольный такой, на арабскомъ скакунѣ, не въ сѣрой ужъ походной шинелькѣ, а въ новомъ, съ иголочки, синемъ мундирѣ, въ бѣломъ жилетѣ и бѣлыхъ лосинахъ; мундиръ на животѣ разстегнулъ: на радостяхъ позавтракалъ, знать, не въ мѣру плотно.
А авангардъ уже на гребнѣ горы, ликуетъ, бьетъ въ ладоши:
— Москва! Москва!
Забылъ и онъ тутъ свою напущенную важность, погналъ въ гору скакуна. „Восторгъ внезапный умъ плѣнилъ“.
— Наконецъ-то вотъ сей славный городъ! — воскликнулъ. — Да и пора ужъ было…
Какъ настала тутъ наша очередь, — Господи Боже Ты мой! и вправду вѣдь, что за краса неописанная! За равниной, верстахъ въ трехъ отъ насъ, Москва-матушка середи зеленыхъ садовъ пораскинулась, золотыми и всѣхъ цвѣтовъ главами на солнышкѣ какъ жаръ горитъ-играетъ, а межъ тѣхъ садовъ и храмовъ Москва-рѣка голубой лентой вьется-извивается… Глядишь — не наглядишься!
Самъ-то той порой ужъ наглядѣлся; хоть и смотритъ еще въ зрительную трубу, да не на Бѣлокаменную, а по сторонамъ на равнину озирается, по коей собственныя рати его растянулись. Сошелъ съ коня, свѣряетъ видѣнное съ планомъ Москвы, на травѣ передъ нимъ разостланнымъ. Свѣрилъ, садится опять на коня, велитъ дать сигналъ изъ пушки и первый внизъ галопомъ скачетъ; за нимъ — свита.
А войска только и ждали того сигнальнаго выстрѣла. Орудія и конница подъ гору взапуски мчатся, индо земля дрожитъ.
— Бѣглымъ шагомъ маршъ! — командуетъ тутъ и полковникъ Триго своимъ пѣхотинцамъ.
Офицеры хлещутъ своихъ коней. Солдаты, въ полной походной своей аммуниціи, съ ранцами и ружьями, всѣ три версты до города бѣгомъ бѣгутъ, безъ передышки. Бѣгу и я за ними въ столбахъ пыли, среди всеобщаго грохота, топота и гула.
Вотъ и городская застава. Авангардъ уже въ городъ входитъ съ музыкой и барабаннымъ боемъ. Наполеонъ же остановился у воротъ: генералъ-адъютантъ Дюронель посланъ впередъ за депутаціей москвичей съ городскими ключами.
— Ну, и съ хлѣбомъ-солью, — говоритъ д’Орвиль. — Вѣдь вы, русскіе, Андре́, всегда такъ друзей встрѣчаете?
— Друзей встрѣчаемъ, — говорю. — Враговъ — не могу сказать, не слышалъ.
— Да какіе же мы враги? Мы волоска ни на комъ не тронемъ, а порядки введемъ у васъ свои европейскіе.
Однакожъ депутаціи ни съ ключами, ни безъ оныхъ, все что-то нѣтъ. Наконецъ вотъ ѣдетъ назадъ изъ города генералъ Дюронель, ѣдетъ шагомъ, а за нимъ идетъ пѣшкомъ одинъ-единственный обыватель московскій, да и то изъ французовъ, типографщикъ Ламуръ.
— Русскіе, — говоритъ, — ушли изъ города.
— Ушли! Когда?
— Да нѣсколько дней назадъ. Очень ужъ испугались, какъ прослышали, что ваше величество идете на Москву.
— А графъ Ростопчинъ? а власти?
— Ростопчинъ выѣхалъ послѣднимъ 31 августа.
Разумѣлъ москвичъ-французъ 31 число по старому стилю; но Наполеонъ не понялъ и вскипѣлъ.
— Еще до Бородинскаго сраженія? Что за сказки! Болванъ!
И повернулся спиной. Никакъ, вишь, понять не могъ, какъ это его, Наполеона, коего вся Европа трепещетъ, москвичи не принимаютъ съ подобающимъ раболѣпіемъ.
Свита стоитъ кругомъ, воды въ ротъ набравши, шевельнуться не смѣетъ; а онъ, не то растерявшись, не то оконфуженный, ходитъ взадъ да впередъ, перчатки на рукахъ дергаетъ, то сниметъ, то опять одѣнетъ; платокъ достаетъ, въ другой карманъ перекладываетъ — и снова за перчатки… Но рѣшиться на что-нибудь да надо.
— Впередъ! — говоритъ, садится опять верхомъ и ѣдетъ въ городъ.
Ѣдетъ слободой (Дорогомиловской, какъ потомъ сказывали), доѣхалъ до моста. Ведутъ къ нему тутъ снова какихъ-то людей въ нѣмецкомъ платьѣ. Одинъ впередъ выступаетъ.
— Кто такой?
— Книгопродавецъ Рисъ… Мы — изъ здѣшнихъ французовъ.
— Значитъ, мои подданные. Гдѣ Ростопчинъ?
— Выѣхалъ, ваше величество.
— А магистратъ?
— Всѣ выѣхали.
— Кто же остался въ Москвѣ?
— Изъ русскихъ никто; одна чернь.
— Быть не можетъ!
— Клянусь, ваше величество.
Пришлось въ концѣ-концовъ повѣрить. Переѣхалъ еще въ раздумьи мостъ, — и тамъ ни души. Повернулъ назадъ въ Дорогомиловскую слободу, да и заночевалъ въ пустомъ обывательскомъ домѣ.
Понедѣльникъ вѣдь нынче — день тяжелый, недобрый день! Авось, вторникъ будетъ счастливѣе…
Властелинъ полуміра! Хоть и мнишь себя еще таковымъ, а я, плѣнникъ твой безправный, ей-же-ей, не помѣнялся бы теперь съ тобою!
•••

Съ картины В. В. Верещагина.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Москва, сентября 3. Вотъ мы и въ первопрестольной. Устроились. Но какъ! Точно тогда въ Смоленскѣ — на пожарищѣ. Сами еще только, славу Богу, не горимъ.
Загорѣлось въ разныхъ концахъ еще съ вечера. Полагаютъ: поджоги. Кто говоритъ: отъ колодниковъ, коихъ будто бы Ростопчинъ нарочито затѣмъ изъ острога выпустилъ. Кто говоритъ: отъ самихъ домохозяевъ, — не себѣ, дескать, такъ и врагамъ бы не досталось. А кто, — что французскіе же солдаты, на радостяхъ подгулявши, краснаго пѣтуха подпускаютъ. Кто ихъ разберетъ! Въ большихъ городахъ и то вѣдь, что̀ ни день, гдѣ-нибудь да горитъ. Ну, вотъ, и тутъ, за уходомъ домохозяевъ и главнокомандующаго со всей пожарной командой, тушить некому. Загорится, а дальше и поджигать нечего: пламя само собой гулять пошло.
Утро обѣщало день погожій, и въ 11-мъ часу уже совершился наполеоновъ въѣздъ въ Москву. Открывала шествіе старая конная гвардія. За нею онъ самъ верхомъ со свитой, но — смиреніе паче гордости — въ сѣромъ своемъ походномъ хитонѣ посреди золота, звѣздъ и лентъ генералитета. За нимъ церемоніальнымъ маршемъ — любимцы его, гренадеры, въ высокихъ мохнатыхъ шапкахъ, а за гренадерами — молодая гвардія конная и пѣшая. Торжественно, что̀ и говорить, но безъ музыки и барабановъ, словно безъ воинскихъ почестей кого до могилы провожали… Почемъ знать, не хоронили ли и взаправду славу Наполеона?
Проводили его до Кремля, гдѣ дворецъ для него Мюратомъ намѣченъ, а сами затѣмъ разбрелись по городу — искать и для себя пристанища. Для нашего полка въ концѣ-концовъ нашлось таковое въ нѣкоемъ казенномъ зданіи, въ коемъ раньше насъ другой полкъ уже водворился. Поторговался нашъ полковникъ Триго съ чужимъ; уступилъ ему тотъ надворный флигель. Но на всѣхъ офицеровъ помѣщеній не хватило. Собрались тогда капитанъ Ронфляръ и лейтенантъ д’Орвиль на развѣдки; меня да Пипо́, Капитанова деньщика, съ собой тоже прихватили.
Идемъ, по сторонамъ озираемся. Потянулась тутъ каменная ограда съ чугунной узорчатой рѣшеткой, а за рѣшеткой — садъ.
— Дворецъ боярскій — пале́ де бояръ! — говоритъ капитанъ. — Чего лучше?
Вотъ и ворота, тоже чугунныя. За воротами, въ глубинѣ двора, каменныя палаты въ одинъ ярусъ, коли не боярскія, — ибо бояръ на Руси у насъ, сколько я знаю, уже не водится, — то барскія. Ставни, однакожъ, по всему лицу закрыты: сами баре, стало быть, въ отлучкѣ.
Стучимся въ ворота. Изъ подвальнаго окошка высунулась голова бабья въ платкѣ — и опять спряталась.
— Ну-ка, Пипо́, — говоритъ капитанъ, — полѣзай и отвори ворота.
Пипо́, шустрый малый, мигомъ на ограду, съ ограды на рѣшетку, а съ рѣшетки во дворъ; впустилъ насъ.
Тутъ, хошь не хошь, выползли изъ своей конуры старикъ-дворникъ съ своей старухой.
— Здорово, старче, — говорю. — Принимай гостей. Вѣдь ты, чай, дворникъ?
Оглядѣлъ насъ звѣремъ исподлобья, какъ дикихъ звѣрей.
— Старшой, — говоритъ. — Да вамъ чего?
— Господъ твоихъ вѣдь нѣтъ въ Москвѣ. Домъ свободенъ; такъ вотъ прими-ка на постой господъ офицеровъ. Французы — народъ не лихой, даромъ никого не обидятъ.
— Да ты самъ-то, любезный, кто будешь? Говоришь по-нашему, по-россейскому.
Сказалъ ему. Почесалъ онъ затылокъ, сталъ потихоньку совѣщаться съ женой.
— Да что, Терентій, — говоритъ старуха. — Все же какъ никакъ офицеры; грабить не станутъ. А не впустимъ, такъ силой вломятся.
Впустили. Обошли мы весь домъ: раздолье, по истинѣ барское жилье. Полъ — паркетъ, обои — съ пукетами, потолки — лѣпные съ амурами, мебель — гдѣ шелковая, гдѣ рѣзная дубовая, — роскошь, да и только!
Въ одной комнатѣ посреди пола огромные узлы съ перинами и подушками, въ другой — заколоченные ящики.
— Что̀, — спрашиваю, — въ ящикахъ?
— Въ ящикахъ-то?… — говоритъ Терентій: — одна блажь господская!
— Какая блажь?
— Да картины. Со стѣнъ, вишь, сняли, чтобы въ деревню увезти, да подводъ не хватило; на моемъ попеченіи и оставили.
— Картины? — говоритъ капитанъ Ронфляръ. — Любопытно посмотрѣть, какая такая живопись московская.
Велѣлъ старику подать топоръ и клещи; раскупорили одинъ ящикъ, вынули картину, другую, третью, — все масляныя. Глядитъ капитанъ и руками разводитъ:
— Милль тоннеръ! Тысячу громовъ! Вы, д’Орвиль, вѣдь парижанинъ?
— Парижанинъ.
— Бывали, конечно, въ Луврѣ?
— Какъ не бывать! Такой картинной галлереи въ цѣломъ мірѣ нѣтъ.
— Такъ смотрите же: вѣдь это настоящій…
Онъ назвалъ какого-то иностраннаго живописца, должно быть знаменитаго, но коего имени я никогда не слыхалъ.
— А это такой-то, — говоритъ д’Орвиль и другое имя называетъ. — Ему цѣны нѣтъ! Знаете, г-нъ капитанъ, я взялъ бы себѣ эту штуку: такія картины — лучшее украшеніе.
— Погодите, — говоритъ капитанъ. — Можетъ, найдется еще что̀ получше.
Всѣ ящики раскупорили, отложили себѣ каждый по три, по четыре картины.
— А рамы гдѣ же?
— На чердакъ снесены, — говоритъ Терентій.
— И пускай. Надо жъ что-нибудь и хозяевамъ оставить!
— Простите, господа, — говорю я тутъ. — Но вы берете себѣ чужія вещи, не спросясь хозяевъ…
Разсмѣялся мнѣ въ лицо капитанъ, потрепалъ меня по плечу.
— Военная добыча, мой другъ. На войнѣ какъ на войнѣ! А ля герръ комъ а ля герръ! Ну-съ, а теперь спросите: чѣмъ онъ насъ накормитъ?
Съѣстного у дворника нашлось только — черный хлѣбъ, огурцы, лукъ да квасъ. Капитанъ кислую рожу скорчилъ.
— Ну, это кушанье для свиней!
И досталъ изъ бумажника радужную ассигнацію.
— Вотъ, Пипо́, сто рублей. Пойдешь съ Андре́ и этимъ мужикомъ, закупишь провизіи.
Пошли мы. Въ воздухѣ еще пуще дымомъ и гарью пахнетъ. Одинъ домъ весь въ пламени. Изъ сосѣднихъ образа выносятъ, передъ дверьми ставятъ.
Добрались такъ до Гостинаго двора. Москательный рядъ полымемъ уже пылаетъ.
— Скипидаръ, сало, масла всякія, — говоритъ дворникъ Терентій: — искру брось — костеръ готовъ.
До суровскаго ряда огонь еще не добрался. Но французскіе солдаты по лавкамъ рыщутъ, цѣлыми грудами товаръ выносятъ: шелкъ и бархатъ, мѣха цѣнные, галантереи… Купцы-хозяева съ прикащиками тутъ же стоятъ, не препятствуютъ: самихъ ихъ вѣдь еще, чего добраго, пристукнутъ.
—Мародеры! — говоритъ Пипо́: — отъ нихъ не убережешься. Мы-то беремъ все на чистыя деньги.
Гдѣ бакалейный рядъ — и спрашивать нечего, по мародерамъ видно: кто тащитъ сахарную голову, банку съ вареньемъ и аршинную колбасу, кто — окорокъ и цѣлый балыкъ: самъ еще что-то жуетъ да причмокиваетъ.
— Тутъ все, кажись, найдемъ, что требуется, — говоритъ Пипо́.
Вошелъ въ лавку, отобралъ всякую всячину, подаетъ хозяину свою сторублевку. Принялъ тотъ, сталъ разглядывать, на свѣтъ посмотрѣлъ, понюхалъ и головой замоталъ:
— Фальшивая, — говоритъ.
— Какъ, — говорю, — фальшивая! Съ чего ты это взялъ?
— Да какъ же, говоритъ: — рисунокъ и буквы гуще, чѣмъ на настоящихъ, а подписи не отъ руки сдѣланы, — тоже отпечатаны.
— Слышите, Пипо́? — говорю. — Ассигнація-то фальшивая.
Обидѣлся.
— Вотъ на! Самъ императоръ Наполеонъ ихъ на милліоны отпечаталъ и еще въ Польшѣ черезъ жидовъ въ оборотъ пустилъ. Вездѣ ихъ за настоящія принимали. У маршала Бертье и доски-то для отпечатанія съ собой взяты. Работа навѣрно куда чище вашей — французская работа!
— Давай ужъ сюда! — говоритъ купецъ. — Забирай чего хочешь: все равно расхитятъ.
•••
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Сентября 4. Наполеонъ уже за городомъ въ Петровскомъ дворцѣ. Ночь провелъ еще въ Кремлѣ, но свѣтъ отъ горящей Москвы билъ въ окна и не давалъ ему спать. Не разъ онъ вскакивалъ съ ложа, выходилъ на балконъ, съ коего, какъ на ладони, виденъ былъ весь пожаръ, и брюзжалъ на „дикихъ скиѳовъ“, что̀ собственное свое добро сжигаютъ и армію его лишаютъ „обѣщанной награды“. Когда же поутру камердинеръ-мамелюкъ Рустамъ второпяхъ ему лѣвый сапогъ на правую ногу подалъ, онъ въ сердцахъ пнулъ разиню ногою въ грудь, такъ что тотъ упалъ и затылкомъ ударился объ полъ. Такъ по крайней мѣрѣ разсказывалъ Пипо́, который успѣлъ уже въ Кремль сбѣгать.
Нашъ домъ, слава Богу, каменный, стоитъ въ глубинѣ двора и окруженъ еще садомъ; значитъ, надо полагать, уцѣлѣетъ. Но кругомъ, куда ни оглянись, огонь и дымъ; горитъ Москва, горитъ со всѣхъ сторонъ! Отъ палящаго жара поднялся вѣтеръ не вѣтеръ — ураганъ; горящія головни переноситъ, какъ пухъ, черезъ дома въ сосѣдніе кварталы.
Послали насъ съ Пипо́ опять въ Гостиный дворъ за провизіей. На улицѣ мы схватились другъ за дружку, а то отъ бури и на ногахъ бы не устоять. Сверху же дождь огненный сыплется.
Въ Гостиномъ отъ всѣхъ лавокъ ничевохонько уже не осталось. Мы — назадъ. Анъ огонь намъ обратный путь уже отрѣзалъ. Пришлось пробираться закоулками, да и тамъ отъ искръ не уберечься. А мародеры не унываютъ: въ дома врываются, погреба и склады винные разбиваютъ, изъ-за добычи межъ собой, что̀ голодные волки, грызутся.
На нашихъ глазахъ три гвардейца на двухъ армейцевъ накинулись, силой у нихъ награбленное отнимаютъ. Тѣ отбиваются:
— Такіе вы, сякіе, очумѣли, что ли? И на вашъ пай всякаго товару хватитъ.
А гвардейцы:
— Да вы кто такіе?
— Мы изъ корпуса маршала Нея…
— Эвона, а туда же лѣзете! Не знаете, что-ль, приказа — очередь соблюдать: первый день старой гвардіи данъ, второй — намъ, молодой, третій — корпусу Даву; ваша очередь когда-то еще придетъ!
— Ну, идемъ, Андре́, — говоритъ Пипо́: стыдно, знать, за своихъ земляковъ стало.
— Хорошъ, — говорю, — и Наполеонъ вашъ, нечего сказать: особымъ еще приказомъ грабить разрѣшаетъ!
Какъ окрысится тутъ на меня мой французикъ:
— Одно слово еще противъ нашего императора, — донесу по начальству, и нѣтъ тебѣ пардону!
— Ну, ну, ладно, — говорю, — не буду. Человѣкъ я не военный, порядковъ вашихъ не знаю.
— То-то, — говоритъ. — На первый разъ, такъ и быть, не донесу.
— Но вѣдь давно ли, — говорю, — грабителей у васъ разстрѣливали?
— Простыхъ грабителей, да; ну, а здѣсь… Видѣлъ вѣдь ты, на что̀ эти армейцы похожи: чучела гороховыя, въ однихъ лохмотьяхъ ходятъ. Надо жъ имъ обмундироваться. Берутъ товаръ на мундиръ, а кстати ужъ…
„Да у васъ-то, гвардейцевъ, мундиры еще цѣлы,“ хотѣлось мнѣ сказать, но воздержался.
Такъ какъ мы съ Пипо́ ничего съѣдобнаго не промыслили, то капитанъ Ронфляръ и лейтенантъ д’Орвиль отправились къ своему полковому командиру; Пипо́ — за своимъ капитаномъ. А я къ Терентію и его Акулинѣ:
— Нѣтъ ли у васъ чего хоть для меня? Со вчерашняго во рту маковой росинки не было.
Сжалобилась старуха.
— Ишь ты, — говоритъ, — проголодался тоже! У сосѣдей давеча мучицы выпросила, хлѣбецъ испекла. Садись ужъ, подѣлимся; гость будешь. Да самъ-то ты, скажи, какъ къ этимъ басурманамъ присталъ?
Повѣдалъ я имъ, назвалъ Толбухиныхъ.
— Какіе то Толбухины? — говоритъ Терентій. — Самого-то не Аристархомъ ли Петровичемъ звать, а дочку Варварой Аристарховной?
— Они самые, — говорю. — Да вы-то откуда про нихъ знаете?
— Намъ ли не знать! — говоритъ Акулина. — Цѣлый мѣсяцъ у насъ зимой прогостили. Да и зима-то вся какая шальная выдалась! Молодежи этой у насъ что̀ перебывало! А все больше, я чай, изъ-за нея же, изъ-за Варюши Толбухиной. И нашему молодому барину краса дѣвичья по сердцу ударила.
Оборвалъ тутъ мужъ болтунью:
— Молчи, старая, помалкивай! Не наше съ тобой дѣло.
— Молчу ужъ, молчу. О чемъ, бишь, рѣчь-то была? Да! о зимѣ прошедшей. Что́ ни день, то гдѣ-нибудь либо плясъ, либо такъ — музыка да карты. По воскреснымъ днямъ у Архаровыхъ, по вторникамъ у насъ, по по четвергамъ у графа Разумовскаго, по пятницамъ у Апраксина. А въ прочіе дни то во французскомъ кіятрѣ, то въ балетѣ. Николи еще на Москвѣ такого веселія не бывало, совсѣмъ, поди, вскружилася!
— А теперь вотъ и расплачиваемся! — вздыхаетъ Терентій. — Прогнѣвили, знать, Господа! Полгода вѣдь, съ августа по январь мѣсяцъ, звѣзда хвостатая на небѣ знаменіемъ стояла. А барамъ нашимъ московскимъ хошь бы что̀; не въ домекъ, что за грѣхи ихъ бѣда впереди неминучая!
Сталъ я было объяснять старикамъ, что таковыя кометы не въ одной Москвѣ видимы, а по всей Россіи, да и по всему земному шару; что, стало быть, ей, кометѣ, до грѣховъ московскихъ баръ никакого касательства нѣтъ.
Не дослушали, оба на меня какъ напустятся:
— Да ты — еретикъ, что ли? А еще поповичъ! Наши господа тоже этакъ до послѣдняго дня въ знаменіе небесное вѣрить не хотѣли; вѣрили въ одного только графа Ростопчина, что̀ москвичей обнадеживалъ, по стѣнамъ объявленія расклеивалъ: „Православные, будьте покойны! Кровь нашихъ проливается за спасеніе отечества. Богъ укрѣпитъ силы наши, и злодѣй положитъ кости свои въ землѣ Руссхой.“ А самъ же, главнокомандующій, на-ка, поди, струсилъ, тихомолкомъ тягу далъ. Узнали мы о томъ только на другое утро, 1-го числа. Ужъ какъ старый баринъ-то осерчалъ — и сказать нельзя! Тотчасъ коляску запрячь велѣлъ, и съ барыней да съ барышней въ деревню. Только шкатулку съ деньгами да съ драгоцѣнностями въ коляску взяли.
— А все прочее на васъ здѣсь оставили?
— Нѣтъ, къ вечеру изъ деревни десять подводъ прислали. Нагрузили мы ихъ до-верху, да на грѣхъ молодой баринъ съ полкомъ своимъ прибылъ…
Тутъ Акулина перебила мужа:
— Полно тебѣ, Терентій, Бога гнѣвить! Не на грѣхъ Господь его прислалъ, а на счастье. „Богатство, — говоритъ, — дѣло наживное. Долой все съ возовъ!“ Сняли, а на мѣсто того раненыхъ солдатиковъ положили, чтобы въ руки, значитъ, непріятелю не достались. Прислуга господская, что̀ на возахъ было разсѣлась, сзади пѣшкомъ побрела.
— Такъ что изъ вещей, — говорю, — на тѣхъ подводахъ ничего и не увезли?
— Ничевошеньки. Спрашиваемъ еще у молодого барина: что̀ же съ вещами-то? „Уберите, — говоритъ, — куда знаете.“ А куда намъ, старымъ людямъ, всю ту уйму убрать? И то надорвалась, Терентію помогаючи, еле ноги волочу.
— Значитъ, кромѣ картинъ, пуховиковъ и подушекъ, было еще многое другое. Куда же вы все такъ ловко убрали?
Огорошилъ я ихъ. Акулина глядитъ на мужа, мужъ на нее; бормочетъ:
— Ужъ этотъ языкъ бабій!..
…А вещи-то отыскались. Надворныя постройки при казенномъ домѣ, гдѣ остановился полковникъ Триго съ другими офицерами, были деревянныя; нынче онѣ тоже сгорѣли; сгорѣла и конюшня, гдѣ стояли лошади офицерскія. Лошадей едва вывели изъ огня и поставили въ здѣшнюю конюшню. А какъ деньщики офицеровъ ходятъ и за ихъ лошадьми, то за лошадьми и деньщиками переселились къ намъ и сами офицеры, — благо и помѣщенія, и перинъ на всѣхъ хватаетъ.
Пошли они гулять по саду. А тамъ, за оранжереей, подъ старымъ дубомъ земля ногами затоптана; около и заступъ неубранный лежитъ.
— Ужъ не кладъ ли, — говорятъ, — зарытъ?
Кликнули деньщиковъ, велѣли рыть. Та́къ вѣдь и есть: сундукъ!
Вынули изъ ямы, сорвали крышку. Анъ въ сундукѣ-то шуба медвѣжья, шинель въ бобрахъ, два салопа женскихъ: одинъ лисій, другой на соболѣ.
— Эге! — говорятъ. — На зиму намъ тоже службу сослужатъ. Рой дальше!
Вырыли еще два сундука, но въ тѣхъ одни лишь наряды женскіе.
— Ну, что жъ, не намъ самимъ, такъ маркитанткамъ нашимъ пригодятся. Вина вотъ только, жаль, не нашлося!
А недолго погодя бѣжитъ Пипо́, въ каждой рукѣ по бутылкѣ.
— Г-нъ капитанъ! г-нъ капитанъ! а вино-то нашлося!
— О!
— Точно такъ.
— Гдѣ жъ это?
— Да въ саду же, на днѣ пруда. Повели мы лошадей купать, чтобы остыли послѣ огня; а одна въ водѣ обо что-то чуть ногъ не переломала. Полѣзли сами въ воду; анъ тамъ сундукъ. Вытащили на берегъ, а-въ сундукѣ-то цѣлый винный погребъ!
— А что, господа, — говоритъ тутъ капитанъ Ронфляръ, — нѣтъ ли въ прудѣ и другихъ сокровищъ? Пойдемте, посмотримъ.
Пошли, приказали деньщикамъ еще въ прудѣ поискать. Нащупали тѣ и второй сундукъ, и третій, и четвертый. А въ сундукахъ и то сокровища оказались — все, чего раньше въ домѣ не досчитались: серебро столовое, посуда мѣдная, хрустали и фарфоръ, люстры и канделябры золоченые, часы каминные, приборы чернильные…
Какъ возликуютъ тутъ всѣ „военной добычѣ“! Что̀ поцѣннѣе да по пригляднѣй — господа офицеры по рукамъ разобрали; остальное деньщикамъ предоставили.
Мнѣ тоже нѣкую фарфоровую фигурку предложили. „Бисквитъ“, говорятъ. Но я, понятно, отвергъ.
А Терентій съ Акулиной только охаютъ, глаза утираютъ: втунѣ были всѣ ихъ старанія укрыть господское добро отъ злодѣевъ!
•••
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Сентября 5. Москва все еще горитъ — горитъ! По инымъ кварталамъ и шагу не сдѣлать: море огненное. По другимъ улицы домашнимъ скарбомъ запрудило, что̀ жильцы или грабители изъ оконъ выбросили, да такъ и лежать оставили. А грабежъ все преумножается. Повыползла изъ своихъ норъ и логовищъ вся голытьба московская, всякіе лихіе люди, по пожарищу шатаются, изъ горящихъ домовъ послѣднее выволакиваютъ. А „очередные“ мародеры французскіе, сборная армейщина: виртембержцы, австрійцы, иллирійцы, кроаты, далматы (имена же ихъ, Господи, вѣси!) съ тѣми шатунами изъ-за добычи дерутся, изъ рукъ ее другъ у дружки вырываютъ.
Сами французы, Пипо́ и пріятель его Фортюне́, съ коими меня за провіантомъ отряжаютъ, весьма возмущаются.
— Безобразіе! — говорятъ. — Бери, что̀ самою судьбою тебѣ послано, чему нѣтъ хозяина, но и другимъ не препятствуй.
— А ужъ это чортъ знаетъ что̀ такое! — восклицаетъ тутъ Пипо́. — Вотъ мерзавецъ-то! Объ закладъ побьюсь, что изъ этой проклятой нѣмчуры, виртембержцевъ.
Гляжу я и наипаче возмутился: здоровенный солдатъ, косая сажень въ плечахъ, на русскаго мужичка мѣшокъ съ награбленнымъ добромъ навалилъ, да кнутомъ его еще, какъ лѣнивую клячу, похлестываетъ.
— Стой! — кричитъ Пипо́.
Тотъ, будто не слыша, кнутомъ щелкаетъ, на мужичка покрикиваетъ.
— Стой, баранья голова! — еще громче кричитъ Пипо́. — Изъ какой націи будешь?
Мародеръ ломанымъ французскимъ языкомъ въ отвѣтъ бурчитъ:
— Не твое дѣло!
— Ну, такъ и есть: виртембержецъ! — говоритъ Пипо́.
Задержалъ мужиченка, да всю ношу со спины его на мостовую свалилъ.
Крѣпко разругался виртембержецъ — уже по-своему, по-нѣмецки. А Пипо́ кнутъ у него выхватилъ, замахнулся:
— Забирай свой товаръ и проваливай! А не то…
Видитъ тотъ, что одному ему съ нами четырьмя не управиться, навьючилъ на себя мѣшокъ и поплелся вонъ; а мужичекъ въ ноги Пипо́ кланяется:
— Дай Господи тебѣ доброе здоровье, милый человѣкъ, а по смерти царство небесное!
Усмѣхнулся Пипо́, отдалъ кнутъ мужичку, и пошли они съ Фортюне́ своей дорогой. Я же, поотставши, спрашиваю мужичка, какъ онъ къ тому живодеру въ кабалу попалъ. А онъ:
— Да ты самъ-то нешто тоже нашъ братъ русскій будешь, не французъ?
— Какой ужъ французъ! — говорю. — Забрали они меня съ собой еще изъ Смоленска, чтобы языкомъ имъ служилъ.
— Такъ, такъ, — говоритъ. — А почто жъ ты отъ нихъ не уйдешь?
— Куда я пойду?
— Куда! Къ нашимъ. Хошь бы сейчасъ вотъ; про тебя никакъ забыли.
Оглянулся кругомъ; и вправду вѣдь: оба мои спутника либо за уголъ завернули, либо въ домъ какой вошли, — какъ въ воду канули,
— Мнѣ одному, — говорю, — за городъ все равно не выбраться: ни одной улицы въ Москвѣ не знаю.
— Такъ иди со мной. Проведу тебя закоулками.
И повелъ онъ меня закоулками, самъ про бѣду свою душу отводитъ. Посланцы бонапартовы, коммисарами себя именующіе, рыщутъ, говоритъ, по окрестнымъ деревнямъ, крестьянъ подбиваютъ: „везите, молъ, все что̀ ни есть на базаръ въ Москву: мигомъ раскупимъ на чистыя деньги“. Повѣрили тѣ сдуру, повезли: кто молоко, картофель, рѣпу, кто овесъ да сѣно. Французы все, точно, живо по рукамъ расхватали, да только денегъ-то отъ нихъ рѣдко кто видѣлъ. Ну, крестьяне и возить уже закаялись; калачемъ ихъ въ городъ больше не заманишь.
— А самого-то тебя, — говорю, — какимъ калачемъ заманили?
— Лукавый попуталъ! Коммисаръ, вишь, одинъ, изъ полячковъ, подвернулся: „Для конной, молъ, гвардіи самого императора французскаго сѣно требуется. У императора денежки вѣрныя.“ И цѣлковый-рубль мнѣ задаткомъ въ руку. Польстился, грѣшный человѣкъ, сѣна возъ выше крыши нагрузилъ, повезъ къ ихъ императору. Подъѣзжаю къ церкви Спаса на Бору, а врата церковныя настежь. „Въѣзжай“, — говоритъ. — „Какъ! — говорю. — Чтобы съ лошадью да возомъ въ храмъ Божій? Креста на тебѣ нѣтъ!“ Выскочили тутъ другіе, оттолкнули меня, въ шею еще наклали, сами возъ въ церковь провезли. Складъ у нихъ тамъ всякаго лошадинаго корма: цѣлый притворъ заваленъ.
Слушаю я мужиченка — ушамъ не вѣрю.
— Ну, а телѣга твоя гдѣ же? а лошадь?
— За упрямство мое отняли; только кнутъ вотъ, какъ на смѣхъ, оставили: „Куда намъ такой кнутишка!“ Иду я по улицѣ, плачу. Анъ навстрѣчу тотъ разбойникъ съ мѣшкомъ, самого меня въ коня обернулъ, моимъ же кнутомъ подгоняетъ. Ужъ эта распроклятая орда! Лишь бы только нашъ царь-батюшка (дай Богъ ему долгаго царствованія!) не мирился съ ихъ Бонапартомъ. Войска своего у него хоть и тысячи тысячъ, да всѣ мы на супостатовъ ополчимся, никому пощады не дадимъ.
„Все сіе, — думаю про себя, — въ дневникъ свой для Варвары Аристарховны занесу“.
Тутъ вдругъ въ голову мнѣ ударило: „А вѣдь дневникъ-то у меня дома въ ящикѣ стола оставленъ! Ну, да дѣлать нечего. Другого случая такого опять не дождешься“…
И пошелъ съ мужичкомъ. Проходимъ мимо обгорѣлаго дома. А изъ подвала вопли дѣтскіе:
— Мама, мама! хлѣбца, корочку хлѣбца!
Заглянулъ я въ разбитое оконце; а тамъ женщина, еще не старая, но однѣ кости да кожа, а вокругъ дѣтишки малъ мала меньше. Увидала насъ, испугалася:
— Ой, не замайте! Погорѣльцы мы, нищіе; сами третій день голодаемъ.
— Помочь малышамъ самъ Богъ велитъ, — говорю я мужичку. — Гдѣ бы раздобыть для нихъ чего-нибудь съѣстного?
Услышала меня та женщина, взмолилася:
— Помогите, люди добрые! Господь наградитъ васъ!
— Сейчасъ пойдемъ, поищемъ, — говорю ей. — Потерпи маленько.
— Ну, нѣтъ, прости, соколикъ, — говоритъ тутъ мужиченка, — въ такомъ разѣ я тебѣ ужъ не товарищъ. Мнѣ бы поскорѣе до деревни моей добраться.
Сказалъ и одинъ впередъ пошелъ. А я стою и самъ не знаю, гдѣ что искать-то: кругомъ — пожарище, остовы печей и трубъ. Но взялся за гужъ — не говори, что не дюжъ.
Вонъ каменный домъ съ колоннами; видно, барскій. Но крыши нѣтъ; однѣ голыя стѣны, а окна, безъ рамъ и стеколъ, зіяютъ, что̀ вытекшіе глаза у слѣпца. У Толбухиныхъ въ Смоленскѣ погребъ былъ, однакожъ, подъ сводами, на случай пожара, чтобы огню не проникнуть. Можетъ, и здѣсь тоже.
Влѣзъ внутрь дома, перебираюсь черезъ груду кирпичей. Такъ и есть: за грудой — подъемная дверь съ кольцомъ. Берусь за кольцо, а дверь сама собой уже поднимается; изъ-подъ двери же голова полуобритая высовывается, образина богомерзкая, эѳіопская.
Не успѣлъ я и ахнуть, какъ эѳіопъ меня за ноги, въ подвалъ за собой втащилъ, и дверь сверху опять захлопнулась.
Самъ я на полу лежу, а онъ верхомъ на мнѣ сидитъ, рукою горло мнѣ сдавилъ, что̀ желѣзными тисками.
— Ты его еще задушишь, Мирошка! — говоритъ ему кто-то. — Пусти его: все равно не убѣжитъ.
Пустилъ тотъ меня.
— Вставай, ну!
Всталъ я, духъ перевожу, кругомъ озираюсь.
По серединѣ подвала столъ; на столѣ въ пустыхъ бутылкахъ восковыя свѣчи церковныя горятъ. Полъ рогожами устланъ; на рогожахъ же горы всякаго добра: одежда дорогая, матеріи шелковыя кусками цѣлыми; посуда золотая и серебряная, утварь церковная, оклады образовъ въ драгоцѣнныхъ каменьяхъ. По одной стѣнѣ — рядами кадки и кадушки, по другой — банки и бутылки: на третьей ружья и сабли развѣшаны, а по четвертой пуховики разостланы, да на тѣхъ пуховикахъ человѣкъ шесть или семь такихъ же полуобритыхъ молодцовъ развалилось.
„Острожники! Знать, конецъ мнѣ пришелъ!“ — Молитву про себя творю.
А они совѣтъ промежъ себя держатъ, что̀ дѣлать со мной, рабомъ Божьимъ.
— Выпустите меня, братцы! — говорю. — Вѣдь и васъ Ростопчинъ тоже изъ тюрьмы выпустилъ.
— Ишь, щенокъ, догадался, съ кѣмъ судьба свела! — смѣется одинъ.
— Не токмо онъ насъ выпустилъ, — говоритъ другой, — а и оружіемъ всякимъ изъ Оружейной Палаты противъ Бонапарта снабдилъ. И постарались же мы для него! сколько ихняго брата на тотъ свѣтъ спровадили!
— Да и себя не забыли, — говоритъ третій. — Покойникамъ вѣчный покой, а живымъ хлѣбъ да соль… да еще злата, серебра и скатна жемчуга впридачу!
Хохочетъ тоже, и товарищи кругомъ „ха-ха-ха!“
— Ну, а ты самъ-то что за гусь? — говоритъ мнѣ Мирошка. — Зачѣмъ къ намъ сюда пожаловалъ?
Разсказалъ я имъ тутъ про тѣхъ дѣтишекъ голодныхъ, ради коихъ ненарокомъ къ нимъ забрелъ.
— А что вѣдь, ребята, — говоритъ одинъ, — дѣтскія молитвы къ Богу доходчивы; въ каторгѣ ли вѣкъ свой покончимъ, на поселеньѣ ли въ сибирской тайгѣ, — коли голодныхъ теперь накормимъ, такъ малость нашихъ грѣховъ намъ, можетъ, и отпустится.
— И то правда, — говоритъ Мирошка. — Но буде ты, пострѣлъ, дорогу къ намъ другимъ укажешь, такъ я тебя вотъ чѣмъ угощу!
Да длиннѣйшій ножъ изъ-за пазухи вынулъ, — индо морозъ по спинѣ у меня пробѣжалъ.
— Кому я укажу? — говорю. — Самъ я въ бѣгахъ, въ плѣну у французовъ донынѣ пребывалъ.
Повѣрили.
— Ладно, — говоритъ Мирошка. — Чего жъ тебѣ дать для тѣхъ дѣтокъ? варенья банку, что ли?
— Вареньемъ, — говорю, — не насытятся. Имъ бы хоть черстваго хлѣба.
— Ну, хлѣба у насъ у самихъ ни свѣжаго, ни черстваго нѣту; по всей Москвѣ не допросишься. А вотъ, изволь, коврижки медовыя…
— Коврижки тоже не больно сытны, — говоритъ другой. — Пожертвуемъ-ка и окорокъ.
— А варенье младенцамъ на закуску, — говоритъ третій: — полакомятся — насъ добромъ помянутъ.
Сложили мнѣ все въ кулекъ, да и выпустили меня опять съ миромъ на свѣтъ Божій. Смилуйся же надъ ними тоже, Господи, и просвѣти ихъ!
Отнесъ я кулекъ къ голодающимъ, сунулъ въ разбитое оконце: „Вкушайте на здоровье!“ — и былъ таковъ.
А дома меня ужъ хватились; сказалъ, что заблудился.
— Хорошо, хорошо, — говоритъ лейтенантъ д’Ор-виль. — Скажи-ка: ты вѣдь нашу французскую грамоту разбираешь?
— Разбираю, — говорю.
— Въ корридорѣ тутъ цѣлая библіотека; есть и французскія книги. Такъ вотъ займись-ка, отбери мнѣ романы. Деньщики наши на бѣду всѣ неграмотны.
Засвѣтилъ я огарокъ (корридоръ-то полутемный) и сталъ отбирать. Перелистываешь: романъ аль нѣтъ, да и зачитаешься: плоды фантазіи, но фантазіи французской, — куда ужъ занятно пишутъ эти господа французы!
•••
ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
Сентября 8. Мужиченка съ своимъ совѣтомъ — бѣжать — изъ головы у меня не выходилъ. И попытался я убѣжать, да чуть жизни не рѣшился. Не задалось!
Было то въ четвергъ же, 5 числа, когда, домой вернувшись, взялся романы фрацузскіе для лейтенанта отобрать. Откушавъ, господа офицеры за картишки засѣли, да за полночь заигрались. Наконецъ-то надоѣло, улеглись; захрапѣли и деньщики.
„Либо сейчасъ, либо никогда!“ говорю я себѣ. Связалъ въ узелокъ свои пожитки, не забылъ на сей разъ и дневника, да тихохонько на цыпочкахъ съ задняго крыльца на дворъ. Со двора черезъ ворота на улицу, а тамъ рысью къ Москвѣ-рѣкѣ: изъ города куда-нибудь да течетъ, такъ и меня за городъ выведетъ.
Небо хоть и въ тучахъ, да городъ въ разныхъ мѣстахъ по-прежнему костромъ пылаетъ, отъ огня поднебеснаго и небеса яркимъ заревомъ свѣтятся, а отъ зарева среди ночи свѣтло какъ днемъ.
Вотъ и мостъ. Вдругъ изъ-подъ моста полуночникъ-бродяга лѣзетъ; за нимъ другой.
— Стой! ни съ мѣста! Тебя, голубчикъ, мы и поджидали. Что́ несешь? Покажь-ка.
Отняли узелокъ, развязали.
— Товаръ неважный, — говорятъ. — Ну, да ничего, тоже пригодится.
— Дневникъ-то хоть, — говорю, — назадъ отдайте.
— Какой дневникъ?
— А вонъ тетрадь.
— Изволь. Куда намъ такую дрянь! Картузъ — иное дѣло.
Сорвалъ съ меня картузъ, на собственную башку напялилъ.
— Какъ разъ въ пору.
А другой:
— Ну, а теперь сапоги давай-ка сюда. Можетъ, и мнѣ въ пору придутся.
Оглянулся я кругомъ, — ни души.
— Долго-ли ждать-то? — говоритъ. — Камердина своего съ собой не взялъ, такъ и самъ разуешься.
Снялъ я сапоги. Онъ ихъ примѣрилъ и заругался, что ноги ему жмутъ.
— Разносятся, — говоритъ другой. — А одежу его мы ужъ опосля межъ собой подѣлимъ. Раздѣвайся-ка, дружище.
Дѣлать нечего, раздѣлся я до рубашки.
— За смиреніе твое, — говорятъ, — рубашку тебѣ, такъ и быть, оставимъ.
Забрали остальное и ушли опять къ себѣ подъ мостъ. А я стою, дрожу на холодномъ вѣтру, какъ въ лихорадкѣ; заплакалъ бы отъ горя и досады. Да въ слезахъ что̀ толку?
И побрелъ я впередъ босикомъ, въ одной рубашкѣ, съ дневникомъ подъ мышкой.
Прошелъ съ версту. Какъ разверзнутся тутъ небеса надо мною! Въ мигъ единый промокъ до ниточки. По пути часовня; да входъ закрытъ. Подъ навѣсомъ все же нѣкоторая защита; къ дверямъ прижался.
А дождь хлещетъ, какъ изъ ушата. И огню не устоять: по ту сторону Москвы-рѣки, въ Замоскворѣчьи, въ геенѣ огненной, пламень адскій съ хлябями небесными вотще борется, потухаетъ; то ярче опять вспыхнетъ, то снова гаснетъ. Зарево на небѣ тоже блѣднѣетъ…
А меня съ Москвы-рѣки вѣтромъ такъ вотъ и обдуваетъ, съ навѣса обдаетъ холодными брызгами. Мокрая рубашенка къ тѣлу прилипла… Холодъ до самаго сердца добирается… Зубы стучатъ… На ногахъ еле ужъ держусь… Присѣлъ бы на ступеньку; да ступенька каменная, холодная тоже и мокрая…
А дождь льетъ да льетъ по-прежнему; цѣлую ночь, пожалуй, не перестанетъ: осенній дождь, извѣстно, разъ какъ зарядитъ, такъ и конца ему нѣтъ. До утра совсѣмъ замерзну. Дальше бѣжать — за городъ къ нашимъ врядъ ли ужъ добѣгу; по дорогѣ свалюсь, Богу душу отдамъ. Одно лишь, значитъ, и остается — вернуться къ французамъ, къ лейтенанту д’Орвилю, — судьба, рокъ!
Ка̀къ до тюфячка своего добрался — даже и не помню. Очнулся только сегодня, на третьи ужъ сутки. Пипо́ говоритъ, что я шибко бредилъ. Дневника своего, однако, не обронилъ. Теперь хоть опять въ здравомъ умѣ и памяти, но тѣломъ еще горю и зѣло слабъ. Присѣлъ на постели, да голова закружилась. Пишу лежа…
…Заглянулъ лейтенантъ, допросъ мнѣ учинилъ. Сказалъ ему, что на пожаръ смотрѣть пошелъ, да бродяги дорогой ограбили. Глядя на скудный нарядъ мой, долженъ былъ повѣрить. Отъ себя мнѣ свои старыя туфли поднесъ, а Пипо́ и другіе деньщики — кто что изъ своего старья. Что ни говори, а народъ не бездушный, милый народъ! Такъ-то съ виду и я тоже въ ихъ же брата-француза преобразился.
•••
Сентября 9. Пробовалъ встать, да шатаюсь еще, какъ пьяный.
— Лежи себѣ, отлеживайся, — говоритъ лейтенантъ д’Орвиль, — И безъ тебя управимся.
А Пипо́, что̀ ходилъ за мной, когда я безъ памяти лежалъ, и теперь еще меня не забываетъ. Досталъ у Терентія шашки, играетъ со мной. Отъ него же узнаю, что̀ за сіи дни было.
Тотъ жестокій ночной ливень съ четверга на пятницу, что̀ меня доконалъ, и пожаръ во всемъ городѣ залилъ. Посему въ пятницу же, 6 числа, Наполеонъ со всей свитой да со старой гвардіей изъ загороднаго Петровскаго дворца въ Кремль назадъ перебрался.
Не красно имъ тамъ, за городомъ, жилося! Самъ-то со свитой во дворцѣ хоть основался, цѣлый день, слышь, приказы корпуснымъ командирамъ диктовалъ, но куда не въ духѣ былъ: никакъ, вишь, чрезъ своихъ развѣдчиковъ довѣдаться не можетъ, гдѣ нынѣ Кутузовъ со всѣмъ войскомъ своимъ обрѣтается: словно сквозь землю провалился! Куда ни сунутся, вездѣ на однихъ казаковъ натыкаются.

Съ картины В. В. Верещагина.
Ну, а старая гвардія лагеремъ въ полѣ расположилась за дворцовымъ паркомъ. Солнца ужъ нѣтъ какъ нѣтъ; погода сырая, холодная. По всему лагерю грязь по щиколку. Офицерство хоть въ палаткахъ и подъ досчатыми навѣсами укрывалося; но отъ сквозного вѣтра тамъ тоже не уберечься. На силу себѣ изъ дворца мягкую мебель — диваны и кресла — выпросили; а сами въ сибирскіе мѣха кутались да въ кашемировыя шали — военныя „трофеи“ изъ московскихъ палатъ „боярскихъ“. Кушали съ серебра, но, вмѣсто супу, нѣкую мучную бурду съ золою перемѣшанную, а жарко́е все одно — конину да конину, и безъ крошки не токмо бѣлаго, но и „свиного“ хлѣба. Про нижнихъ чиновъ и говорить нечего: лежали они на мокрой соломѣ и подъ открытымъ небомъ; костры же себѣ разводили не дровами, а оконными рамами, дверьми и мебелью все изъ того же дворца. Вдобавокъ въ ночь на 6-е число проливнымъ дождемъ и самихъ ихъ до костей промочило, и костры имъ потушило.
Не диво, что Наполеонъ поторопился съ утра же въ городъ вернуться. Но тоже не на радость: по улицамъ солдаты его шайками за добычею бродятъ; другіе съ награбленными ужъ вещами, какъ торговки, на перекресткахъ сидятъ, проходящимъ ихъ за кусокъ хлѣба предлагаютъ; а изъ одного дома самому ему прямо подъ ноги, чуть не на голову, столы и стулья, зеркала и картины полетѣли.
Весьма осерчалъ, однимъ декретомъ сіе зло пресѣчь хотѣлъ. Но ему доложили, что не до всѣхъ-де полковъ еще очередь дошла. Такъ нынче только, 9 числа, приказъ вышелъ, что кто и впредь въ грабежѣ уличенъ будетъ, того ужъ безъ пардону разстрѣляютъ.
Отъ всей-то Москвы, полагаютъ, уцѣлѣла послѣ пожара много-много что пятая часть. Уцѣлѣлъ такъ и казенный воспитательный домъ, да и разграбленъ не былъ: управляющій онымъ Тутолминъ не бѣжалъ изъ города, по примѣру главнокомандующаго Ростопчина, а въ самый день въѣзда Наполеона въ Москву, 3 числа, смѣло предсталъ передъ нимъ: „Благотворительное-де заведеніе для круглыхъ сиротъ, подъ особымъ покровительствомъ состоящее матери государевой, императрицы Маріи Ѳеодоровны. Защитите отъ разгрома!“ И Наполеонъ внялъ, защитилъ. А, воротясь послѣ пожара въ городъ, самъ посѣтилъ оный домъ, похвалилъ Тутолмина за образцовый порядокъ и спросилъ, не намѣренъ ли онъ, Тутолминъ, послать императрицѣ въ Петербургъ рапортъ о томъ, что ввѣренное ему заведеніе ни мало не пострадало ни отъ пожара, ни отъ непріятельскаго нашествія.
— Рапортъ у меня уже изготовленъ, ваше величество, — отвѣчалъ Тутолминъ; — не знаю только, съ кѣмъ его отправить…
— Дайте его мнѣ, — говоритъ Наполеонъ. — Я пошлю съ своимъ курьеромъ.
И послалъ. Разсчитываетъ, видно, что царица-мать смягчитъ гнѣвъ царя на него, злодѣя.
Вызвалъ тогда же къ себѣ нѣкоего москвича Яковлева, отставного офицера:
— Вотъ вамъ, — говоритъ, — письмо отъ меня къ императору Александру. Поѣзжайте сейчасъ въ Петербургъ.
Въ письмѣ же томъ (какъ слышалъ лейтенантъ д’Орвиль въ канцеляріи генерала Бертье) угроза заключается, что французская армія горитъ нетерпѣніемъ идти на Петербургъ, и тогда Петербургъ постигнетъ та же участь, что̀ и Москву, русскія ассигнаціи потеряютъ всякую цѣну, и Россія обанкрутится.
Прибавилъ бы ужъ кстати, что самъ фальшивыхъ русскихъ ассигнацій на милліоны отпечаталъ. Думаетъ, вишь, своей угрозой понудить нашего государя миръ заключить. Какъ бы не такъ!

Въ Парижъ тоже курьеръ поскакалъ съ повелѣніемъ выбить медаль во славу вступленія великой арміи въ Москву. Не рано ли, сударь мой, торжествуете?
•••
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Сентября 10. Смѣхотворный нѣкій анекдотъ у меня съ Пипо́ вышелъ. Играли мы опять въ шашки. Играетъ онъ, сказать правду, куда лучше меня, и взялъ уже три лишнія шашки.
— Сдавайтесь, — говоритъ.
— Русскіе, — говорю, — до послѣдней минуты не сдаются!
— Да вѣдь все равно вамъ уже не выиграть?
— Выиграю! и еще одну вашу шашку въ уголъ запру.
Усмѣхнулся.
— Это такъ же вѣрно, — говоритъ, — какъ то̀, что русскіе въ Парижѣ у насъ будутъ, какъ мы вотъ въ Москвѣ.
— А вы думаете не будутъ? Посмотримъ.
— Посмотримъ, — говоритъ, — посмотримъ!
А самъ зазѣвался. Подставилъ я ему шашку:
— Не угодно ли взять?
Взялъ онъ, а я у него хвать три заразъ.
— Посмотримъ, — говорю, — посмотримъ!
Онъ такъ растерялся, что тутъ же сдѣлалъ другой преглупый ходъ, и я опять взялъ двѣ лишнія шашки; потомъ сталъ мѣняться, и въ концѣ-концовъ у него осталась одна единственная, которую я и заперъ въ уголъ.
— Ну, мосье Пипо́, ожидайте насъ въ Парижѣ!
То-то обозлился! Стуломъ такъ объ полъ треснулъ, что ножка отлетѣла.
•••
Сентября 11. Дабы во̀йска своего духъ поднять, у Наполеона замышлены зрѣлища театральныя. Казенный театръ до тла тоже сгорѣлъ со всѣми декораціями. Но въ одномъ покинутомъ барскомъ домѣ нашелся домашній театръ. Домъ сей мародерами, по примѣру другихъ, разгромленъ; но сцену повелѣно безъ промедленія въ порядокъ привести, и уже послѣзавтра начнутся представленія. Разыскали и актеровъ постоянной здѣшней французской труппы. Тѣ было отговариваться, что всѣ костюмы-де у нихъ разграблены; но имъ объявлена непреклонная воля ихъ императора, — и покорились.
•••
Сентября 12. Нынче былъ генеральный смотръ французскимъ войскамъ. Пипо́ протекцію мнѣ оказалъ и провелъ меня въ Кремль спозаранку.
Императорская старая гвардія, надо честь отдать, на заглядѣнье; молодая гвардія тоже принарядилась, подтянулась. Зато армейскіе полки — просто стыдъ и срамъ: мундиры въ конецъ изношены, заплатаны, и сами люди разучились въ строю стоять, свои воинскія штуки ружьями выдѣлывать.
Наполеонъ, однакожъ, виду не показалъ, что замѣчаетъ сіи недочеты; отличившимся въ Бородинскомъ сраженіи ордена раздавалъ, другихъ въ слѣдующій чинъ производилъ. Такъ капитана Ронфляра маіоромъ поздравилъ, а лейтенанта д’Орвиля своеручно петличнымъ крестикомъ Почетнаго Легіона украсилъ.
•••
Сентября 13. Воля Наполеонова исполнена; театральный спектакль состоялся и отнынѣ каждодневно повторяться будетъ. По угламъ улицъ афиши съ утра еще расклеены.
— Совсѣмъ какъ у насъ въ Парижѣ! — говорили межъ собой офицеры. — Только афиши писанныя, а не печатныя.
— Зато же и цѣны на всѣ мѣста очень умѣренныя.
— Да и струнный оркестръ преизрядный. Откуда его выкопали?
— А нѣкій лифляндскій баронъ собственныхъ музыкантовъ своихъ изъ Риги завезъ. При нашемъ нашествіи самъ баронъ съ русскими тягу далъ, а музыкантовъ здѣсь посѣялъ.
Вечеромъ вся компанія, само собой, въ театръ собралась. Попалъ туда и Пипо́, коему Ронфляръ на радостяхъ, что въ маіоры возведенъ, билетъ подарилъ.
Въ партерѣ сидѣли одни солдаты; въ первыхъ рядахъ кавалеры Почетнаго Легіона изъ гвардейцевъ. Офицерство занимало ложи. Были и дамы изъ здѣшнихъ француженокъ.
Освѣщается театральная зала большимъ паникадиломъ церковнымъ. Занавѣсъ сдѣланъ изъ золотой парчи. Кулисы сколочены на скорую руку, но разукрашены лентами и искусственными цвѣтами; а мебель даже прероскошная, ибо взята изъ того же „боярскаго дворца“.
Самого Наполеона въ театрѣ не было. Для себя онъ устроилъ въ Кремлѣ особую концертную залу и итальянскихъ пѣвцовъ изъ-за границы выписалъ. Чай, тоже своими фальшивыми сторублевками платить имъ будетъ. Поздравляю пѣвцовъ!
•••
Сентября 15. Что ни день, то мои офицеры въ театрѣ. Третьяго дня давались „Три султанши“, вчера — „Разсѣянный Фигаро́“, сегодня пойдутъ „Проказы въ тюрьмѣ“, завтра — „Сидъ и Заира“.
— Нѣтъ, — говорятъ, — порядочной пищи для тѣла, такъ есть хоть для духа.
Да порядочна ли она еще, господа, эта ваша духовная пища?
Впрочемъ, на однообразіе жаркого имъ жаловаться уже не приходится: Пипо́, что ни день, съ ружьемъ на охоту ходитъ и своему господину то галку или ворону, то кошку бездомную на крышѣ подстрѣлитъ.
Отъ полковыхъ же фуражировъ и вправду мало толку: какъ отъ козла — ни шерсти, ни молока. Хотя ихъ и разсылаютъ по окрестнымъ деревнямъ, но проученные уже крестьяне, вилами, дубинами, рогатинами вооружившись, по дорогамъ ихъ подстерегаютъ и расправляются съ ними самосудомъ. Страшное дѣло — самосудъ! Въ озлобленіи своемъ люди звѣрѣютъ, всякія лютости чинятъ. И раньше или позже кара ихъ постигаетъ. Такъ, маршаломъ Даву на сихъ дняхъ была захвачена толпа вооруженныхъ мужиковъ и военнымъ судомъ осуждена къ разстрѣлу. Но тутъ-то, передъ лицомъ смерти, сказалось все христіанское смиреніе русскаго человѣка. Когда осужденнымъ прочитали смертный приговоръ (въ русскомъ переводѣ), они межъ собою, какъ бы передъ отъѣздомъ въ дальній путь, обнялись, поцѣловались. Когда же ихъ поставили въ рядъ и одного за другимъ стали разстрѣливать, ни одинъ не выказалъ малодушія, не молилъ о пощадѣ; когда до кого доходила очередь, онъ призывалъ имя Божіе, крестился и падалъ подъ пулей на вѣчный сонъ.
— Изумительно! — говорилъ Ронфляръ своимъ товарищамъ. — Точно спартанцы или римляне…
— Да, г-нъ маіоръ, — говорю я ему. — И простой русскій народъ, какъ видите, умѣетъ умирать за свою вѣру и родину.
Не понравилось, прикрикнулъ:
— Тебя кто спрашиваетъ? Пошелъ въ свою берлогу!
•••
Сентября 16. Новое святотатство: съ колокольни Ивана Великаго золотой крестъ сняли; отвезутъ его, слышно, въ Парижъ и на куполѣ Дома Инвалидовъ водрузятъ. Самъ Наполеонъ изъ кремлевскаго дворца наблюдалъ за рабочими. Русскіе рабочіе отъ столь безбожнаго дѣла, понятно, наотрѣзъ отказались. Тогда вызвали плотниковъ и кровельщиковъ изъ своей же французской арміи. Огромный крестъ, однакожъ, оказался для нихъ не по силамъ грузнымъ; сдержать на цѣпяхъ не смогли, и грохнулся онъ съ высоты на мостовую. Никого хоть, къ счастью, не убило.
Заходила къ намъ провѣдать господъ офицеровъ старая маркитантка Дюбоа.
— А что, мадамъ Дюбоа, — говорятъ ей, — будете вы сегодня въ Кремлѣ на костюмированномъ балѣ?
— Гдѣ ужъ мнѣ! — говоритъ. — Императоръ даетъ балъ для здѣшней французской колоніи…
— Да вы-то чѣмъ хуже здѣшнихъ дамъ? Сколько вѣдь потрудились на походѣ для нашей арміи!
— У меня, господа, и костюма подходящаго нѣтъ…
— Ну, костюмъ-то мы вамъ подаримъ.
Кликнули деньщиковъ и велѣли разложить передъ нею на выборъ всѣ женскія платья, что заключались въ сундукахъ, которые вырыли намедни въ саду подъ дубомъ. Долго выбирала старуха, пока не рѣшилась нарядиться русской боярыней. Хороша боярыня! И смѣшно-то, и зло беретъ.
•••
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Сентября 17. Грабежъ все усугубляется. На столѣ у лейтенанта д’Орвиля усмотрѣлъ только-что такой приказъ (привожу его по-русски):
„Въ старой гвардіи безпорядки и грабежъ сильнѣе, чѣмъ когда-либо, возобновились вчера, въ послѣднюю ночь и сегодня. Съ сожалѣніемъ видитъ императоръ, что отборные солдаты, назначенные охранять его особу, долженствующіе подавать примѣръ повиновенія, дошли до такой степени ослушанія, что разбиваютъ погребы и склады, заготовленные для арміи. Другіе унизились до того, что не слушаютъ часовыхъ и караульныхъ офицеровъ, ругаютъ ихъ и избиваютъ“.
Герои Аустерлица! львы Наполеоновы! слышали ли вы про баснословныхъ львовъ, что̀, будучи ввергнуты въ общую яму, такъ межъ собой перегрызлись, что одни хвосты остались!
•••
Сентября 18. Подъ видомъ, что печется о благѣ обывателей московскихъ, Наполеонъ со вчерашняго дня новое городовое и полицейское управленіе завелъ, муниципалитетомъ именуемое. Начальникомъ сего му-ни-ци-па-ли-те-та (на тощакъ и не выговорить!), префектомъ, купецъ Лессепсъ назначенъ, который до войны французскимъ консуломъ въ Петербургѣ состоялъ и по-русски съ грѣхомъ пополамъ маракуетъ. Себѣ въ помощь онъ съ полсотню изъ здѣшнихъ иностранцевъ навербовалъ, а равно и изъ тѣхъ русскихъ купцовъ, что̀ остались еще въ городѣ.
И вотъ, зоветъ меня нынче лейтенантъ д’Орвиль.
— Ну, Андре́, — говоритъ, — Лессепсъ самъ тебя видѣть хочетъ.
Я такъ и обмеръ.
— Да въ чемъ я провинился? — говорю.
Разсмѣялся.
— Ни въ чемъ; напротивъ. Я рекомендовалъ ему тебя на должность полицейскаго комиссара.
— Помилуйте! — говорю. — Я не измѣнникъ своего отечества.
— Какой вздоръ! — говоритъ. — Ты только порядокъ водворять будешь въ своемъ же отечествѣ. А жалованье тебѣ положатъ хорошее…
— Фальшивыми ассигнаціями?
Вскипѣлъ.
— Придержи, — говоритъ, — свой языкъ! Ради молодости твоей на первый разъ, такъ и быть, прощаю. Дадутъ тебѣ цвѣтной шарфъ, на руку — бѣлую повязку…
Чѣмъ прельстить вздумалъ!
— Ахъ, Боже мой! — говорю и за лобъ схватился. — Ночью я окошко открывалъ… продуло… голову страшно ломитъ!.. Простите, я прилягу…
Убрался поскорѣе вонъ, голову себѣ мокрымъ полотенцемъ обвязалъ и — въ постель.
Заглянулъ ко мнѣ Пипо́, а я только тяжко стонаю. Полежу день, другой, — авось, гроза и минетъ.
•••
Сентября 20. Съ одра моей мнимой болѣзни Пипо́ меня силой поднялъ.
— Долго ли ты, — говоритъ, — валяться еще будешь? На видъ совсѣмъ здоровъ…
— Голова, — говорю, — все еще трещитъ.
— На свѣжемъ воздухѣ живо пройдетъ. Идемъ-ка, идемъ! Увидишь, какой порядокъ нашъ муниципалитетъ въ городѣ завелъ — просто на удивленье!
И точно: въ каменныхъ корпусахъ Гостинаго двора иныя лавки уже открылись; но стоятъ за прилавкомъ не наши русскіе купцы и прикащики, а француженки, молодыя и старыя, — откуда ихъ и понабрали! Всякимъ суровскимъ товаромъ, галантереей и бакалеей торгуютъ, любезно таково зазываютъ, сладко таково улыбаются, да и дешево, признаться, товаръ свой отдаютъ, еще бы: самимъ ни гроша не стоилъ. Но деньги берутъ одной звонкой монетой — серебромъ да золотомъ: въ ассигнаціяхъ своего императора, видно, тоже извѣрились.
— А бѣлый хлѣбъ тоже есть уже въ продажѣ? — спрашиваю я Пипо́.
— Есть, — говоритъ. — Нѣмцамъ-булочникамъ отданъ приказъ немедля открыть опять свои булочныя. Но нѣмцы выгоды своей тоже не упустятъ: за пятикопѣечную булку два рубля берутъ. Намъ, нижнимъ чинамъ, не по карману; а офицеры одну булку межъ собой на двоихъ дѣлятъ.
Проходимъ мимо церкви.
— Войдемъ, — говорю. — Давно въ храмѣ Божіемъ не молился.
Вошелъ — и остолбенѣлъ: посреди храма вѣсы висятъ, а кругомъ вѣсовъ офицеры и солдаты толпятся, добычу свою взвѣшиваютъ: серебряные подсвѣчники алтарные, паникадила, ризы съ образовъ и иконостаса сорванныя… Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!
Ни слова не промолвивъ, вонъ вышелъ. Пипо́ тоже какъ будто смутился.
— Мало ли здѣсь, въ Москвѣ, — говоритъ, — и другихъ церквей.
Входимъ въ другую. А тамъ въ самомъ алтарѣ лошади, какъ въ стойлѣ, стоятъ, ризами поповскими, замѣсто попонъ, покрытыя. Алтарь въ конюшню обращенъ!
Въ одномъ притворѣ сѣно свалено; снопы оржаные и овсяные; въ другомъ — кочаны капусты, морковь, рѣпа, картофель. Тутъ же на каменныхъ плитахъ костеръ разведенъ — не дровами, а рамами отъ святыхъ иконъ! Поваренокъ-французикъ въ бумажномъ колпакѣ похлебку въ котлѣ деревянной ложкой мѣшаетъ, а повариха-француженка около на табуреткѣ сидитъ и платье себѣ кроитъ изъ ризы поповской.
Натура у меня кроткая, незлобивая, но тутъ жолчь поднялась, слеза прошибла.
— И все сіе, — воскликнулъ, — творится съ вѣдома, а можетъ, и по повелѣнію вашего императора?
— Тсс! — цыкнулъ на меня Пипо́. — Услышатъ другіе, такъ ни тебѣ, ни мнѣ не сдобровать.
И вывелъ меня вонъ за руку на улицу. А тамъ, какъ нарочно, самъ навстрѣчу намъ со свитой: драгоцѣннаго здоровья своего ради, ежедневную прогулку верхомъ совершаетъ. Пипо́ — во фронтъ, да какъ гаркнетъ:
— Да здравствуетъ императоръ!
Вспомнилось мнѣ тутъ, что и я-то вѣдь въ ихъ солдатской формѣ и — каюсь — струхнулъ, тоже руку къ козырьку приложилъ. Не замѣтилъ онъ, что я его ни единымъ звукомъ не привѣтствовалъ, и, обоимъ намъ кивнувши, дальше прослѣдовалъ.
О, будь при мнѣ въ сей моментъ заряженное ружье, пистолетъ, — за себя не отвѣчаю…
•••
Сентября 22. Къ Наполеону въ Кремль пріѣзжалъ адъютантъ короля неаполитанскаго Мюрата. Клянетъ и казаковъ, и Милорадовича, и Кутузова. Казаки, вишь, и фуражировъ перехватываютъ, и на лагерь мюратовъ по Рязанской дорогѣ нападаютъ: день и ночь будь на чеку, и лошадей держи замуштрованными; къ утру, какъ мукою, инеемъ покрыты. У самого адъютанта щека повязана, въ ушахъ вата.
— Насквозь простуженъ, — говоритъ. — Хоть бы пищей согрѣться, а то конина въ горло ужъ не лѣзетъ; вмѣсто сала или масла — сальныя свѣчи, вмѣсто соли — порохъ. Отъ пороха — неутолимая жажда, а отъ сырой воды — разстройство желудка.
Милорадовичъ же, точно на смѣхъ, разъѣзжаетъ по своимъ аванпостамъ сытый, на сытомъ конѣ, а встрѣчаясь на линіи съ Мюратомъ, почтительно раскланивается и участливо справляется, хорошо ли тотъ себя чувствуетъ.
— Прекрасно! — отвѣчаетъ Мюратъ, а самъ зубами скрежещетъ, въ душѣ его ко всѣмъ чертямъ посылаетъ.
Въ добавокъ казаки вчера захватили въ плѣнъ его начальника штаба, генерала Ферье. А безъ Ферье онъ какъ безъ рукъ. Просилъ Кутузова отпустить плѣнника на честное слово, но получилъ отказъ. Вотъ и прислалъ своего адъютанта къ Наполеону, чтобы отъ себя ужъ отправилъ къ Кутузову парламентера.
•••

Съ картины В. В. Верещагина.
Сентября 23. Парламентеромъ поѣхалъ генералъ Лористонъ подъ видомъ яко бы размѣна Ферье и другихъ плѣнныхъ, но на самомъ-то дѣлѣ, чтобы закинуть словечко о мирѣ. Круто, видно, приходится!
Началъ Лористонъ съ жалобы на русскихъ крестьянъ и казаковъ, расправляющихся по-своему съ французскими фуражирами.
— Такой образъ войны, — говоритъ, — противенъ всѣмъ военнымъ постановленіямъ просвѣщенныхъ націй.
А Кутузовъ казанской сиротой прикинулся, разслабленнымъ старцемъ.
— Ваша правда, генералъ, — говоритъ и вздыхаетъ. — Но крестьянами, простите, я не командую.
— А казаки — люди военные и тоже никакихъ правилъ признавать не хотятъ…
— Охъ ужъ эти казаки, казаки! Я и самъ не радъ, да что̀ съ ними подѣлаешь? Иррегулярное войско!
— Такъ зачѣмъ же тогда воевать, ваша свѣтлость! Не лучше ли помириться?
— О! — говоритъ свѣтлѣйшій и платкомъ глаза утираетъ. — Скажите, генералъ, вашему императору, что я пла́чу, что самое горячее желаніе мое — миръ заключить; отъ его великодушія зависитъ благополучіе моего бѣднаго отечества, всего русскаго народа.
Лористонъ духомъ воспрянулъ.
— Ваша свѣтлость, значитъ, готовы хоть сейчасъ прекратить войну?
— Я-то?.. О, да, хоть сію минуту. Только вотъ государь мой строго-на-строго запретилъ мнѣ произносить слово миръ, пока армія ваша не покинула предѣловъ Россіи.
— Однако послать отъ себя курьера къ императору Александру съ предложеніемъ нашихъ мирныхъ условій вы вѣдь не откажетесь?
— Сегодня же, извольте, отправлю нарочнаго.
И курьеръ посланъ. Французы по всей Москвѣ не могутъ скрыть своего восторга: прыгаютъ какъ дѣти, обнимаются, цѣлуются; всѣмъ испытаніямъ ихъ вѣдь конецъ!
Подлинныя дѣти: повѣрить, что Кутузовъ, сподвижникъ Суворова, пойдетъ на мировую безъ всякаго сраженія, когда ихъ армія съ каждымъ днемъ все больше разстраивается. Я этому не вѣрю! У него это военная хитрость: онъ усыпляетъ непріятеля, чтобы потомъ сразу нагрянуть.
•••
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Сентября 27. Не дано мнѣ, знать, выбраться изъ вражьяго стана, — заколдованный кругъ.
Вечоръ господа офицеры были опять въ театрѣ; деньщики тоже разбрелись; остался одинъ Фортюне́ ради призора не то за домомъ, не то за мною. Ушелъ я въ свой уголъ и улегся будто бы спать. У самого же одно на умѣ: не удастся ли наконецъ улизнуть?
А Фортюне́, уроженецъ Шампаньи, до родного напитка большой охотникъ. Приходитъ ко мнѣ, зоветъ распить бутылочку шампанскаго: „съэкономилъ-де со стола офицеровъ“. Я отговорился нездоровьемъ, а самъ прислушиваюсь: что-то будетъ? Слышу; въ столовой пробка хлопнула; потомъ веселую пѣсенку затянулъ мой шампанецъ. Все тише, тише. Замолкъ.
Подождалъ я еще съ полчаса. Та же все тишина; только изъ столовой словно храпъ доносится. Тихохонько приподнялся, подкрался къ двери въ столовую. На столѣ нагорѣвшая свѣча и пустая бутылка изъ-подъ шампанскаго; а на стулѣ передъ бутылкой Фортюне́: руки на край стола сложилъ, голову на руки и храпитъ на всю Ивановскую.
Была не была! Не прошло и пяти минутъ, какъ я былъ на улицѣ, — на сей разъ уже съ дневникомъ за пазухой.
Былъ восьмой часъ вечера; но въ концѣ сентября съ шести уже темнѣетъ. Въ первый побѣгъ мой ночь была свѣтла какъ день, отъ зарева пожаровъ. Теперь нигдѣ уже не горѣло; на небѣ хоть и вызвѣздило, но луна еще не восходила, а на уличные фонари преславнымъ Наполеоновымъ муниципалитетомъ масло еще не отпущено, да и фонарщики, пожалуй, разбѣжались. Не падай тамъ и сямъ на улицу свѣтъ изъ оконъ, можно было бы съ прохожими лбами стукнуться. Такъ какъ я былъ во французской солдатской формѣ, то остановить меня никому и на умъ не приходило.
Мостомъ черезъ Москву-рѣку перебрался я въ Замоскворѣчье; иду себѣ, куда глаза глядятъ. А кругомъ мерзость запустѣнія: Замоскворѣчье съ его деревянными домишками чуть ли не сплошь выгорѣло.
Вотъ и городу, кажись, конецъ; заборы, пустыри и огороды потянулись. Въ потемкахъ по лужамъ шлепаю.
Тутъ кто-то навстрѣчу плетется, да какъ взвизгнетъ по-бабьи:
— Господи Іисусе Христе! Французъ!
— Не бойсь, матушка, — говорю, — я свой же, русскій.
— Русскій? А почто же на тебѣ аммуниція какъ бы французская?
Объяснилъ.
— Такъ, такъ, — говоритъ. — Да куда идешь-то?
Сказалъ.
— Э, миленькій! — говоритъ. — Отселѣ ты прямехонько въ лапы къ нимъ угодишь.
— Да гдѣ же, — говорю, — въ какую сторону наше русское войско?
— Ужъ того, прости, сказать тебѣ не умѣю. А тебѣ, бѣдненькому, значитъ, негдѣ и голову преклонить? Эка бѣда какая! Ну, да что жъ, на одну-то ночку до утра, такъ и быть, у себя пріютимъ. Живу я со старикомъ-дѣдомъ да сыночкомъ; мужъ въ ополченіе ушелъ. Только угостить тебя, окромѣ картошки, прости, нечѣмъ. Сейчасъ вотъ только у сосѣда-огородника мѣшокъ картошки выпросила.
И пошелъ я съ нею. А она о нуждахъ своихъ плачется, рада хоть передъ чужимъ человѣкомъ душу отвести.
— Ономнясь, — говоритъ, — когда еще ряды горѣли, ходили мы съ сынишкой за товаромъ: купцы бѣднымъ людямъ все задаромъ вѣдь отдавали. Ни хлѣба, ни муки для насъ уже не нашлося. Но тутъ Господь Богъ намъ на Москвѣ-рѣкѣ мокрой пшенички послалъ. Барка, вишь, съ грузомъ хлѣбнымъ на рѣкѣ тоже загорѣлась и ко дну пошла. Ну, народъ за пшеничкой и ныряетъ.
— Да неужто, — говорю, — и ты съ другими нырять пошла?
— Куда ужъ мнѣ, бабѣ! Но Сенька мой, даромъ что мальчуга, а шустрый, лихой нырокъ. И на хлѣбъ-то, и на блины цѣлый мѣшокъ намъ вынырялъ.
— Въ рядахъ вы, стало быть, ничего съѣстного уже не раздобыли?
— Все, что̀ посытнѣе, эти супостаты еще до насъ разтаскали. Заходимъ въ бакалейную, а тамъ, глядь, хваты въ этакихъ шапкахъ съ длинными гривами уже орудуютъ. „Бонжуръ, — говорятъ, — мамзель!“ — „Не мамзель, — говорю, — мадамъ. Вотъ и парнишка мой“. Поняли. „Карашо, мадамъ, карашо“, говорятъ; одинъ въ щеку его ущипнулъ, другой ему пригоршню каленыхъ орѣховъ суетъ. Сенька же у меня сластёна, въ кадку съ медомъ всей пятерней уже залѣзъ. Какъ схватитъ его тотъ за ноги, да внизъ головою въ кадку; самъ, баловникъ, хохочетъ-заливается, и товарищи его тоже. А медъ-то вязкій; еле-еле я мальчишку изъ кадки вытащила. И смѣхъ, и грѣхъ: вся голова въ меду, волоса въ одно слиплись, и глаза-то, и носъ, и уши залѣпило. Ужъ мыла я потомъ его въ рѣкѣ, отмывала…
Разсказываетъ баба и сама уже смѣется-фыркаетъ, и я съ нею смѣюсь, хоть самому тоже не до смѣха.
Доплелись мы такъ до ея лачужки. Выскочилъ тутъ къ намъ ея Сенька, мальчишка лѣтъ этакъ девяти.
— Что, мамка, достала хлѣбушка?
— Хлѣбушка, родимый, нѣту-ти; а вотъ картошки мѣшокъ.
— Дѣдка! дѣдка! Мамка картошки принесла и француза съ собой привела.
Слѣзъ и дѣдка съ палатей, глядитъ на меня грозно, безстрашно.
— Къ сатанѣ его на колѣна!
— Не французъ онъ, — говоритъ баба, — отъ нихъ же убѣгъ.
Сталъ старикъ тутъ меня допытывать, ратный ли я человѣкъ.
— Самъ, — говоритъ, — тридцать пять годовъ въ солдатахъ подъ Суворовымъ протрубилъ.
И пошелъ повѣствовать про былыя времена, про великаго Суворова.
— Вотъ и Кутузовъ — такой же суворовецъ, — говоритъ; — не устоять супротивъ него этому Бонапарту, помяни мое слово!
— А Москву-то, — говорю, — какъ никакъ почти всю уже спалили.
— Жаль-то жаль ее, матушки, — говоритъ, — да нѣтъ худа безъ добра: обстроится, небойсь, краше прежняго. А баре, пока что, хошь не хошь, въ помѣстьяхъ своихъ годъ-другой поживутъ, и крестьянамъ оттого польза будетъ.
— Какой ты, дѣдъ, умный, разсудливый.
— Мы, внучекъ, — говоритъ, — хошь и въ лаптяхъ ходимъ, а на три аршина въ землю видимъ.
Тѣмъ часомъ хозяйка намъ и картошку сварила. Воздали честь картошкѣ, а тамъ и спать завалились, — тѣ на полатяхъ, а я на лавкѣ, да какъ убитый до утра проспалъ.
Поутру снова въ путь-дорогу, но уже обратно въ городъ. Прежнія опять улицы и переулки.
Вдругъ — владыко многомилостивый! — мимо меня острожниковъ гонятъ, да тѣхъ же самыхъ, у коихъ въ логовѣ я намедни побывалъ, по страшилищу-эѳіопу Мирошкѣ сразу ихъ опозналъ. Къ забору прижался, пока минуютъ. Анъ и Мирошка меня уже запримѣтилъ:
— Старый знакомый! — кричитъ мнѣ и рукой машетъ. — Ну, и хитеръ же ты, какъ погляжу: французомъ обрядился!
Тутъ унтеръ конвойный, капралъ, меня къ допросу:
— Какого, молъ, полка? Гдѣ съ ними спознался?
Только ротъ я раскрылъ, какъ ломанная рѣчь моя меня уже и выдала.
— Э! — говоритъ, — да ты самъ никакъ русскій?
— Русскій, — говорю и сталъ было оправдываться.
Но онъ и слушать не хотѣлъ.
— За панибрата съ разбойниками, — стало, и самъ разбойникъ. Забирай его!
И забрали меня, раба Божья. А моимъ „старымъ знакомымъ“ то и любо: еще издѣваются:
— Нашего полку прибыло!
Тутъ вдогонку за нами кто-то скачетъ, гикаетъ. Оглянулись конвойные, оторопѣли:
— Казакъ! казакъ!
А казакъ уже налетѣлъ, пикой своей одного изъ нихъ прикололъ, другого… Но капралъ изловчился, тесакомъ его по правой рукѣ хватилъ. Опустилась рука молодецкая. А коню его четвертый конвойный штыкъ въ грудь всадилъ. И грохнулся конь, а съ конемъ и всадникъ. Не успѣлъ казакъ приподняться, какъ тотъ же конвойный прикладомъ по башкѣ его ошеломилъ.
Острожники межъ тѣмъ въ разсыпную на утекъ пошли. Пустился было и я бѣжать, да встрѣчный взводъ французскій меня задержалъ. Двоихъ острожниковъ тоже воротили, связали. Очнулся и казакъ, да руки за спину скручены. И погнали насъ впередъ, а приколотыхъ конвойныхъ товарищи на рукахъ понесли.
Долго ли, коротко ли, доставили насъ и до мѣста — нѣкоего казеннаго зданія. Вышелъ на дворъ къ намъ офицеръ, выслушалъ докладъ капрала и наши имена записалъ. Казакъ Леонтіемъ Свириденко назвался, я — Андреемъ Смоленскимъ. И ввергли насъ въ подвалъ, въ коемъ десятка два слишкомъ такихъ же узниковъ уже томилося.
— Здорово, други любезные! — говоритъ имъ Свириденко. — Знать, тоже рѣшенія себѣ ожидаете?
— Какое уже рѣшеніе! — говорятъ. — Надъ всѣми смерть неминучая виситъ.
— Ну, что жъ, на міру и смерть красна. Двумъ смертямъ не бывать, а одной не миновать. Да князь Кутузовъ насъ, дастъ Богъ, еще выручитъ. Слыхали-ль вы, братцы, самоновѣйшую пѣсню солдатскую про свѣтлѣйшаго?
— Не слыхали, — говорятъ.
— Такъ вотъ слушайте. По всему лагерю ее уже распѣваютъ.
И запѣлъ онъ ту пѣсню, а я, чтобы не забыть, тутъ же записалъ:
•••
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Сентября 28. Душа-человѣкъ — этотъ Свириденко! Своими розсказнями про житье-бытье казачье всѣхъ насъ, узниковъ, какъ живой водой опрыснулъ. Наполеонъ у него ворона: „не вороньему-де клюву рябину клевать“; французы — то „хранцузы“, то „францы-хранцы“; самъ же онъ — партизанъ изъ донскихъ казаковъ. Партизанскихъ отрядовъ, дескать, теперь уже много: Фигнера, Давыдова, Сеславина, Кудашева, Вадбольскаго. Вольными птицами охотятся за всякой зловредной мошкарой: непріятельскихъ фуражировъ и мародеровъ ловятъ, курьеровъ перехватываютъ, отбиваютъ транспорты, забираютъ плѣнныхъ.
Еще съ мѣсяцъ назадъ Свириденко служилъ подъ атаманомъ донцовъ, графомъ Платовымъ; да партизанъ Фигнеръ къ себѣ его переманилъ.
— Стояли мы тогда, братцы мои, — разсказываетъ Свириденко, — недалече отъ подмосковнаго села Леташовки, гдѣ самъ фельдмаршалъ нашъ въ крестьянской избѣ проживалъ. Тамъ же, только на другомъ концѣ села, квартировалъ генералъ Ермоловъ. Умаялся Ермоловъ за день, прилегъ уже соснуть, накрылся буркой, какъ вдругъ къ нему вѣстовой:
„— Ваше превосходительство! офицеръ одинъ васъ спрашиваетъ.
„— Какой офицеръ?
„— Чужой, не нашего корпуса.
„— А фамилія?
„— Фамиліи не сказываетъ.
„— Что̀ же ему нужно отъ меня?
„— Не могу знать. По тайному, молъ, самонужнѣйшему дѣлу.
— Ну, проси.
„Входитъ офицеръ.
„— Честь имѣю представиться, — говоритъ: — штабсъ-капитанъ Фигнеръ. Человѣкъ семейный: жена, дѣти, а кормить нечѣмъ. Такъ вотъ, — говоритъ, — мною замышлено отважное дѣло. Выгоритъ ли — одному Богу извѣстно. Но буде мнѣ суждено погибнуть, то смѣю ли, ваше превосходительство, надѣяться, что отечество осиротѣвшую семью мою обезпечитъ?
„— Истинныя заслуги передъ отечествомъ не остаются безъ награды, — говоритъ Ермоловъ. — Но въ чемъ вашъ замыселъ?
„— Замыселъ мой, — говоритъ, — пробраться въ Кремль къ виновнику злосчастной сей войны и одной пулей положить конецъ и ему и войнѣ.
„— Да васъ туда не пустятъ!
„— Попытаюсь. Терпѣть тѣ неистовства, что̀ чинятъ враги въ нашихъ городахъ и селеніяхъ, долѣе не могу. Прошу только дать мнѣ на выборъ восемь человѣкъ казаковъ.
„— На свой страхъ взять это необычайное дѣло, — говоритъ Ермоловъ, — я не рѣшаюсь. Доложу фельдмаршалу.
„Тутъ же опять одѣлся, пошелъ на другой конецъ села къ избѣ свѣтлѣйшаго, велѣлъ разбудить старика.
„— Да что онъ, этотъ Фигнеръ, не сумасшедшій? — спрашиваетъ Кутузовъ.
„— Не похоже. Такъ ка̀къ быть прикажете?
„Покачалъ головой фельдмаршалъ и рукой махнулъ:
„— Христосъ съ нимъ! Пускай беретъ себѣ восьмерыхъ казаковъ на общемъ основаніи партизановъ.
„Вотъ Фигнеръ и выбралъ насъ, казаковъ, восемь человѣкъ“.
— А что же, — говоримъ мы, — въ Кремль къ Наполеону онъ все же такъ вѣдь и не пробрался?
— Гдѣ ужъ! Не разъ бывалъ онъ и у Кремля, францемъ-хранцемъ переряженный, съ часовыми заговаривалъ, — говоритъ-то по ихнему какъ свой человѣкъ, — да старая гвардія, пуще каменной стѣны кремлевской, императора своего стережетъ-бережетъ. Ну, и сталъ онъ тутъ партизаномъ, въ непріятельскій лагерь во образѣ ихняго офицера забирается, отъ нихъ же, непріятелей, вывѣдываетъ, что̀ у нихъ, да ка̀къ, а улягутся спать, онъ среди сна съ своими казаками и нагрянетъ, — то-то переполоху надѣлаетъ, — смѣхота да и только! Имени его, Фигнера, слышать уже не могутъ, крупную цѣну за голову его положили.
— Ты, стало, все при немъ же и состоишь?
— Нѣтъ, — говоритъ, — недѣли двѣ назадъ къ другому перешелъ: такой же партизанъ, подполковникъ. Давыдовъ.
— Съ чего жъ ты это? Вѣдь Фигнеръ, говоришь ты, и ловокъ, и храбръ?
— Храбръ-то онъ какъ чортъ, но и въ лютости самому чорту не уступитъ. Заберетъ, бывало, партію плѣнныхъ, разставитъ въ рядъ, да изъ пистолета самъ же ихъ съ одного фланга до другого хлопъ да хлопъ. Просятъ тѣ поскорѣй хоть ихъ прикончить, чтобы имъ не видѣть, какъ товарищи умираютъ; а онъ, не спѣша, для каждаго свой пистолетъ снова заряжаетъ: поспѣете, молъ, въ царствіе небесное.
— Подлинно, что дьяволъ! Еще потѣшается надъ беззащитными, безоружными…
— То-то вотъ. Какъ пришелъ тутъ запросъ, не пожелаетъ ли кто идти подъ Вязьму въ партизанскій отрядъ къ Давыдову: требуется де ему еще 600 человѣкъ, — я съ другими и вызвался.
— Подъ Вязьму? Да въ Москву-то ты оттолѣ какъ попалъ?
— А Давыдову понадобилось къ свѣтлѣйшему рапортъ о своихъ дѣйствіяхъ доставить. Меня и командировалъ.
— Такъ ты, что же, теперь къ Кутузову только ѣхалъ или ужъ обратно къ своему Давыдову?
— Обратно. Да нечистый попуталъ! Пріятели-казаки, вишь, на прощанье меня угощая, давай похваляться, что въ гостяхъ у Бонапарта побывали: проскакали-де до самаго Кремля съ гикомъ да крикомъ, такого страху на францевъ нагнали, что тѣ, какъ воробьи передъ коршуномъ, во всѣ стороны разсыпались. За живое меня схватило. „Дай-ка, — думаю себѣ, — проскачу тоже этакъ черезъ всю Москву“. Поскакалъ, да на партію плѣнныхъ наскочилъ. Ка̀къ своихъ отъ воробьевъ не отбить? Анъ воробьи коршуна заклевали…
•••
Сентября 30. Четвертыя сутки въ подвалѣ. На 26 человѣкъ въ день ведро воды да по фунту оржаного хлѣба на брата. Ни стула, ни скамьи, ни соломы. Сидимъ, лежимъ на голомъ полу. Чтобы отогрѣться и головѣ мягче было, ложимся вплотную другъ къ дружкѣ, а голову сосѣду на плечо кладемъ. Самъ я около Леонтія Свириденко укладываюсь, и возлюбилъ онъ меня аки брата меньшого: есть у него братъ на Дону тоже на возрастѣ. А какъ я взаперти скучаю и тоскую, то онъ меня разговоромъ своимъ всячески развлекаетъ, особливо про теперешняго командира своего, Дениса Васильевича Давыдова.
Въ родителя своего пошелъ Денисъ Васильевичъ: командовалъ тотъ Полтавскимъ коннымъ полкомъ и сынка семи лѣтъ уже взялъ къ себѣ въ солдатскую палатку. Тамъ, въ лагерѣ, благословилъ мальчика самъ Суворовъ.
— Любишь ли ты солдатъ, другъ мой? — спросилъ его Суворовъ.
А онъ въ отвѣтъ:
— Люблю графа Суворова: въ немъ все — и солдаты, и побѣда, и слава!
— О, помилуй Богъ, какой удалой! — сказалъ Суворовъ: — это будетъ военный человѣкъ. Я не умру, а онъ уже три сраженія выиграетъ!
Самъ-то Денисъ Васильевичъ не казакъ, а гусаръ. Въ первую войну съ французами былъ адъютантомъ у Багратіона. Сражался потомъ и со шведами, и съ турками. Когда тутъ возгорѣлась нынѣшняя кампанія, онъ былъ уже подполковникомъ Ахтырскаго гусарскаго полка. Но партизанская служба его тѣмъ прельщала, что въ ней надъ собой у него нѣть прямого начальства. И вотъ съ конца августа мѣсяца онъ держитъ непріятеля въ непрестанномъ страхѣ по большой Смоленской дорогѣ около Вязьмы, дѣлаетъ поиски фуражировъ, перехватываетъ транспорты и цѣлыя команды…
— И повѣришь ли, — говоритъ Свириденко: — что̀ на бивакѣ, что̀ на конѣ, — еще вирши слагаетъ, да такъ складно, что любо-дорого!
Сочинитель, стихотворецъ! Быть можетъ, новый еще Ломоносовъ, Державинъ?
•••
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Октября 1. Дамокловъ мечъ! Приноситъ намъ нынче дежурный солдатъ хлѣба да воду:
— Ну, — говоритъ, — въ послѣдній разъ.
— Какъ, — говорю, — въ послѣдній? А завтра что же?
— Завтра…
Жалостливо таково взглянулъ на меня, на другихъ и вонъ пошелъ. У меня отъ ужаса волоса на головѣ шевельнулись.
— Слышали, братцы? — говорю.
— А что? — говорятъ. — Нешто мы по ихнему разумѣемъ?
— Завтра намъ ни хлѣба, ни воды уже не будетъ: значитъ, и самихъ-то насъ на свѣтѣ не будетъ!
Хоть никому и не вѣрилось, что жизнь ему подарятъ, но утопающій хватается за соломинку, и у каждаго теплился еще лучъ надежды. Теперь этотъ лучъ у всѣхъ погасъ, и одни давай проклинать судьбу свою, Наполеона и французовъ, другіе головой поникли и крестились. Не палъ духомъ одинъ только Свириденко.
— Планида намъ, братцы вы мои, такая, стало, вышла, — говоритъ. — Промежъ жизни и смерти и блошка не проскочитъ.
— Да неужели тебѣ, Леонтій, — говорятъ, — не страшно на тотъ свѣтъ со всѣми грѣхами твоими предстать?
— Нѣсть человѣка безъ грѣха, токмо единъ Богъ, — говоритъ. — Вершилъ въ свою голову, — ну, и казнюсь, на милость Всевышняго уповаю. „Радость бываетъ, — сказано, — на небеси и о единомъ грѣшникѣ кающемся“. Къ уходу же изъ земной юдоли изготовиться всякому должно. Поди-ка сюда, Андрюша.
Отвелъ меня къ рѣшетчатому оконцу и голосъ понизилъ, чтобы другимъ не слышно было.
— Другъ ты мой сердечный, — говоритъ, — милъ ты мнѣ сталъ, что̀ по плоти сродникъ…
— И ты, Леонтій, мнѣ тоже, — говорю.
— Ну, вотъ. Такъ выбралъ я тебя для послѣдней моей воли. Памятуючи Страшный Судъ, исполнишь ли ты сію волю мою въ точности?
— Вотъ тебѣ Никола Святитель…
— Ладно. Ты — малый вѣдь грамотный? Далъ мнѣ фельдмаршалъ нашъ Кутузовъ отвѣтное письмо къ командиру моему Денису Васильичу Давыдову. Меня францы, знаю, ни въ коемъ разѣ уже не помилуютъ. Ты же, яко агнецъ безгласный, ведомъ на закланіе; тебя чаша смертная, дастъ Богъ, еще минуетъ.
Говоря такъ, снялъ онъ съ ноги сапогъ, развернулъ онучу и оттуда сложенный листъ бумаги мнѣ подалъ.
— На-ка, прочитай, только чуръ, про себя. Что̀ тутъ написано — и мнѣ не вѣдомо, да и знать не надлежитъ.
— Такъ какъ же ты мнѣ-то, — говорю, — читать даешь?
— Читай, не разговаривай!
Сталъ я читать.
— Ну, что, — говоритъ, — разбираешь?
— Еще бы: писано четко писарской рукой.
— Ну, ну, читай, да не торопись, чтобы до послѣдняго слова все запомнить.
Дочиталъ я, вдругорядь перечелъ.
— Ну, что, запомнилъ?
— Кажись, да.
— „Кажись!“ Нѣтъ, голубчикъ, прочитай-ка еще въ третій разъ, да, какъ урокъ въ школѣ, самъ себѣ отвѣть…
Перечелъ я и въ третій разъ, — память-то у меня крѣпкая, — отъ начала до конца безъ запинки себѣ повторилъ.
— Теперь знаю, — говорю, — наизусть, какъ Отче нашъ.
— И благо.
Отнялъ у меня опять бумагу и на мелкіе кусочки изорвалъ.
— Такъ-то вѣрнѣе, — говоритъ. — У тебя еще отобрали бы, а что̀ въ памяти схоронено, того никто уже не отберетъ. Такъ вотъ, слушай мой наказъ: будешь на волѣ, первымъ дѣломъ постарайся на Смоленскую дорогу къ Денису Васильичу добраться. Доберешься — съ глазу-на глазъ передашь ему отъ слова до слова то̀, что̀ сейчасъ прочиталъ. Понялъ?
— Всѣ старанія приложу.
— И въ тетрадку свою, смотри, изъ тѣхъ словъ ни единаго не заноси.
— Зачѣмъ заносить, коли въ мозгу все вписано?
— То-то же. А то, не дай Богъ, еще кто прочитаетъ. Да вотъ еще что̀: оставлена у меня на Дону жена и дѣтки. На Донъ къ нимъ тебѣ, вѣстимо, не добраться. Но въ Дениса Васильича командѣ есть у меня землякъ, изъ одной же станицы, по имени Семенъ Мандрыка. Запомнишь.
— Семенъ Мандрыка? Не забуду.
— На всякъ случай въ тетрадку запиши. Ему-то вотъ и разскажешь все про меня, а онъ ужъ, какъ во-свояси на Донъ соберется, поклонъ посмертный мой семейкѣ моей отвезетъ.
И занотовалъ я себѣ для памяти онаго Семена Мандрыку. А про то̀, что̀ прочиталъ въ отвѣтномъ письмѣ кутузовскомъ, храненіе устамъ кладу, — ни единаго слова, на случай, что сія тетрадь кому-либо въ руки попадетъ.
Октября 2. „Смерть! Гдѣ твое жало? Адъ! Гдѣ твоя побѣда?“
Еще на разсвѣтѣ вывели насъ всѣхъ, 26 человѣкъ, изъ подвала.
— Братцы вы мои, — говоритъ Свириденко. — Смертный часъ нашъ пробилъ. Передъ Богомъ всѣ мы грѣшны, передъ смертью всѣ равны. Распрощаемся же какъ братья, да не помянемъ другъ друга лихомъ.
И перелобызались мы всѣ межъ собой со щеки на щеку, и погнали насъ изъ города въ чисто поле. Всѣ примолкли, въ землю очи потупили; одинъ только казакъ мой идетъ бодро-весело, солдатскую пѣсню про свѣтлѣйшаго напѣваетъ:
— Съ ума казакъ со страху спятилъ! — толкуютъ межъ собой конвойные.
— Про меня они, что ли? — спрашиваетъ Свириденко.
— Про тебя, — говорю: — что со страху, молъ, бодришься.
— Ахъ вы, францы-хранцы глупые, безмозглые! Казакъ Леонтій Свириденко да чтобы смерти устрашился? Вы за что деретесь? За злато-серебро, за звѣздочку да за своего Бову Королевича. Мы, казаки, за домъ свой, за жену да дѣтей деремся, за царя и вѣру православную. Гляньте-ка, какъ живутъ казаки на святомъ Дону: подымется парень на ноги — ужъ сидитъ онъ на конѣ борзомъ, скачетъ по полю, забавляется, копьемъ острымъ потѣшается, силы-крѣпости набирается, чтобы съ непріятелемъ поразвѣдаться, умереть за землю русскую. Придетъ время добру-молодцу, по приказу царя бѣлаго, собираться въ путь на нехристей, — нашъ казакъ того только и ждалъ. Молода жена коня его ведетъ, дѣти саблю и копье несутъ, а старикъ-то со старухою — избави Боже, чтобъ заплакали. Заведутъ сына во зеленый садъ, перекрестятъ до Троицы и дадутъ ему Ангела-Хранителя. „Ты служи, сынъ, вѣрой-правдою; добывай себѣ славы-почести, насъ утѣшь-ли, стариковъ сѣдыхъ“. — У старухи все ужъ уготовано: сшита сумочка изъ бархата, изъ того, что̀ сорвалъ мужъ съ плечъ паши турецкаго, а повѣшена та сумочка на шелко́вомъ, тонкомъ поясѣ красной дѣвушки-черкешенки. Какъ беретъ старикъ тутъ горсть сырой земли, кладетъ въ сумочку ту бархатную: „Вотъ тебѣ, сынъ, благословеніе, вотъ земля тебѣ отъ Дона тихаго: съ ней живи весь вѣкъ свой и умри на ней“…
Слушаемъ мы всѣ казачью отповѣдь конвойнымъ — заслушались; слушаютъ и сами конвойные — переглядываются, плечами пожимаютъ.
А вотъ мы и въ полѣ. Общая для всѣхъ насъ яма на сонъ вѣчный уже вырыта, передъ ямой столбъ водруженъ. Противъ столба взводъ стрѣлковъ подъ ружьемъ стоитъ, съ флангу юный сулейтенанть — по нашему подпоручикъ — съ бумагами въ рукахъ, а въ сторонѣ заслуженный толстякъ-маіоръ съ саблей на-голо…
Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя! Не вниди въ судъ съ рабомъ Своимъ…
— Г-нъ сулейтенантъ! сдѣлайте перекличку, — говоритъ маіоръ.
Тотъ по списку всѣхъ 26 человѣкъ выкликаетъ, а у самого голосъ такъ и звенитъ. Всѣ на лицо.
— Теперь прочитайте имъ приговоръ.
Принимается тотъ читать, весь какъ полотно поблѣднѣлъ, словно собственный свой приговоръ читаетъ; голосъ обрывается, подбородокъ трясется, бумаги въ рукахъ ходуномъ ходятъ.
Гляжу я на него, слышу его голосъ, но, какъ въ безпамятствѣ, словъ его въ толкъ не возьму. Въ глазахъ мутится, колѣни подгибаются…
— Сержантъ! — кричитъ маіоръ. — Смотри-ка: малый сейчасъ упадетъ.
Сержантъ подхватываетъ меня подъ руки, и кого же тутъ я узнаю въ немъ? Сержанта Мушерона, съ коимъ не видѣлся съ достопамятнаго Бородинскаго боя! И онъ тоже призналъ меня;
— Андре́! монъ пти буржуа!
Подошелъ къ маіору, тихонько ему что-то рапортуетъ.
— Нѣтъ, нѣтъ! — говоритъ маіоръ. — Приговоръ императоромъ уже конфирмованъ.
Мушеронъ мой, однако, не унимается:
— Помилуйте, г-нъ маіоръ! Вѣдь онъ рѣшительно ни въ чемъ не повиненъ. Лейтенантъ д’Орвиль вамъ подтвердитъ, что взялъ его съ собой изъ Смоленска. Передоложили бы вы генералу Бертье…
Закряхтѣлъ толстякъ: очень ужъ солоно ему, видно, имѣть дѣло съ главнымъ адъютантомъ Наполеона.
— Все равно вѣдь, — говоритъ, — ни къ чему.
— По крайней мѣрѣ на душу себѣ г-нъ маіоръ грѣха не возьметъ.
— Ну, хорошо. Отведи его въ сторону.
— Постой, другъ! — кричитъ мнѣ тутъ Свириденко. — Тебя никакъ простили?
— Простить еще не простили, — говорю: — отсрочку даютъ, доколѣ не передопросятъ.
— А передопросивши, смилуются. Скажи же имъ, что я казацкую одежу мою тебѣ оставляю: въ могилу со мной лишь бы ледунку съ землей родной положили.
— Что̀ у нихъ тамъ еще, Мушеронъ? — кричитъ маіоръ.
— Такъ и такъ, — говорю.
А Мушеронъ:
— Смѣю доложить г-ну маіору: казакомъ одѣться ни одинъ французъ все равно не захочетъ; французская же форма этого мальчика кому-нибудь изъ нашихъ еще пригодится.
— Хорошо, — говоритъ маіоръ. — Отведи-ка его подальше, чтобы обморока съ нимъ опять не случилось.
И отвелъ меня мой заступникъ за ближайшую погорѣлую избу. Присѣли мы на обугленное бревно и выжидаемъ. Вотъ ружейный выстрѣлъ, вотъ другой, третій и т. д.
— Двадцать пять! — сосчиталъ Мушеронъ и поднимается съ бревна.
Слезы ручьемъ у меня изъ глазъ.
— Ну, ну, ну! — говоритъ Мушеронъ. — Правосудіе того требовало. Благодари Бога, что самъ еще на землѣ, не подъ землей, и солнце на тебя свѣтитъ.
Не могу больше писать: силъ нѣтъ… До завтра.
•••
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
Октября 3. Платье Свириденкино примѣрилъ. За лѣто почти до его роста вытянулся; въ плечахъ да въ груди только мѣшковато; зато просторно. Спасибо, душа-человѣкъ! Вѣчная тебѣ память!
Было уже за полдень, когда мы съ толстякомъ-маіоромъ (фамиліи его не знаю) и Мушерономъ входили въ кремлевскій дворецъ. Въ пріемной толпа блестящихъ генераловъ и штатскихъ сановниковъ въ парадныхъ мундирахъ и напудренныхъ парикахъ. Передъ закрытою дверью на часахъ два великана-гренадера. Дежурный офицеръ намъ навстрѣчу.
— Что̀ вамъ угодно-съ?
— Мнѣ генералъ-адъютанта Бертье, — говоритъ маіоръ.
— Генералъ съ докладомъ у императора. Г-ну маіору придется свою очередь выждать.
Стали мы въ очередь. Тутъ растворяется съ шумомъ дверь изъ внутреннихъ покоевъ, и выбѣгаетъ впопыхахъ пожилой господинъ, красный какъ изъ бани. За нимъ пажъ, приглашаетъ за собой очередного; другіе же обступаютъ краснаго господина.
— Что̀ съ вами, г-нъ баронъ? Что̀ васъ такъ взволновало?
Теперь и я его узналъ: императорскій генералъ-штабъ-докторъ баронъ Ларрей.
— Да какъ тутъ, господа, не волноваться! — говоритъ онъ и, быку разъяренному подобно, глазами вращаетъ. — На рукахъ слишкомъ двѣ тысячи тяжело раненыхъ — и бросай ихъ на произволъ непріятеля!
— Какъ такъ? почему?
— Да потому, что тащить ихъ съ собой черезъ всю Россію и Германію до Франціи, изволите видѣть, лишняя обуза.
— Что̀ вы говорите? Мы уходимъ? И безъ сраженія? Быть того не можетъ! Никогда того еще не бывало!
— Не бывало, а вотъ теперь дождались. Уфъ! Въ себя еще все не могу придти…
— Да говорите же, г-нъ баронъ, говорите: что̀ у васъ было тамъ съ императоромъ? Или это государственная тайна?
— Какая ужъ тайна: не нынче — завтра все равно всему свѣту извѣстно станетъ. Доставили мнѣ въ лазаретъ умирающаго русскаго офицера. Всякій паціентъ, — французъ онъ или русскій, — для меня не другъ и не врагъ, а мой ближній, нуждающійся въ моей врачебной помощи. У этого пуля задѣла сердце и застряла въ легкихъ. Все, что̀ можно было сдѣлать, это унять хоть нѣсколько боль, пока онъ не истечетъ кровью. Часъ тому назадъ онъ мнѣ и говоритъ:
„— Свѣча моя, я чувствую, догораетъ. Скажите же мнѣ на совѣсть, докторъ: скоро ли конецъ?
„— А вамъ, — говорю, — на что̀ знать? Если вамъ надо сдѣлать еще какія-нибудь семейныя распоряженія, то, дѣйствительно, не мѣшало бы поторопиться.
„— Семейства у меня къ счастью, — говоритъ, — нѣтъ; родители померли; я совсѣмъ одинокъ.
„— Такъ на что же вамъ?
„— А на то, чтобы спасти еще во-время отъ вѣрной смерти тысячи здоровыхъ людей. Много ли дней мнѣ еще жить?
„Вижу, что молчать уже не приходится.
„— До ночи, надѣюсь, — говорю, — еще доживете.
„— Значитъ, каждая минута дорога́. Дайте же совѣтъ вашему Наполеону уходить поскорѣе изъ Москвы: мира съ нашей стороны онъ никогда не дождется.
„— Почему же нѣтъ? — говорю я на то. — Вѣдь князь Кутузовъ уже двѣ недѣли назадъ отправилъ въ Петербургъ къ императору Александру курьера съ письмомъ отъ нашего императора.
„Больной мой горько улыбнулся.
„— Съ тѣмъ письмомъ, — говоритъ, — что̀ г-нъ Лористонъ доставилъ нашему фельдмаршалу?
„— Ну да, — говорю. — И курьеръ, дѣйствительно, повезъ письмо въ Петербургъ: наши аванпосты задержали его по дорогѣ и нашли при немъ письмо.
„Больной опять усмѣхнулся.
„— Ахъ, докторъ, докторъ! Что вы такъ просты — не диво: вы — человѣкъ науки и не отъ міра сего. Но что столь опытный полководецъ, какъ вашъ Наполеонъ, попался на такую удочку — удивленія достойно. Курьеръ съ тѣмъ письмомъ былъ отправленъ по большому тракту съ нарочитою цѣлью, чтобы его по пути перехватили и ожидали отвѣта изъ Петербурга; а въ то же самое время другой курьеръ поскакалъ окольнымъ путемъ и повезъ другое письмо о томъ, чтобы государь нашъ не принималъ никакихъ условій и вообще ничего не отвѣчалъ на первое письмо, Такъ какъ Наполеонъ, зазимовавъ въ Москвѣ и не имѣя ни дровъ, ни припасовъ, до весны навѣрно погибнетъ со всей своей арміей отъ холода и голода.“
Тутъ вся толпа вокругъ Ларрея зѣло возмутилась.
— Ужъ этотъ Кутузовъ! старая лиса! Чтобы его громомъ убило!
А меня такъ и подмывало сказать на то:
„А ля герръ комъ а ля герръ!“
— Ну, а дальше-то что̀ же, г-нъ баронъ, — говорятъ, — дальше что̀?
— Дальше спрашиваю я моего больного, какъ это онъ, офицеръ русской службы, выдаетъ мнѣ, непріятелю, тайну своего главнокомандующаго. Вѣдь я, по долгу вѣрноподданнаго, обязанъ сообщить ее моему императору.
„— Затѣмъ-то, — говоритъ, — я вамъ и выдалъ. Теперь я уже не воинъ, а умирающій, такой же мирный, какъ и весь нашъ народъ русскій. Что за польза, что за радость доброму христіанину, что полмилліона чужого народа раньше времени ляжетъ въ могилу? Уходите себѣ съ Богомъ, живите у себя дома для своей родины, для своей семьи, пока самъ Господь не призоветъ васъ къ себѣ. И нашихъ русскихъ сохранятся точно такъ же многія тысячи отъ насильственной смерти, никому не нужной, кромѣ вашего Наполеона.
„— Такъ-то такъ, — говорю я ему на это, — и вашу христіанскую точку зрѣнія я, мирный человѣкъ, прекрасно понимаю. Но императоръ Наполеонъ — военный геній: воюетъ онъ не ради одной только своей военной славы, но и ради блага человѣчества, — для насажденія въ чужихъ странахъ истиннаго просвѣщенія, а Россія ваша — страна варварская…
„Тутъ, господа, мой паціентъ сталъ возражать мнѣ такими убійственными резонами, что я не рѣшаюсь даже повторить ихъ. Его величество, которому я счелъ, однако, долгомъ передать все дословно, до того на меня разгнѣвался…“
Но отдѣлаться такимъ образомъ Ларрею уже не дали: къ нему пристали со всѣхъ сторонъ:
— Говорите, г-нъ баронъ, говорите! Разъ начали, такъ договаривайте. Какіе резоны могли быть еще у вашего паціента?
— А вотъ какіе: „Когда Наполеонъ, — говоритъ, — сражался подъ пирамидами, онъ чтилъ вѣру туземцевъ-мусульманъ, оказывалъ мулламъ ихъ всякія поблажки, такъ что они уже думали, что онъ самъ готовъ принять исламъ. Въ Германіи онъ уважалъ одинаково религію какъ католиковъ, такъ и протестантовъ. А вступивъ въ Россію, онъ точно забылъ, что русскіе вѣруютъ въ того же Христа, храмы наши онъ обращаетъ въ конюшни, своимъ солдатамъ не препятствуетъ срывать ризы со святыхъ иконъ. Начиная настоящую кампанію, онъ не далъ себѣ даже труда мало-мальски изучить нравы и характеръ русскаго народа и вводитъ у насъ такіе порядки, которые для насъ, русскихъ, вовсе не пригодны. Мудрено ли, что русскій народъ, по природѣ добродушный и миролюбивый, воспылалъ къ нему и ко всѣмъ французамъ горячею ненавистью? Скажите же ему, что своимъ „просвѣщеніемъ“ онъ русскихъ никогда не примиритъ, не просвѣтитъ, а самъ себѣ только роетъ могилу.“
— И все это, г-нъ баронъ, вы имѣли смѣлость передать его величеству?
— Молчать я не могъ, не считалъ себя вправѣ.
Въ это время изъ внутреннихъ покоевъ въ пріемную вошелъ преважный генералъ; это долженъ былъ быть самъ Бертье, потому что всѣ разомъ двинулись къ нему съ поклонами.
— Потомъ, господа, потомъ! — отмахнулся онъ и обратился къ Ларрею: — Вы еще здѣсь, г-нъ баронъ? Его величество желаетъ снова переговорить съ вами.
Вслѣдъ за Ларреемъ онъ хотѣлъ вернуться также къ своему императору. Но толстякъ-маіоръ загородилъ ему дорогу:
— Одно слово, г-нъ генералъ.
И, указавъ на меня и Мушерона, онъ сталъ ему что-то нашептывать. Бертье хмурился, сердито на насъ обоихъ посматривалъ; потомъ кивкомъ подозвалъ меня къ себѣ.
— Вы, въ самомъ дѣлѣ, изъ Смоленска?
— Изъ Смоленска. Противъ своего желанія служу переводчикомъ.
— Съ вами, простите, вышла маленькая ошибка…
Съ сердцовъ такъ бы ему даже въ ухо заѣхалъ!
— Ошибка самая маленькая, — говорю: — чуть-чуть мнѣ жизни не стоила.
Онъ ногою топнулъ. Не понравилось: правда глаза рѣжетъ.
— Убрать его къ другимъ казакамъ!
Сказалъ и исчезъ аки бѣсъ, крестнымъ знаменіемъ опаленный.
Такъ-то вотъ я второй уже день съ сотней „плѣнныхъ“ казаковъ въ большомъ сараѣ заключенъ: есть межъ нихъ и купцы московскіе, и крестьяне пригородные, и дворовые люди, но разъ бородатые, то для французовъ все казаки!
•••
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Октября 6. Солдатъ, что̀ намъ хлѣбъ и воду приносилъ, спрашиваетъ меня нынче, далеко ли отъ Москвы село Тарутино.
Слышалъ я еще отъ лейтенанта д‘ Орвиля, что король неаполитанскій Мюратъ по Рязанской дорогѣ около села Тарутина лагеремъ стоитъ.
— А что, — говорю, — не было ли тамъ сраженія?
— Кто тебѣ говорилъ?
— Ага! стало быть, было? И что же, самого Мюрата, въ плѣнъ забрали?
Волкомъ на меня глянулъ, зубами ляскаетъ.
— Ну, въ плѣнъ-то онъ не дастся, — не таковъ, хоть и въ одной рубашкѣ изъ палатки выскочилъ.
— Вотъ такъ та̀къ! Но лагерь его значитъ, весь разгромили?
— Не диво, — говоритъ, — разгромить, коли ночью среди лучшаго сна напали. Да кто же такъ дѣлаетъ! Но это вамъ, русскимъ, такъ не пройдетъ. Иванъ Великій вашъ со всѣмъ Кремлемъ взлетитъ теперь на воздухъ!
— Ну, это была бы дьявольская месть — разрушить нашу народную святыню; сдѣлать это и Наполеонъ вашъ не посмѣетъ.
— „Не посмѣетъ“! Коли маршалу Мортье отданъ уже приказъ: какъ только мы уйдемъ изъ Москвы…
Спохватился онъ тутъ, что проболтался, прикусилъ языкъ и, ворча, убрался вонъ.
Совѣты доктора Ларрея Наполеону не пропали, значитъ, даромъ. А что же съ нами-то, съ плѣнными, станется? Разстрѣляютъ насъ также или съ собой уведутъ?
Такъ и призвалъ бы на уходящихъ гнѣвъ Божій по псалму Ломоносова:
•••
На привалѣ, октября 7. Еще третьяго дня, оказывается, наканунѣ Тарутинскаго дѣла, кавалерія вице-короля итальянскаго Евгенія Богарне́ и пѣхота генерала Брусье ушли яко бы на развѣдки; а Тарутино къ общему отступленію всѣхъ двадесяти язы́ковъ послѣдній толчокъ дало.
Съ ранняго еще утра сегодня двинулся Даву, за нимъ самъ, потомъ Ней, а мы, плѣнные, въ хвостѣ. Стало быть, не разстрѣляютъ; и за то спасибо! Остается въ Москвѣ покамѣстъ одинъ Мортье съ гарнизономъ въ 8000, будто бы для охраны жителей, а на самомъ дѣлѣ, пожалуй, и вправду, чтобы Кремль взорвать. Да все какъ-то не вѣрится еще въ такое варварство!

Съ картины В. В. Верещагина.
Идемъ мы не прежней уже Смоленской дорогой, гдѣ все сожжено и разорено, а внутрь Россіи на Калугу: край-де изобильный, житница Россіи. Погнали насъ, плѣнныхъ, хоть и послѣдними, но, будучи налегкѣ, мы обгоняемъ одну воинскую часть за другою. У каждой вѣдь роты безконечный обозъ съ „военной добычей“, у каждаго офицера тоже по нѣскольку колясокъ и подводъ, до верху нагруженныхъ. Теперь вотъ и насъ затерло, стоимъ уже съ часъ времени на одномъ мѣстѣ. Проходитъ артиллерія, но и ей не пробраться изъ-за четырехъ рядовъ повозокъ. Всѣ другъ друга торопятъ и сами тѣснятъ, заграждаютъ. Въ воздухѣ гамъ и брань гуще пыли стоитъ.
Только намъ, плѣннымъ, не къ спѣху; куда намъ торопиться? При уходѣ изъ Москвы роздали намъ, вмѣсто одного фунта, по три фунта хлѣба, съ упрежденіемъ, чтобы раньше трехъ дней новой раздачи не ожидали. Но, наголодавшись, о завтрашнемъ днѣ мало кто заботится: кто изъ трехъ своихъ фунтовъ два уже покончилъ, а кто и послѣдній дожевываетъ. Жуютъ и межъ собой о горестной судьбѣ своей бесѣдуютъ.
Одинъ лишь, пригорюнившись, въ сторонкѣ усѣлся, ни съ кѣмъ ни словечка, — не нашего поля ягода, барчукъ-ополченецъ; чуть пушокъ надъ губой пробивается. За его нелюдимость, да за руки бѣлыя, холеныя, другіе его „барышней“ прозвали. Я съ нимъ всего разъ заговорилъ, но онъ въ отвѣтъ мнѣ только „да“ да „нѣтъ“. Жалко его, бѣдненькаго; но навязываться тоже не хочется.
А конвойные, закусывая, достаютъ изъ своихъ ранцевъ манерки съ водкой, да при сей оказіи высыпаютъ на земь и все содержимое ранцевъ, чтобы другъ передъ дружкой московскими „сувенирами“ похвалиться. Одинъ хвастаетъ золотымъ кубкомъ и китайской фарфоровой вазочкой, другой — жемчужнымъ медальономъ и брилліантовой генеральской звѣздой, а третій — золотымъ распятіемъ, драгоцѣнными камнями усыпаннымъ.
— Въ соборѣ съ алтаря снялъ! — говоритъ. — Старухѣ-матушкѣ на память везу.
— Да крестъ-то не нашъ католическій, а православный, — говоритъ другой. — Вотъ у меня памятка такъ памятка! Что̀ это, ну-ка? Ни за что не угадаете! Когда кровельщики съ Ивана Великаго золотой крестъ снимали, такъ крестъ съ вышины на мостовую грохнулся. А я тутъ по счастью какъ разъ на караулѣ случился. Вижу — отъ креста осколокъ; я его въ карманъ.
— Да это же не золото!
— Какъ не золото?
— А вонъ посмотри: на изломѣ серебро просвѣчиваетъ. Крестъ-то былъ, значитъ, серебряный, только сверху позолоченъ.
— Хоть бы и такъ; а я этого осколка и на вѣсъ золота не отдамъ.
— Пустой ты человѣкъ! Я вотъ своей невѣстѣ подвѣнечное платье раздобылъ. Укоротить только: боярыня, что̀ его носила, была, видно, богатырша.
— Ахъ ты, простофиля! Да вѣдь это амазонка для верховой ѣзды.
Кругомъ хохотъ. И женихъ смѣется:
— Ну, что жъ, на свадьбу верхомъ поѣдетъ…
•••
Октября 8. Подъ орудіями мостъ провалился. Пока саперы его чинятъ, мы на берегу сидимъ, у моря погоды ждемъ.
Конвойные костеръ развели, въ котлѣ похлебку рисовую варятъ. Ходятъ мимо и маркитантки, всякіе „деликатесы“ предлагаютъ. Только таковые не про насъ, оглашенныхъ: ни у кого гроша мѣднаго, — все отобрано. Смотримъ да облизываемся. У меня хоть еще горбушечка хлѣбная на черный день припрятана.
Оглянулся: гдѣ-то мой барчукъ-ополченецъ? Ковылялъ впередъ вѣдь черезъ силу: въ ногу раненъ; вѣрно, пуще разболѣлась. Анъ онъ, какъ приплелся, такъ и повалился; лежитъ съ закрытыми глазами, руку подъ щеку подложилъ; не шевельнется. Вспомнилось мнѣ тутъ, что одинъ изъ плѣнныхъ у него поутру остаточный хлѣбъ его выклянчилъ. Ужъ не съ голоду ли несчастный такъ ослабѣлъ?
Подошелъ я, спрашиваю:
— Послушайте: вы не спите?
Открылъ глаза, испуганно на меня уставился.
— Нѣтъ; а что?
— Не угодно ли? Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ.
Подаю ему свою горбушечку. Протянулъ онъ уже руку, но тотчасъ назадъ опять отдернулъ.
— Благодарствуйте, — говоритъ. — Я сытъ… Вотъ кабы воды глотокъ…
— Воды я сейчасъ достану.
Положилъ ему отвергнутую горбушку на колѣни, а самъ къ рѣчкѣ; зачерпнулъ воды полъ-шапки и — назадъ. А онъ, глядь, уже послѣдній кусочекъ въ ротъ суетъ. Устыдился, глупенькій, покраснѣлъ и поскорѣе водой запилъ. Чтобы его не смущать, я отошелъ прочь. Но когда въ путь опять тронемся, я его подъ руку возьму, чтобы легче идти ему было.
•••
Октября 9. Подружились. Сперва онъ не хотѣлъ на руку мою опираться, но потомъ согласился. Погода и дорога отчаянныя: дождь и слякоть. Но мы съ барчукомъ моимъ не унываемъ: разсказываемъ другъ другу о своихъ похожденіяхъ. Имя и отчество его — Сергѣй Александровичъ. Фамиліи своей онъ мнѣ какъ будто нарочно не называетъ; но не скрылъ, что изъ родовитыхъ дворянъ и что воспитывался въ Москвѣ во французскомъ пансіонѣ. Когда было объявлено народное ополченіе, онъ просился у родителей туда же. Его не пускали.
— Но какъ же не идти защищать отечество, — говоритъ онъ мнѣ, — когда всѣ идутъ! И я ушелъ тайкомъ, безъ родительскаго благословенія… И вотъ…
Онъ отвернулся, чтобы не показать мнѣ своихъ слезъ.
•••
Октября 10. Сегодня намъ объявили, что хлѣба уже не будетъ, что можемъ быть благодарны и за лошадиную падаль. Дѣло въ томъ, что обозныя лошади, изморенныя до-нельзя, не въ силахъ уже везти нагруженныхъ фуръ и падаютъ какъ мухи. И мы же, плѣнные, должны сдирать съ нихъ шкуру, жарить для себя ихъ мясо; но такъ какъ тѣми же кострами пользуются раньше французы, то намъ нѣтъ уже времени свое жарко́е хорошенько прожарить, и приходится ѣсть его полусырымъ, пропитаннымъ еще вдобавокъ дымною гарью. Я волей-неволей глоталъ эту мерзость: голодъ не тетка! Но Сергѣй Александровичъ давится каждымъ кускомъ и съ отвращеніемъ опять выплевываетъ.
Октября 11. Неожиданная встрѣча — докторъ де-ла-Флизъ! Ларрей поручилъ ему объѣздить всю линію. И вотъ, сегодня на привалѣ на глаза ему попался мой барчукъ.
— А, — говоритъ, — мосье Сержъ! Васъ тоже съ собой потащили? Ну, что̀ ваша нога? Дайте-ка осмотрѣть.
Осмотрѣлъ, обмылъ, перевязалъ.
— Будь вы еще въ Москвѣ, въ госпиталѣ, — говоритъ, — я положилъ бы вамъ ногу опять въ лубки, подвязалъ бы вверхъ холстинкой на блокѣ, — сразу легче бы стало. Ну, а на походѣ… Лазаретные фургоны у насъ своими переполнены… Еслибы кто могъ дѣлать вамъ хоть разъ въ день перевязку…
— Я буду дѣлать, — говорю. — Вы, г-нъ докторъ, меня, кажется, не узнали?
— Ба-ба-ба! Андре́! И васъ изъ Смоленска прихватили? Чѣмъ вы-то провинились?
— А вотъ спросите. Я и не сражался, а меня чуть-чуть не разстрѣляли.
— Охъ, да…
Оглядѣлся кругомъ, не услышатъ ли свои французы.
— Вотъ что, друзья мои, — говоритъ намъ шопотомъ: — вышелъ секретный приказъ по арміи — пристрѣливать всякаго плѣннаго, который отстанетъ отъ своей партіи на 50 шаговъ.
— Богъ ты мой! — говоритъ Сергѣй Александровичъ. — То-то мнѣ сдавалось, что позади насъ стрѣляютъ… Такъ это, стало быть… А съ моей ногой я далеко ужъ не протащусь…
— Нѣтъ, мой милый, — говорю я ему, — если нужно, я взвалю васъ себѣ на плечи. Но скажите, г-нъ докторъ, зачѣмъ отсталыхъ пристрѣливать? Они же безопасны. Это безчеловѣчно!
Де-ла-Флизъ плечами пожалъ.
— Отдохнувъ, — говоритъ, — они могутъ стать опять опасными.
— Да вѣдь этакъ до Парижа половину изъ насъ перестрѣляютъ!
Онъ усмѣхнулся, но досадливой, недоброй усмѣшкой.
— Что жъ, — говоритъ, — всѣхъ васъ двѣ тысячи; одна тысяча все-таки доплетется до Парижа: надо же показать тамъ, что мы не даромъ побывали въ Россіи! Эхъ, господа, какъ вы оба недогадливы! Неужели вы не поняли, для чего я вамъ разсказалъ про секретный приказъ?
— Для того, чтобы мы бѣжали изъ плѣна? — говоритъ Сергѣй Александровичъ. — Да куда мы убѣжимъ? Мы не знаемъ даже, гдѣ наша армія.
— Она близко — у Малоярославца. На завтра ожидаютъ генеральнаго сраженія. Въ общей суматохѣ вашего ухода никто не замѣтитъ… Однако я заболтался. Прощайте, господа. Храни васъ Богъ!
Непріятель тоже, а что за славный человѣкъ!
Въ секретномъ приказѣ мы вскорѣ убѣдились на дѣлѣ. Только двинулись опять въ путь, прошли версты двѣ, какъ вдругъ за нами выстрѣлъ. Оглянулись: нашу партію нагоняетъ конвойный, на бѣгу ружье заряжаетъ: кто-нибудь, значитъ, отсталъ на 50 шаговъ…
•••
(Далѣе рукопись сильно подмочена, и многаго не разобрать. Есть, однако-жъ, связныя фразы и болѣе или менѣе цѣльные отрывки, такъ что общая связь существенно не нарушена.)
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
— У меня, — говоритъ, — нѣтъ братьевъ; а у васъ?
— У меня тоже нѣтъ.
— А вы мнѣ теперь все равно что братъ родной! Такъ будемъ же съ этой минуты на „ты“?
— Но я, — говорю, — не изъ благородныхъ…
— Вы лучше многихъ такъ-называемыхъ „благородныхъ“: вы благородны душой. Значитъ, „ты“; хорошо?
— Хорошо; но по имени намъ какъ другъ друга звать?
— Да какъ насъ дома называли. Тебя вѣрно Андрюшей?
— Андрюшей.
— Ну, а меня Сережей. Такъ и для тебя я Сережа.
И обнялъ меня, поцѣловалъ троекратно…
… Отстали мы съ нимъ отъ партіи уже шаговъ если не на всѣ 50, то на 30.
— Дальше не могу… — говоритъ Сережа. — Оставь меня здѣсь и уходи одинъ…
— Нѣтъ, — говорю, — я отъ тебя уже ни шагу.
— Ну, милый, пожалуйста! Вѣдь и тебя прикончатъ. Вотъ и конвойный съ ружьемъ…
Тогда я, безъ дальнихъ словъ, взялъ его какъ ребенка, на руки и — въ сторону лѣса. Въ догонку мнѣ выстрѣлъ конвойнаго.
Я все впередъ, увязаю въ снѣгу. Сзади французская брань. Оглянулся: насъ догоняетъ уже не одинъ конвойный, а двое, за ними еще третій.
Вдругъ изъ опушки выступаетъ сѣдовласый попъ съ крестомъ въ рукахъ, за нимъ десятокъ мужиковъ съ дубинами.
Но первый конвойный меня уже настигъ и прикладомъ, какъ обухомъ, по головѣ. Я падаю вмѣстѣ съ Сережей. Меня хватаютъ и толкаютъ въ спину:
— Марше́! марше́!
Третій конвойный, отставшій отъ товарищей, стрѣляетъ по крестьянамъ, а самъ бѣжитъ также назадъ. Крестьяне его уже не преслѣдуютъ, а подбираютъ бѣднаго Сережу. Онъ спасенъ. Слава Тебѣ, Боже!
… Разставили часовыхъ, развели костры. Со стороны Малоярославца все чаще „бумъ!“ да „бумъ!“. Бой, видно, все жарче разгорается. А я думаю о моемъ названномъ братѣ; попъ его вѣрно у себя пріютилъ, отправитъ домой къ родителямъ… Суждено ли намъ съ нимъ еще когда свидѣться?..
… вихремъ налетѣли; самъ Платовъ впереди…
… конвойныхъ и слѣдъ простылъ. Пока что, однако-жъ, самому Платову еще не до меня…
… — А партизанъ-то Сеславинъ, — говоритъ, — по пути къ Малоярославцу Наполеона первымъ вѣдь углядѣлъ.
— Какъ такъ?
— Да такъ, что высматривалъ непріятеля съ верхушки дерева. Глядь: карета съ конвоемъ гренадеровъ въ мохнатыхъ шапкахъ. Ну, стало Самъ! Спустился съ дерева да на коня. А одинъ ихъ унтеръ отсталъ отъ кареты. Сеславинъ арканомъ его къ себѣ притянулъ, по рукамъ, по ногамъ скрутилъ голубчика, черезъ сѣдло перекинулъ и — въ главную квартиру…
… — А Милорадовичъ-то переходъ въ 50 верстъ до Малоярославца въ одинъ день совершилъ. Свѣтлѣйшій его обнялъ. „Ты ходишь, — говоритъ, — скорѣе, чѣмъ ангелы летаютъ!“
— Такъ дрались, значитъ, отчаянно?
— И-и! За день городъ восемь разъ, почитай, переходилъ изъ рукъ въ руки. Теперь наша армія каменной стѣной стоитъ, и на Калугу путь имъ отрѣзанъ: не угодно ли, господа, на разоренную Смоленскую дорогу!
— А новаго боя Кутузовъ имъ не предложитъ?
— Его спрашивали, не добьетъ ли онъ ихъ. „Зачѣмъ, — говоритъ, — проливать лишнюю кровь? У нихъ и безъ того все само собой развалится“…
… Платовъ рветъ и мечетъ.
— Такіе вы, сякіе! — говоритъ, — а еще донцы! Вѣдь сказано вамъ было, что кто мнѣ доставитъ Бонапартишку, живого или мертваго, за того, будь онъ хоть простой казакъ, дочь свою любимую, единственную, замужъ выдамъ. Такъ нѣтъ же, на золото проклятое позарились!
И, въ самомъ дѣлѣ, какъ ему не досадовать: въ ночномъ поискѣ донцы его у непріятельской артиллеріи 40 орудій уже отбили. За орудіями же, какъ на грѣхъ, императорскій обозъ идетъ. Накинулись донцы на обозъ, а въ обозѣ-то боченки съ золотомъ. Тутъ уже не до орудій! А на помощь обозу, откуда ни возьмись, Наполеоновы гренадеры и конница. Забрали донцы золото, прихватили 11 орудій, знамя и одного плѣннаго французика — да и на попятный. А отъ того плѣннаго потомъ узнали, что гренадеры да конница сопровождали самого „Бонапартишку“: объѣзжалъ онъ, вишь, свои позиціи послѣ вчерашняго боя. И его-то они изъ-за золота изъ рукъ упустили! Ужасно обидно…
… Хоть и атаманъ онъ своихъ донцовъ, но мнѣ не начальникъ, и я настоялъ на своемъ.
— Простите, — говорю, — генералъ, но инструкція была секретная…
— Настаивать, — говоритъ, — я не стану. Секретныя инструкціи главнокомандующаго другимъ начальникамъ меня не касаются. Но за уходомъ непріятеля изъ Москвы, думается мнѣ, та инструкція Давыдову уже запоздала.
— Не смѣю судить, — говорю. — Но Свириденко передъ смертью съ меня клятву взялъ..
— Хорошо, — говоритъ. — Съ моей стороны препонъ тебѣ не будетъ. Бери себѣ коня. Вѣдь на конѣ сидѣть умѣешь?
— И скакать могу хоть безъ сѣдла.
— А на сѣдлѣ тѣмъ паче? Ну, а кони наши казацкіе — добрые. Добрый конь всаднику увѣренность и смѣлость придаетъ. Налетишь на вражескую цѣпь, — съ пикой сквозь всю цѣпь стрѣлой проскочишь.
— Пики-то, — говорю, — у меня нѣтъ…
— Что-жъ, и пику тебѣ, такъ и быть, дадимъ. Но коли тебѣ ѣхать къ Денису Васильичу, такъ мѣшкать уже не приходится. Съ дороги врядъ ли собьешься: возьмешь отсюда прямо на Можайскъ…
— А отъ Можайска на Бородино и Гжатскъ дорога знакомая. А что̀ отъ васъ, генералъ, Денису Васильичу сказать прикажете?
— Скажи, что у меня теперь 15 казачьихъ полковъ; что партизаны Сеславинъ, Кайсаровъ, Фигнеръ, князь Кудашевъ, Ефремовъ со своими летучими отрядами точно такъ же тѣснятъ непріятеля денно и нощно со всѣхъ сторонъ. Когда Бонапартъ бросится бѣжать на Можайскъ и Вязьму, — а будетъ то не нынче-завтра, — такъ не дадимъ ему передышки, пока не доконаемъ. Самому же Денису Васильичу главнокомандующій секурсу два казачьихъ полка посылаетъ…
… Переночевалъ въ крестьянскомъ овинѣ. Давно не спалъ такъ сладко, ибо ложемъ снопы овсяные служили. Коня тѣмъ же немолоченнымъ овсомъ накормилъ…
… Бородинское поле — поле мертвыхъ! Куда ни глянешь — неприбранныя тѣла; русскіе и французы лежатъ мирно рядомъ. Тутъ же лошади, подбитыя орудія… И вездѣ-то передъ тобой воронье поганое стаей взлетаетъ! А вонъ и вороньё человѣческое — мародеры: обшариваютъ павшихъ. Налетѣлъ я съ пикой, гикнулъ по-казацки, одинъ поганецъ на колѣни:
— Пардонъ! пардонъ!
У страха глаза велики. А прочіе кто куда вразсыпную:
— Казакъ! казакъ!..
•••
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
А передъ въѣздомъ въ село отъ околицы къ околицѣ „застава“: путь бревнами загороженъ, и два дюжихъ мужика карауломъ стоятъ: одинъ, молодой, — съ здоровенной палицей, другой, степенный старикъ, — съ ружьемъ.
— Стой! — кричатъ мнѣ и оружіемъ потрясаютъ. — Кто такой и куда ѣдешь?
Пока имъ отвѣтъ держу, изъ села на ихъ окрикъ толпа высыпала — не одни мужики, — и бабы. Всѣ тоже вооружены кто чѣмъ: ружьями, дрекольями, вилами, топорами.
Какъ узнали, что я къ казачьему начальнику Давыдову, бревна тотчасъ отвалили, а староста, — старикъ съ ружьемъ, — въ избу къ себѣ отдохнуть зазвалъ.
— Намъ отъ самого Дениса Васильича, — говоритъ, — наказъ строгій данъ — никого безъ опроса мимо не пропускать. Мало ли этихъ міродеровъ, съ убитыхъ нашихъ одежу обобравши, солдатами русскими переодѣваются! „Попадется вамъ, молъ, такой ряженый басурманъ, такъ вы его живо прибирайте. А буде ихъ цѣлая ватага нагрянетъ, то принимайте ихъ ласково, какъ дорогихъ гостей, въ ноги имъ кланяйтесь, пирогами кормите, виномъ-пивомъ поите, а сами тѣмъ часомъ трехъ-четырехъ парней своихъ верхомъ на коней, чтобы искать меня во всѣ стороны скакали; я, молъ, васъ уже выручу. Богъ велитъ православнымъ христіанамъ не выдавать другъ друга чадамъ антихриста“…

Съ картины И. Прянишникова.
— И ружья вамъ, — говорю, — онъ же роздалъ?
— Нѣтъ, ружья-то на свои кровныя денежки купили; да по сходной цѣнѣ: по 10 копѣекъ штука.
— Какъ по 10 копѣекъ? Кто же вамъ такъ дешево ихъ отдавалъ?
— А свой же братъ, крестьяне: на Бородинскомъ полѣ подобрали.
— У васъ, — говорю, — и бабы, я вижу, воюютъ.
— А какъ же. Вѣдь вонъ старостиха Василиса во французской шинели ходитъ, съ французской саблей черезъ плечо; цѣлую шайку міродеровъ въ полонъ, слышь, взяла. Фельдмаршалъ Кутузовъ ей за это и Егорія пожаловалъ. Вотъ нашимъ бабамъ и завидно, особливо невѣстушкѣ.
Самъ, ухмыляясь, молодой невѣстушкѣ подмигиваетъ, а та рукавомъ закрывается.
— Ну, тебя! — говоритъ. — Другія бабы съ ребятами въ лѣсу укрываются; а я отъ мужа ни на шагъ.
— Молодца! Тоже, какъ Василиса, Егорія заслужишь…
… Сталъ меня тутъ Денисъ Васильевичъ обо всемъ разспрашивать. Когда я ему разсказалъ, какъ крестьяне меня у своей „заставы” задержали, —
— Меня самого, — говоритъ, — на первыхъ порахъ пропускать не хотѣли. Гусарскій ментикъ мой за французскую форму принимали.
„— Да развѣ я съ вами, братцы, не русскимъ языкомъ говорю?
„— Мало ли у нихъ, батюшка, всякаго сброду люди!
„Вижу, надо мнѣ къ ихъ одежѣ и обычаямъ приноровиться. Самъ надѣлъ тоже мужицкій кафтанъ, отпустилъ бороду, вмѣсто ордена Св. Анны повѣсилъ образъ Николая Чудотворца и заговорилъ съ ними ихъ же простонародною рѣчью. Теперь я у нихъ свой братъ, батюшка Денисъ Васильичъ. Приходятъ ко мнѣ со всякими просьбами…“
— И у меня къ вамъ, Денисъ Васильичъ, — говорю, — была бы просьбица…
— Если исполнимая, то отчего же? исполню.
— Возьмите меня къ себѣ добровольцемъ!
— Гм… Да вѣдь воинскимъ оружіемъ владѣть ты еще не обученъ?
— На Бородинскомъ полѣ своей пикой на мародеровъ какого страху нагналъ!
— Ну, то уже не воины! — воро́ны, а пуганая ворона и куста боится.
— Но хотѣлось бы тоже отечеству послужить…
— Такъ можешь состоять при сотникѣ Мотылевѣ, который плѣнными вѣдаетъ…
… Сопровождалъ съ молодымъ казачьимъ сотникомъ Мотылевымъ въ Юхновъ партію плѣнныхъ „францевъ“. Дорогой съ нимъ разговорились. Мотылевъ не можетъ нахвалиться своимъ лихимъ командиромъ: самъ вездѣ первый впереди, а людей своихъ бережетъ. Задача Давыдова, какъ партизана, не въ томъ, чтобы съ непріятелемъ въ открытый бой вступать, а въ томъ, чтобы всячески тревожить его и днемъ, и ночью, да отбивать непріятельскіе транспорты. Посему онъ безпрерывно передвигается съ мѣста на мѣсто. На случай встрѣчи съ превосходными силами условлено правило: по сигналу всѣмъ разсыпаться въ разныя стороны, каждому скакать самому по себѣ и затѣмъ пробираться окружнымъ путемъ къ общему сборному пункту — за 10, а то и за 20 верстъ.
— Денисъ Васильичъ, слышно, — говорю, — и стихи пописываетъ?
— Да еще какіе! — говоритъ Мотылевъ. — Душа у него на все отзывчивая. Въ мирное время онъ блага жизни воспѣвалъ: теперь — одну войну:
Запишу еще два случая изъ партизанской жизни Давыдова, разсказанные мнѣ Мотылевымъ: одинъ — забавный, другой — зѣло трогательный.
Взлѣзли два казака въ лѣсу на высокое дерево, чтобы слѣдить за непріятелемъ. Видятъ они тутъ въ прогалинѣ французскаго офицера: ходитъ себѣ по лѣсу беззаботно, какъ ни въ чемъ не бывало; въ рукахъ — ружье, черезъ плечо — охотничья сумка, а слѣдомъ — песъ лягавый. Дали своимъ свистъ. Тѣ тутъ же прискакали, окружили охотника, обезоружили, привели къ Денису Васильевичу.
— Позвольте отрекомендоваться: подполковникъ Давыдовъ. А я съ кѣмъ имѣю честь?..
— Полковникъ Гетальсъ 4-го Иллирійскаго полка.
— Радъ познакомиться. Нельзя ли полюбопытствовать, что̀ у васъ въ сумкѣ?
Глубоко вздохнулъ полковникъ.
— Убитая дичь… — говоритъ и достаетъ изъ сумки огромнаго тетерева.
— Славная штука, — говоритъ Денисъ Васильевичъ и бросилъ тетерева казаку, а тотъ его на пику подхватилъ. — Но какъ вы, г-нъ полковникъ, отъ своего батальона отбились?
— Несчастная страсть! — говоритъ. — Малерёзъ пассіонъ! Я — страстный охотникъ… Въ Москвѣ достался мнѣ прекрасный лягавый песъ; а въ здѣшнихъ лѣсахъ такая масса дичи…
— Что вы ушли впередъ отъ своихъ, чтобы немножко пострѣлять?
— Да… Малерёзъ пассіонъ!
— Ну, ребятушки! — говоритъ Денисъ Васильевичъ казакамъ. — Сейчасъ подойдетъ батальонъ этого полковника. Гайда, на коней и вразсыпную!
Налетѣли казаки съ разныхъ сторонъ на подходящихъ французовъ съ гикомъ и крикомъ „ура!“. Такого страху навели, что одни побросали оружіе, попросили пардону, числомъ 200 нижнихъ чиновъ и два офицера, другіе по лѣсу разметались.
Второй случай: шелъ изъ Варшавы подъ конвоемъ непріятельскій транспортъ съ новой одеждой и обувью для I Вестфальскаго гусарскаго полка. Какъ только показались казаки, почти весь конвой разбѣжался. Защищать транспортъ остался только молодой лейтенантъ съ десяткомъ такихъ же храбрецовъ. Отбивался онъ до тѣхъ поръ, пока не былъ раненъ. Когда его потомъ опять отправляли съ другими плѣнными въ Юхновъ, лейтенантъ этотъ (по фамиліи Тилингъ) принесъ жалобу Давыдову, что казаки у него карманные часы, деньги и кольцо отобрали.
— Часовъ и денегъ мнѣ не жалко, — говоритъ: — Господь съ ними! Но кольцо мнѣ тѣмъ дорого, что дома мнѣ его передъ походомъ подарила любимая дѣвушка.
— Храбрость и несчастье уважаются у насъ, русскихъ, не менѣе, чѣмъ въ другихъ странахъ, — сказалъ на то Денисъ Васильевичъ. — Казаки, что̀ отняли у васъ кольцо, теперь въ разъѣздѣ. Но какъ только вернутся, я допрошу ихъ и вышлю вамъ вещь, которою вы такъ дорожите.
И точно, у казаковъ нашлось не только отнятое кольцо: нашелся еще и локонъ волосъ, и пачка писемъ. Все это Давыдовъ отослалъ лейтенанту въ Юхновъ при любезной запискѣ…
•••
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Правду сказалъ Кутузовъ, что „великая“ армія и безъ насъ сама собой развалится. Отъ Малоярославца она на Можайскъ и Вязьму ударилась; какъ звѣрь затравленный, во всѣ стороны мечется и бѣжитъ уже безъ оглядки во-свояси по Смоленской дорогѣ. Самъ съ своей старой гвардіей во главѣ бѣглецовъ; остальныя полчища изъ-за безконечныхъ обозовъ на десятки верстъ растянулись. Бросить орудія великому полководцу зазорно, такъ обозныхъ лошадей для орудій выпрягаютъ; а лошади, на шипы неподкованныя, на мерзлой почвѣ скользятъ и падаютъ; упавши же, подняться уже не могутъ и другимъ путь заграждаютъ.
Наше дѣло партизанское — подгонять бѣгущихъ, подхлестывать, а гдѣ можно безъ урона — забирать и плѣнныхъ, особливо изъ отсталыхъ, что за хлѣбомъ по сторонамъ шатаются.
По ночамъ изрядно уже морозитъ.
— Только бы еще снѣжку, — говорятъ казаки: — по свѣжей порошѣ травить зайцевъ куда способно …
… Попалась намъ партія тяжело-раненыхъ непріятелей; руки къ намъ съ мольбой простираютъ, чтобы умилосердились.
Что же оказалося? Везли ихъ еще изъ подъ Малоярославца. Но здоровые товарищи изъ лазаретныхъ фургоновъ ихъ въ чистомъ полѣ высадили, чтобы въ тѣ фургоны свою добычу нагрузить и самимъ поскорѣе убраться по добру по здорову!
— Прикажете ихъ прикончить, ваше высокородіе? — спрашиваютъ казаки у Давыдова.
— Такихъ-то убогихъ? — говоритъ Давыдовъ. — Не изверги мы, а православные христіане. Лежачаго не бьютъ. Доставимъ ихъ въ ближайшую деревню; а тамъ пускай ужъ, какъ знаютъ, съ мужиками вѣдаются.
•••
Октября 23. Подъ Вязьмой, говорятъ, было жаркое дѣло съ корпусами вице-короля итальянскаго, Даву, Нея и Понятовскаго. Партизаны Сеславинъ и Фигнеръ поддерживали наши регулярныя войска.
— Экіе счастливцы! — вздыхаетъ Давыдовъ. — Ну, да и мы не зѣвали: въ общемъ взяли ужъ 4000 нижнихъ чиновъ и 43 офицера.
Не мало межъ плѣнныхъ и перебѣжчиковъ. Одинъ мнѣ разсказывалъ, будто Наполеонъ предлагалъ уже генералу Бертье принять командованіе всей арміей, но тотъ отвильнулъ; предлагалъ и другимъ, а тѣ:
— Ваше величество одни только своимъ присутствіемъ можете поднять упавшихъ духомъ.
— Но самъ-то онъ еще не палъ духомъ? — спрашиваю того перебѣжчика.
— Кто его вѣдаетъ! Въ теплой собольей бекешѣ, въ собольей боярской шапкѣ что̀ ему дѣлается? А надоѣстъ сидѣть въ коляскѣ, идетъ тоже пѣшкомъ…
— И саблей подпирается?
— Нѣтъ, березовымъ сукомъ: по гололедицѣ, того и гляди, еще поскользнется…
•••
Октября 24. Вчера первый снѣгъ пошелъ, а нынѣ густыми хлопьями уже валитъ. Дождались казаки своей пороши! …
•••
Октября 27. Пятый день снѣгъ, да какой! Мятелица такъ и вьетъ, такъ и вьетъ! По Смоленскому тракту цѣлыми холмами сугробы намело. Ледяной вѣтеръ въ деревьяхъ бушуетъ и свищетъ, сквозь бурку до костей пробираетъ. Морозъ-то вѣдь въ 20 градусовъ.
А съ непріятелемъ что̀ творится! Главная-то армія уже далеко за Вязьмой, пожалуй, и за Дорогобужемъ. Но отставшія части и завязшіе въ снѣгу обозы на каждомъ шагу еще попадаются. Посреди дороги и въ канавахъ опрокинутые фургоны, кареты и коляски. Иныя безъ лошадей: очевидно, отпряжены и увезены: передъ другими лежатъ лошади, еще въ упряжи, но окоченѣвшія; гдѣ морда, гдѣ ноги изъ-подъ снѣга торчатъ. Кругомъ же, подъ снѣжной пеленой, всевозможное награбленное въ Москвѣ добро: люстры, масляныя картины, книги въ богатыхъ переплетахъ. Развернулъ я одну съ золотымъ обрѣзомъ: не романчикъ ли? Анъ нѣтъ, философское сочиненіе нѣкоего Вольтера, — не про насъ писано!

Съ картины В. В. Верещагина.
А сами-то грабители, что̀ отбились отъ своихъ, въ разбродъ пѣшкомъ уже бредутъ, да словно въ маскарадъ собрались: кто въ одѣяло лазаретное закутанъ, кто въ салопъ женскій, кто въ рясу поповскую…
Это уже не враги, а просто жалкіе люди. Мало ли ихъ взято Наполеономъ противъ собственной воли прямо отъ сохи или отъ другого дѣла, увезены силой отъ своихъ семействъ. И вотъ, ни за что, ни про что, погибаютъ въ чужой странѣ!
Но, кромѣ пришлыхъ, есть и московскіе французы, сдуру послѣдовавшіе за великой арміей. Такъ въ одной каретѣ безъ лошадей найдены казаками три замерзшія женщины. По ихъ нарядамъ да брилліантамъ надо думать, что двѣ изъ нихъ были актрисы, а третья — ихъ горничная.
… Сейчасъ только хорунжій Крючковъ вернулся изъ поиска съ тремя сиротками: старшая дѣвочка-подростокъ несла на рукахъ трехлѣтнюю сестренку, а сзади восьмилѣтній братишка плелся и навзрыдъ плакалъ. Оба родителя ихъ дорогой замерзли. Денисъ Васильевичъ обогрѣть, накормить ихъ велѣлъ, а крестьяне уже въ городъ ихъ предводителю дворянства сдадутъ: пусть поступитъ съ ними, какъ знаетъ. Сами мы все впередъ, да впередъ, дабы скорѣе настигнуть нашу армію …
… Давыдовъ въ главную квартиру былъ вызванъ. Явился онъ туда, какъ былъ, въ своей походной мужицкой одеждѣ. Обошелся съ нимъ свѣтлѣйшій просто и ласково.
— Лично, — говоритъ, — я еще не знакомъ съ тобой, но прежде знакомства долженъ поблагодарить тебя за твою службу.
Сказалъ и крѣпко обнялъ.
— Удачные поиски твои, — говоритъ, — доказали мнѣ всю пользу партизанской войны.
Денисъ Васильевичъ извинился, что предсталъ въ столь неприглядномъ образѣ.
— Въ народной войнѣ, — сказалъ фельдмаршалъ, — сіе неизбѣжно и даже необходимо. Дѣйствуй, какъ дѣйствовалъ доселѣ, — головою и сердцемъ. Мнѣ нужды нѣтъ, что голова покрыта шапкой — не киверомъ, а сердце бьется подъ армякомъ — не подъ мундиромъ. Придетъ время — и ты будешь въ башмакахъ на придворныхъ балахъ.
Поразспросилъ еще обо всемъ, а потомъ и обѣдать къ себѣ зазвалъ, да такъ обласкалъ, что Денисъ Васильевичъ, памятуя пословицу: „куй желѣзо, пока горячо“, рѣшился каждому изъ своихъ офицеровъ по двѣ награды выпросить.
— Богъ меня забудетъ, если я такихъ молодцовъ забуду, — сказалъ Кутузовъ и тогда же подписалъ наградной списокъ …
… О, мой Смоленскъ, мой дорогой Смоленскъ, что съ тобою сталося!
Петербургскаго предмѣстья словно бы никогда и не бывало — одно снѣжное поле. По берегу Днѣпра разбитые фургоны, зарядные ящики, пушки и… неприбранныя тѣла! Кругомъ весь снѣгъ усѣянъ непріятельскими киверами, барабанами, саблями, ружьями, пистолетами.
Въ самомъ городѣ и изъ тѣхъ обывательскихъ домовъ, что̀ пощадилъ огонь при августовскомъ погромѣ, большая часть сожжена. На мѣстѣ прекраснаго каменнаго дома Толбухиныхъ точно такъ же однѣ толь развалины; не одну-таки слезу надъ ними пролилъ…
Мимо! прошедшаго не воротишь… Надо утѣшаться тѣмъ, что отечество спасено, и врагъ бѣжитъ.
Особой похвалы фельдмаршалъ удостоилъ гвардейскій корпусъ. Подъѣхавъ со свитой къ биваку гвардейцевъ, онъ такъ ихъ привѣтствовалъ:
— Здравствуйте, молодцы! Поздравляю васъ съ новой побѣдой! Вотъ и гостинцы вамъ везу.
А везли за нимъ отбитые у французовъ знамена съ орлами.
— Эй, кирасиры! Нагните орлы пониже: пусть кланяются молодцамъ! Графъ Платовъ доноситъ мнѣ, что взято 112 пушекъ и… сколько генераловъ? Не помните ли, генералъ?
— Пятнадцать, — отвѣтствуетъ генералъ Опперманъ.
— Слышите, друзья мои? Пятнадцать генераловъ! Ну, кабы у насъ столько же взяли, такъ много ли бы осталось? Пушки можно сосчитать на мѣстѣ, да и то не вѣрится. А въ Питерѣ скажутъ: „хвастаютъ!“ …
… Дабы раньше непріятельской арміи быть у Краснаго, мы форсированнымъ маршемъ обгоняемъ ее обходами …
… На разсвѣтѣ къ Денису Васильевичу вѣсть пришла отъ нашихъ разъѣздовъ, что колонны непріятельской пѣхоты, въ ожиданіи отставшаго хвоста, сдѣлали привалъ. Мы немедля на нихъ ударили, забрали въ плѣнъ еще двухъ генераловъ: Альмераса и Вюрта, и 200 солдатъ; захватили также 4 орудія и обозъ.
Къ полдню на большой дорогѣ показалась Наполеонова старая гвардія, и при ней онъ самъ. Но — удивленія достойно — сколько на нихъ ни налетали, ни гарцовали съ обоихъ фланговъ съ своими пиками удальцы-казаки, а императорскіе гренадеры, сей отборъ великой арміи, въ своихъ высокихъ медвѣжьихъ шапкахъ съ красными султанами, въ синихъ мундирахъ съ толстыми эполетами, шли себѣ сомкнутыми рядами, ни мало шагу не ускоряя. Презрительно лишь косились на гарцующихъ, яко бы на шалуновъ-мальчишекъ, да на ходу отстрѣливались.
Подоспѣлъ тутъ къ намъ сикурсомъ графъ Орловъ-Денисовъ съ ахтырскими гусарами и ординарцами лейбъ-гвардіи казачьяго полка. Тоже наскакивали и справа и слѣва, и такъ, и сякъ, но, волнамъ морскимъ подобно, отпрядающимъ отъ неколебимаго утеса, назадъ отскакивали. Отъ нашихъ пулей иные гренадеры хоть и падали, но товарищи на ходу ихъ подбирали и все тѣмъ же мѣрнымъ шагомъ впередъ да впередъ.
Самъ Денисъ Васильевичъ предъ таковою доблестью преклонился.
— Не даромъ, — говоритъ, — у нихъ и поговорка сложилась: „Гвардія умираетъ, но не сдается!“…
•••
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
Красный, ноября 6.
При Измаилѣ Магомета, а здѣсь, подъ Краснымъ, самого Бонапарта! Трое сутокъ онъ еще отбивался, но улыбавшаяся ему столько лѣтъ Фортуна навсегда уже ликъ свой отъ него отворотила. И бѣжитъ онъ, аки Каинъ, кровь брата пролившій, бѣжитъ безъ оглядки, отягчивъ свою совѣсть гибелью тысячей, сотней тысячъ братьевъ.
Брошенные имъ здѣсь, въ Красномъ, раненые, оборванные, голодные калѣки, толпятся подъ окнами Милорадовича, и милосердый врагъ кормитъ, призрѣваетъ ихъ.
Здѣсь же неожиданная встрѣча. На улицѣ меня окликаютъ:
— Андрей Серапіонычъ! Такъ вѣдь васъ, кажется?
Гляжу: поручикъ Шмелевъ! Разговорились.
— А васъ, Дмитрій Кириллычъ, — говорю, — я вижу, тоже Георгіемъ отличили?
— Самъ свѣтлѣйшій, — говоритъ, — въ Смоленскѣ вручилъ. Да радъ я не столько даже за себя, какъ за мою Вареньку: она такъ ужъ довольна, такъ счастлива!
— Стало быть, вы Варвару Аристарховну опять видѣли?
— Изъ Смоленска на нѣсколько часовъ въ Толбуховку слеталъ. Про васъ тоже спрашивала. А матушка ваша просила, буде съ вами повстрѣчаюсь, взять васъ подъ мою охрану. Отчего бы вамъ, въ самомъ дѣлѣ, не примкнуть теперь добровольцемъ къ нашему отряду?
— Да у меня, — говорю, — нѣтъ своей лошади…
— У меня есть запасная …

Съ картины П. Гесса.
… форсированнымъ маршемъ, но нагнать бѣгущихъ все еще не нагнали. Зато сколько отсталыхъ! Это уже не воины, даже не люди, а живыя привидѣнія, въ грязныхъ, на бивачномъ огнѣ прожженныхъ рубищахъ, висящихъ клочьями. На головѣ у иныхъ еще кивера, кирасирскія каски съ конскими хвостами, у другихъ собственные ранцы, женскіе платки, жидовскія ермолки. Ноги тряпками, рогожей обмотаны. И не одни нижніе чины въ такомъ образѣ плетутся, но и офицеры. Завидѣвъ насъ, эти отворачиваются: просить у „варваровъ“ пощады или помощи не дозволяетъ имъ гордость „великой націи“. Но солдаты руки простираютъ:
— Кліеба! кліеба!
Есть и такіе, что̀ уже проклинаютъ своего полу-бога-императора, а дезертиры изъ другихъ націй даже на службу къ намъ просятся …
… Всего ужаснѣе ихъ биваки послѣ ушедшей далѣе партіи. Издали уже слышно карканье и рычаніе; а подъѣдешь — взлетаютъ во́роны, отбѣгаютъ волки и одичалыя собаки. Вокругъ потухающаго костра распростерты замерзшіе люди. Сохранившіе еще искру жизни пожираютъ недожаренную или сырую конину, вырываютъ кровавые куски изъ рукъ другъ у друга, а на насъ, пришельцевъ, озираются съ опаской, какъ бы мы не отняли у нихъ этой послѣдней, отвратительной пищи. Одного мы силой отъ огня оттащили: обезумѣвъ, онъ свои отмороженныя ноги на Тлѣющіе уголья протянулъ и пятки себѣ уже до-черна обуглилъ.
И вдругъ, смотрю, въ сторонѣ отъ костра, прислонясь спиной къ дереву, сидитъ на землѣ молодой офицеръ въ треуголкѣ, въ знакомомъ мнѣ синемъ мундирѣ, крестикъ Почетнаго Легіона въ петличкѣ… Святые угодники! никакъ д’Орвиль?.. худой-прехудой, блѣдный-преблѣдный; вѣки полузакрыты… Живъ еще или замерзъ?..
Подошелъ къ нему, за плечо тронулъ.
— Г-нъ лейтенантъ! вы ли это?
Раскрылъ глаза, еще узналъ меня:
— Андре́…
Прошепталъ только и, какъ снопъ, на бокъ. Хочу его поднять, а онъ опять валится и вотъ на снѣгу во весь ростъ вытянулся.
Заглядываю ему въ глаза, — глаза ширятся, взоръ тускнѣетъ, дѣлается стекляннымъ… Еще одна жертва Наполеонова генія!…
… Послѣ жестокой стужи съ юга тепломъ потянуло; таетъ; по землѣ туманъ стелется. Но отъ непривычныхъ морозовъ и долгой голодовки французамъ уже не оправиться; сырая погода пуще ихъ разбираетъ: плетутся впередъ, доколѣ ноги еще носятъ, а разъ упавъ, остаются уже лежать, чтобы никогда не встать …
•••
Ночь на 14 ноября. Еврейская корчма. Пишу при свѣтѣ лучины. Кругомъ храпъ и стоны. На скамьяхъ — офицерство, на полу — вповалку, вперемежку, тяжелораненые свои и французы.
Хозяйка-еврейка въ углу жмется, грудного младенца укачиваетъ.
Съ самаго Краснаго впервые ночую не подъ открытымъ небомъ; послѣ морозовъ, потомъ оттепели, тумана и новыхъ опять морозовъ, — здѣсь, въ теплѣ, меня всего тоже разморило. Но отъ духоты и смрада, пожалуй, на-вѣки заснешь; лучше такъ промаюсь.
Планъ Кутузова, слышно, таковъ, чтобы не дать непріятелю черезъ Березину перейти. Задержать его до прибытія нашихъ главныхъ силъ поручено адмиралу Чичагову, который и занялъ возвышенный правый берегъ противъ Борисова. Рѣка уже льдомъ покрылась; но ледъ еще не проченъ, и перевозить свои орудія и обозъ французы и безъ того возможности пока не имѣютъ. Мосты же у Борисова Чичаговымъ на всякій случай уже взорваны.
Одинъ дезертиръ-итальянецъ разсказываетъ, что когда о взорванныхъ мостахъ доложили Наполеону, тотъ повѣрить не хотѣлъ.
— Неправда! — говоритъ. — Быть того не можетъ!
— Но маршалъ Удино, ваше величество, стоитъ въ Борисовѣ и своими глазами видѣлъ, какъ ихъ взрывали.
— Неправда! маршалъ лжетъ!
Однако-жъ, въ концѣ концовъ пришлость-таки повѣрить, и, поднявъ очи къ небу, онъ погрозилъ кому-то своей суковатой палкой, словно вызывая на бой самыя небеса.
•••
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
Ноября 15. Еще вчера еврей-корчмарь по великой тайности баталіоннаго командира нашего упреждалъ, будто Наполеонъ съ своей гвардіей самъ уже въ Борисовѣ; что туда бревна и хворостъ изъ лѣсу подвозятъ подъ видомъ якобы устройства переправы черезъ рѣку, на самомъ же дѣлѣ для отвода глазъ Чичагову; что тѣмъ временемъ выше по рѣкѣ, у деревни Студянки, корпусомъ маршала Удино крестьянскія избы разбираются и изъ ихъ бревенъ на рѣкѣ козлы ставятъ, да два большихъ моста настилаютъ.
Усомнился командиръ: давать ли вѣру христопродавцу? За тридцать сребрениковъ хоть кого вѣдь продастъ! Созвалъ онъ совѣтъ офицеровъ, и положили единогласно — послать нарочнаго въ главную квартиру. До сей минуты нарочный, однако, еще не вернулся.
А полчаса назадъ, развѣдчики перебѣжчика-иллирійца привели; проситъ, Бога ради, принять его тоже на русскую службу.
— Хорошо, ужо увидимъ, — говоритъ командиръ и сталъ его про Студянку вывѣдывать.
Оказалось, что тамъ и вправду всю ночь наполеоновы мосты сооружались. Къ 12-ти часамъ дня сегодня первый мостъ уже готовъ, и Удино съ своимъ корпусомъ на правый берегъ перебрался, передовые посты нашей Дунайской арміи отогналъ и самъ высоты занялъ. Къ 4-мъ часамъ и второй мостъ окончили. По первому орудія и военные обозы переправляются, по второму — войска, но съѣхавшіяся у переправы тысячи повозокъ, толпы безоружнаго сброда туда же напираютъ, и мосты, наскоро сколоченные, не разъ уже ломались: саперы опять ихъ наскоро чинятъ, стоя сами, среди льдинъ, по поясъ, по горло въ ледяной водѣ. На переправѣ же неурядица полная, неописуемая. Вотъ бы когда нагрянуть всею нашею силой! У Наполеона, увѣряетъ дезертиръ, изъ 650.000, перешедшихъ въ іюнѣ мѣсяцѣ черезъ Нѣманъ, врядъ ли и 60.000 осталось: да и тѣ въ какомъ видѣ! Но главной Кутузовской арміи все нѣтъ какъ нѣтъ! Ожидаютъ ее только къ утру…
•••
Ноября 18. Третій день ужъ лежу въ крестьянской избѣ съ пулей въ лѣвомъ плечѣ и лихоражу. Тутъ же на полу, съ повязанной головой, сержантъ Мушеронъ прикорнулъ.
Главная наша армія, дѣйствительно, подошла къ разсвѣту 16 числа, и нашъ баталіонъ съ другими также къ Студянкѣ двинулся. Меня, нестроевого, взяли съ собой, чтобы раненыхъ изъ огня выносить. Чего-чего я тутъ не наглядѣлся!
На обоихъ берегахъ пальба непрестанная, рукопашный бой на жизнь и смерть. Непріятель въ тиски попалъ: оттуда его Чичаговъ и Витгенштейнъ къ рѣкѣ прижали, отсюда же Кутузовъ къ мостамъ тѣснитъ. А что̀ на мостахъ-то дѣется! Подлинное столпотвореніе вавилонское, — ни пройти, ни проѣхать. Оба моста экипажами и пѣшими сплошь запружены, а съ берега новые все напираютъ, — обозныя фуры, коляски, брички, дрожки: сидящія тамъ женщины и дѣти плачутъ, вопятъ. А мосты — безъ перилъ, и въ общемъ напорѣ и давкѣ въ рѣку бухаютъ и повозки съ людьми и пѣшеходы. Въ водѣ, среди льдинъ, утопающіе барахтаются, за льдины хватаются. Вонъ и маркитантка Флорансъ за льдину уцѣпилась, кричитъ благимъ матомъ: „Спасите! спасите!“; но быстрымъ теченіемъ ее уже дальше уноситъ.
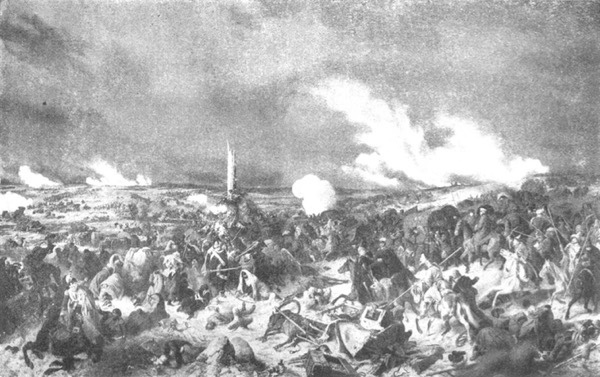
Съ картины П. Гесса.
Къ самому берегу двѣ крупныя льдины прибило: межъ нихъ голова виднѣется, вся окровавленная. Да вѣдь это сержантъ Мушеронъ, коему я жизнью обязанъ!
Я сбѣжалъ внизъ, прыгнулъ въ воду и черезъ силу вытащилъ несчастнаго на сушу.
Вдругъ ударъ въ лѣвое плечо; съ того берега пулей меня хватило — французской или русской — не все ли одно?
Далѣе ничего уже не помню: отъ потери крови да отъ ледяной воды я потерялъ сознаніе. Потомъ ужъ меня свои подобрали, да и Мушерона захватили.
И вотъ, по сей часъ онъ около меня; забинтованную голову подперевъ, временами лишь поохиваетъ.
— Что, мосье Мушеронъ, — говорю, — развѣ такъ ужъ больно?
— Больно, монъ пти буржуа, очень-очень больно… но не головѣ больно, а сердце болитъ!
— Что въ плѣнъ попали? Обмѣняютъ плѣнныхъ, — во Францію свою опять воро́титесь.
— Во Францію? Ахъ, нѣтъ, туда мнѣ уже нѣтъ возврата!
— Почему нѣтъ?
— Почему?.. Да вы, другъ мой, не видѣли развѣ, какъ горѣли мосты?
— Не видѣлъ, потому что тогда уже чувствъ лишился.
— Какъ только перешли на тотъ берегъ послѣднія войска — изъ корпуса маршала Виктора, — такъ за собой подожгли мосты. А на обоихъ мостахъ и на этомъ берегу оставалось еще несмѣтное число повозокъ и народу. Все это съ отчаянья разомъ впередъ ринулось, чтобы поспѣть еще перебраться по горящимъ мостамъ, и все перемѣшалось, попадало въ рѣку, было унесено со льдинами… О, мой императоръ!., о! о!.. А вѣдь какую зажигательную рѣчь сказалъ передъ сраженіемъ! Обнажилъ саблю и воскликнулъ: „Французы! поклянемся другъ другу лучше умереть съ оружіемъ въ рукахъ, чѣмъ отказаться увидѣть нашу милую Францію!“ И вотъ, чтобы самому-то увидѣть опять Францію, онъ, не дождавшись тысячей своихъ же французовъ, сжегъ передъ ними мосты… Нѣтъ у меня больше императора!
Закрывъ глаза рукой, бѣдный сержантъ заплакалъ какъ ребенокъ.
Тутъ вошелъ Шмелевъ.
— А! очнулись, Андрей Серапіонычъ? И опять за своимъ дневникомъ? Вѣдь онъ вмѣстѣ съ вами выкупался въ Березинѣ?
— Мосье Мушеронъ, — говорю, — высушилъ его у печки. Пишу, пока еще живъ…
— Полноте! Всѣхъ насъ еще переживете. Сейчасъ будетъ докторъ и вынетъ у васъ пулю. Не знаю только, позволитъ ли онъ мнѣ взять васъ теперь же съ собою.
— Нѣтъ, Дмитрій Кириллычъ, оставьте меня здѣсь съ Мушерономъ: онъ разочаровался ужъ въ своемъ великомъ Наполеонѣ…
— Да, великанъ этотъ превратился въ жалкаго пигмея и удираетъ во всѣ лопатки, какъ самый простой смертный. Наша армія по пятамъ его преслѣдуетъ — по крайней мѣрѣ до границы. Вѣдь государь еще въ началѣ войны объявилъ, что до тѣхъ поръ не положитъ оружія, доколѣ хоть одинъ вооруженный непріятель будетъ на русской землѣ.
— Но вы-то, Дмитрій Кириллычъ, почему еще здѣсь? Или вы не идете съ арміей?
— Нѣтъ. Здѣсь, у Березины, взяты вѣдь еще тысячи плѣнныхъ. Ихъ приходится расквартировать по разнымъ городамъ. Мнѣ предложили на выборъ: стяжать новые воинскіе лавры или сопровождать плѣнныхъ…
— А одинъ лавровый листокъ у васъ уже есть?
Онъ съ счастливой улыбкой взглянулъ на свой георгіевскій крестикъ.
— Покамѣстъ съ меня довольно, — говоритъ. — Надо жъ и другимъ что-нибудь оставить.
— И вы сопровождаете отсюда плѣнныхъ? А по пути завернете, конечно, и къ невѣстѣ въ Толбуховку?
— Конечно. Въ январѣ, дастъ Богъ, сыграемъ и свадьбу. А вы, Андрей Серапіонычъ, должны быть у насъ шаферомъ.
— Чувствительно, — говорю, — благодаренъ за честь. Но вынесу ли я еще операцію?… Лучше, пожалуй, мнѣ умереть подъ ножомъ доктора: проку отъ меня все равно никакого уже не будетъ!
— Это мы еще увидимъ. Объ васъ былъ въ Толбуховкѣ разговоръ у Аристарха Петровича съ вашей матушкой; вамъ нашли уже и подходящее мѣсто.
— Какое мѣсто?
— Я хотѣлъ до времени молчать; но, такъ и быть, скажу ужъ: тамошній приказчикъ — продувной малый. Такъ вотъ для контроля надъ нимъ вамъ прочатъ мѣсто конторщика. Мы съ Варенькой, признаться, подали первую мысль.
— Не знаю, — говорю, — какъ и благодарить васъ… Но разъ вы такъ добры, то примите участіе и въ судьбѣ мосье Мушерона; онъ спасъ меня въ Москвѣ отъ разстрѣла. У Пети Толбухина нѣтъ вѣдь еще новаго французскаго гувернера. Этотъ годится если и не въ гувернеры, то въ дядьки…
— А дядька щалуну необходимъ. Прекрасно. Ну-съ, а теперь пойду-ка на операціонный пунктъ за докторомъ.
— Одно слово еще, Дмитрій Кириллычъ: если бы я все-таки не пережилъ операціи, то передайте, пожалуйста, этотъ дневникъ Варварѣ Аристарховнѣ.
Онъ засмѣялся:
— Непремѣнно! Но нашего разговора съ вами вы еще не записали…
— Нѣтъ, но до доктора еще запишу.
И вотъ, дописалъ. Переживу я или нѣтъ? Боже, буди милостивъ мнѣ, грѣшному!…
☆☆☆
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.