Черный ящикъ
Историческая повѣсть
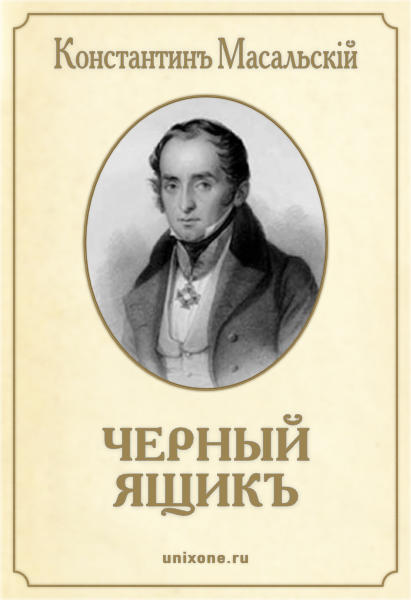
Въ 1723-мъ году, на Санктпетербургскомъ островѣ (нынѣшней Петербургской сторонѣ, которая въ то время была главная часть города), на Троицкой площади, стоялъ въ ряду другихъ строеній домъ купца Ильи Ѳомича Воробьева, не каменный и не деревянный, а такой, какого не сыщешь нынѣ во всемъ Петербургѣ. Онъ былъ, какъ называли тогда, мазанка, и не простая мазанка, а образцовая, потому что строился по примѣрному чертежу, утвержденному Петромъ Великимъ. На лицевой сторонѣ дома, по срединѣ находилась дверь съ крыльцомъ въ три ступени, и по три окна съ правой и съ лѣвой стороны двери. Вотъ все, что можно сказать о наружности зданія. Внутренность его описывать не станемъ. Ее можно увидѣть и нынѣ, войдя въ любой домъ мѣщанина, который держится старины. Къ тому же не многіе смотрятъ на внутреннюю красоту: была бы хороша только наружность.
Илья Фомичъ, возвратясь лѣтнимъ вечеромъ изъ гостинаго двора и надѣвъ халатъ, отдыхалъ послѣ дневныхъ хлопотъ въ креслахъ, стоявшихъ у окошка. Кстати замѣтить, что гостиный дворъ находился тогда по-срединѣ Троицкой площади, и состоялъ изъ мазанковаго четвероугольнаго зданія въ два яруса. Въ нижнемъ ярусѣ устроены были лавки, а въ верхнемъ амбары. На дворѣ, по-срединѣ этого четвероугольника, стояла деревянная изба, гдѣ помѣщалась ратуша. Съ Большой Невы и съ Малой, съ двухъ сторонъ, предположено было прорыть къ Гостиному Двору каналы, для привоза товаровъ на судахъ; но это предположеніе не успѣли исполнить.
Противъ Ильи Ѳомича сидѣла въ другихъ креслахъ молодая дѣвушка и вязала чулокъ. Не станемъ описывать ея красоты. Скажемъ только, что эта дѣвушка была прелестна, и предоставимъ читателю рисовать въ воображеніи наружность ея по своему идеалу. Предвидимъ, что столько же будетъ создано различныхъ, несходнымъ между собою, портретовъ этой дѣвушки, сколько эта повѣсть будетъ имѣть читателей; и если какими-нибудь судьбами переведутъ ее на Китайскій языкъ, то прелестная Марія, въ воображеніи какого-нибудь Мандарина-читателя, превратится въ дородную дѣвушку небольшаго роста съ утиною походкою, прищуренными глазами, пухлыми щеками и широкимъ, приплюснутымъ носомъ. Разумѣется, что Марія была вовсе не похожа на этотъ Китайскій идеалъ красоты.
Весьма близкое подобіе этого идеала нельзя сказать вошло, нельзя сказать и вошла, а вошелъ неожиданно въ комнату Ильи Ѳомича: это подобіе былъ Калужскій купеческій сынъ Карпъ Силычъ Шубинъ, на двадцать пятомъ году своей жизни пріѣхавшій въ первый разъ въ столицу. Отецъ его, за нѣсколько недѣль предъ тѣмъ умершій, принадлежалъ къ числу пріятелей Ильи Ѳомича, хотя они въ мнѣніяхъ и правилахъ жизни совершенно разнились одинъ отъ другаго. Илья Ѳомичъ брилъ бороду, носилъ нѣмецкое платье и выучился грамотѣ; а отецъ Шубина до самой кончины не перемѣнялъ покроя кафтана и хранилъ бороду, какъ зѣницу ока, потому что былъ раскольникъ. Онъ воспиталъ въ своихъ правилахъ и сына, который до смерти отца постоянно жилъ въ какомъ-то скитѣ и съ роду не видалъ ни одного человѣка, одѣтаго по-нѣмецки и съ бритою бородою.
Илья Ѳомичъ очень удивился, увидѣвъ передъ собою вечеромъ такого красиваго молодца, каковъ былъ Карпъ Силычъ. Онъ видалъ его въ Калугѣ еще ребенкомъ; но съ тѣхъ поръ китайскій идеалъ красоты выросъ и достигъ такого совершенства, что Воробьевъ вовсе его не узналъ, тѣмъ болѣе, что Карпъ Силычъ, по примѣру отца держась раскола, носилъ платье, предписанное указомъ для раскольниковъ. На немъ надѣтъ былъ длиннополый, суконный кафтанъ, весьма низко подпоясанный, съ четыреугольникомъ изъ краснаго сукна, нашитымъ на спинѣ. Въ рукахъ держалъ онъ съ желтымъ козырькомъ картузъ, который было предписано носить задомъ напередъ.
«Ты вѣрно меня не узналъ, Илья Ѳомичъ?» сказалъ Шубинъ, послѣ нѣсколькихъ поклоновъ предъ иконами. «Я привезъ тебѣ грамотку отъ моего дяди».
Онъ подалъ Воробьеву письмо, и между тѣмъ, какъ тотъ читалъ его, глаза Шубина, произведя общій обзоръ всѣмъ предметамъ, находившимся въ комнатѣ, остановились на Маріи, и такъ пристально, что дѣвушка нѣсколько смутилась, покраснѣла и ушла въ свою комнату.
«Господи Твоя воля!» воскликнулъ Илья Ѳомичъ, дочитавъ письмо и бросясь обнимать гостя. «Давно ли къ намъ ты въ Питеръ пріѣхалъ, Карпъ Силычъ?»
«И получаса не будетъ».
«Милости просимъ, милости просимъ! Мы съ твоимъ покойнымъ батюшкой были искренніе пріятели. Какъ ты, Карпъ Силычъ, выросъ и похорошѣлъ! Я совсѣмъ не узналъ тебя!»
«Слышалъ ты, Илья Ѳомичъ, что батюшка мой приказалъ тебѣ долго жить?»
«Слышалъ, — Царство ему небесное! Тебя онъ наслѣдникомъ-то назначилъ?»
«Вѣстимо, что меня. Я слышалъ, что въ Питерѣ выгодно торгуютъ. Хочу здѣсь лавку завести. Какъ посовѣтуешь?»
«Барышей большихъ нѣтъ отъ здѣшней торговли, однакожъ и убытку нѣтъ, коли приняться за дѣло умѣючи. Много ли наличныхъ-то у тебя?»
«Довольно-таки есть, съ меня будетъ. Никакъ и ты остался батюшкѣ долженъ?»
«Отдамъ, Карпъ Силычъ, отдамъ! Да не пора ли намъ поужинать? Эй! Маша! Ужинъ проворнѣе!»
«Сейчасъ, батюшка!» отвѣчала дѣвушка изъ другой комнаты.
«Это дочь твоя, Илья Ѳомичъ?» спросилъ Шубинъ, повертывая свой картузъ обѣими руками.
«Нѣтъ, это сирота безъ роду и племени. Я съ малыхъ лѣтъ воспиталъ ее».
«А кто же былъ ея батюшка-то?»
«Да Богъ вѣсть! Какой-то Шведскій дворянинъ».
«Такъ по этому ей нельзя за нашего брата, Русскаго, замужъ выйти?»
«Почемужъ нельзя! Развѣ ты не читалъ Царскаго указа? По этому указу можно и на иноземкѣ жениться».
«Видишь ты что! А давно ли эта сирота живетъ у тебя?»
«Одиннадцатый ужъ годъ. Ей было отъ роду десять лѣтъ, когда я взялъ ее къ себѣ. Она жила прежде на дворѣ у моего сосѣда съ какимъ-то старикомъ, плѣннымъ Офицеромъ Шведскимъ, по прозванію Нолькенъ. Этотъ Офицеръ долго жилъ въ Питерѣ, научился кое какъ говорить по нашему, и былъ со мной знакомъ. Въ свою сторону онъ боялся воротиться — я разскажу тебѣ почему — и жилъ здѣсь словно нищій; все хирѣлъ, да хирѣлъ, и наконецъ слегъ въ постель. Разъ призвалъ онъ меня къ себѣ, разсказалъ, какъ ему досталась эта дѣвушка, и со слезами просилъ не оставить ее послѣ его смерти. Я самъ расплакался и далъ ему слово. Онъ черезъ недѣлю послѣ того умеръ».
«Что жъ онъ тебѣ разсказывалъ?»
«Вотъ видишь ли: прежде вся эта сторона, гдѣ нынѣ Питеръ стоитъ, принадлежала Шведамъ. Рѣка Нева называлась у нихъ Ніенъ, а тамъ, гдѣ въ нее впадаетъ рѣчка Охта, при истокѣ этой рѣчки, на лѣвомъ берегу, стояла крѣпость Шведская Ніеншанцъ. Гдѣ теперь Питеръ, тамъ были лѣсъ да болота. Только близъ того мѣста, гдѣ Почтовый дворъ1, стоялъ домъ какого-то помѣщика Шведскаго дворянина. Сказывалъ мнѣ Нолькенъ его прозваніе, да я забылъ. Близъ дома находилась его деревня. Еще была близъ взморья деревушка Калинкина. Царь Петръ Алексѣичъ, взявъ въ 1702-мъ году 11го Октября крѣпость Орѣшекъ, по Шведски Нётебургъ, назвалъ ее Шлюссельбургомъ, и въ Апрѣлѣ 1703 года подступилъ съ войскомъ къ Ніеншанцу. Царь былъ тогда капитаномъ бомбардирской роты Преображенскаго полка, 30го Апрѣля начали стрѣлять по крѣпости изъ 20 пушекъ, да бросать бомбы изъ 12 мортиръ. Пальба во всю ночь продолжалась. 1го Мая, въ 5 часу утра, непріятель ударилъ шамадъ, выслалъ переговорщиковъ, и крѣпость сдалась. На другой день къ вечеру наши караульщики донесли, что на взморьѣ появились Шведскіе корабли. 6го Мая вечеромъ Царь и Александръ Данилычъ Меншиковъ, который былъ тогда поручикомъ, съ солдатами Преображенскаго да Семеновскаго полковъ на 30 лодкахъ поплыли къ устью Невы и скрылись за островомъ, что лежитъ къ морю противъ Калинкиной деревни, а 7го числа предъ разсвѣтомъ напали на Шведскія суда и взяли изъ нихъ два. Послѣ этой побѣды собрался Военный Совѣтъ и рѣшилъ, чтобы вмѣсто Ніеншанца, который стоялъ далеко отъ моря и на неудобномъ мѣстѣ, искать новаго мѣста для заложенія крѣпости. Царь изволилъ осмотрѣть всѣ Невскіе острова и выбралъ изъ нихъ одинъ, который назывался веселымъ островомъ2. На немъ 16го Мая, въ Троицынъ день, заложена была Царемъ крѣпость и названа Санктпетербургъ; а по близости Царь изволилъ устроить для себя Дворецъ. Завтра я тебѣ покажу этотъ Дворецъ, Карпъ Силычъ. Ты, вѣрно, ахнешь! Онъ вдвое меньше моего дома. Нечего сказать: совсѣмъ не царское жилище! Около крѣпости и дворца начали расти, какъ грибы, друНе домы. Я былъ изъ первыхъ здѣшнихъ обывателей. Торговалъ прежде всякой всячиной, а нынѣ… о чемъ бишь, я заговорилъ, Карпъ Силычъ? Ахъ, да! Вспомнилъ! Шведскій помѣщикъ, изволишь видѣть, былъ вдовецъ. У него было только и семьи, что маленькая дочь Маша. Какъ наши подступили къ Ніеншанцу, онъ отправилъ все свое добро за море и хотѣлъ бѣжать. Нолькенъ, который служилъ въ гарнизонѣ Ніеншанца, часто ѣздилъ къ нему въ гости. Онъ разсказывалъ мнѣ, что этотъ дворянинъ знался съ нечистыми духами; часто цѣлыя ночи въ свѣтлицѣ надъ его домомъ видѣнъ былъ свѣтъ, то красный, то синій, то голубой, то зеленый. Въ то время, какъ брали Ніеншанцъ, разъѣзжалъ по окрестнымъ мѣстамъ окольничій Петръ Апраксинъ съ нѣсколькими сотнями Новогородскихъ дворянъ, и смотрѣлъ, чтобы Шведы откуда-нибудь не подошли на выручку. Нолькенъ за день до того, какъ наши окружили Ніеншанцъ, поѣхалъ въ гости къ Шведскому дворянину, долго прогостилъ у него и не успѣлъ возвратиться въ крѣпость. Онъ очень испугался и началъ опасаться, чтобы его не разстрѣляли за то, что онъ не во время отъ должности отлучился. Дворянинъ присовѣтовалъ ему бѣжать вмѣстѣ съ нимъ за море. Взявъ на руки дочь, которой тогда только-что годъ минулъ , дворянинъ велѣлъ Нолькену слѣдовать за нимъ и далъ ему нести небольшой ящикъ изъ чернаго дерева. Черезъ Васильевскій островъ добрались они уже до взморья, гдѣ ожидала ихъ лодка; но когда они къ ней подходили, человѣкъ пять Новогородскихъ дворянъ, объѣзжавшихъ дозоромъ, закричали издали: стой! Дворянинъ и Нолькенъ бросились къ лодкѣ, но одинъ изъ объѣзжихъ выстрѣлилъ изъ ружья и ранилъ дворянина. Онъ упалъ и, видя, что объѣзжіе скачутъ къ нему, отдалъ свою малютку Нолькену. — Я умираю! Спасайся! — сказалъ онъ ему слабымъ голосомъ. — Замѣни ей отца. Береги этотъ ящикъ, что у тебя въ рукахъ. Пусть она раскроетъ его наединѣ и не прежде, какъ черезъ двадцать лѣтъ, 1го октября 1723 года, въ полночь. Горе тому, кто этотъ ящикъ прежде раскроетъ! — Онъ хотѣлъ что-то еще сказать, но объѣзжіе подскакали, схватили Нолькена и увели его къ начальнику ихъ, окольничему Апраксину. Его отправили съ Машею въ Шлиссельбургъ, гдѣ онъ и прожилъ болѣе шести лѣтъ. Потомъ дозволили ему переселиться въ Питеръ. До самой смерти своей Нолькенъ не могъ узнать, что сталось съ отцомъ Маши. О чемъ бишь я заговорилъ, Карпъ Силычь? Ну, послѣ вспомню, а теперь милости просимъ за ужинъ.
Хозяинъ ввелъ гостя въ другую комнату. На кругломъ столикѣ, накрытомъ бѣлою, какъ снѣгъ, скатертью, стояло блюдо съ пирогомъ. Легкій паръ поднимался отъ него и наполнялъ комнату ароматомъ, который болѣе нравится, чѣмъ запахъ амбры, всякому, у кого тонкое обоняніе и пустой желудокъ. Илья Ѳомичъ сѣлъ рядомъ съ гостемъ, а Марія противъ нихъ. Въ началѣ ужина Карпъ Силычъ изподтишка поглядывалъ на нее отъ времени до времени, а къ концу ужина, когда онъ выпилъ, по настоятельному убѣжденію хозяина, шестую чарку Гданской водки, началъ онъ смотрѣть на дѣвушку во всѣ глаза. По окончаніи ужина Марія ушла въ свою комнату, а Карпъ Силычъ, посмотря ей въ слѣдъ и вздохнувъ, сказалъ хозяину съ замѣшательствомъ : «Еслибъ я… еслибъ ты, Илья Ѳомичъ… еслибъ… дѣло-то, знаешь, щекотливое! Стыдъ меня разбираетъ!»
«Что такое, Карпъ Силычъ?»
«У меня наличныхъ столько, что я могу здѣсь дюжину лавокъ купить. Я ужъ давно сбираюсь жениться. Не сыщешь ли ты, Илья Ѳомичъ, для меня невѣсты? Приданаго мнѣ не надобно. Была бы дѣвушка нравомъ добрая, лицемъ красивая, ума-разума не глупаго. Ты здѣсь давно живешь; у тебя, чай, знакомыхъ много».
«Да въ тебѣ, какъ я вижу, молодецкая кровь горячая — что твой кипятокъ! Я самъ съ молоду похожъ былъ на тебя. Въ субботу сосватался, а въ воскресенье женился! Покойница жена моя и одуматься не успѣла».
«Посватай, въ самомъ дѣлѣ, за меня хорошую невѣсту! Я бы тебѣ спасибо сказалъ».
«За этимъ дѣло не станетъ! Только, скажу тебѣ правду, въ этомъ кафтанѣ врядъ ли ты дѣвушкѣ изъ порядочнаго дома приглянешься».
«А почемужъ нѣтъ?»
«Дѣвушки, изволишь видѣть, не столько смотрятъ на умъ и богатство, сколько на красивое лице… тьфу пропасть, не то сказалъ!… сколько на красивое платье. Ты, вотъ, изволишь видѣть, носишь бороду да кафтанъ, а здѣсь въ Питерѣ всѣ одѣваются по-нѣмецки».
«Да какъ это по-нѣмецки? Этакъ что ли какъ ты, Илья Ѳомичъ? Я, пожалуй, завтра жъ себѣ такой же шелковый балахонъ, какъ у тебя, куплю».
«На мнѣ надѣтъ теперь халатъ, а нѣмецкое платье совсѣмъ особаго покроя. Вотъ завтра на мнѣ увидишь. Одѣнься-ка и ты, Карпъ Силычъ, по-нѣмецки. Дѣло сдѣлаешь! Здѣсь кафтаны и бороды стали очень ужъ рѣдки. И я носилъ прежде Русское платье, но дѣлать было нечего, какъ начали говорить про меня: всѣ люди въ шапкахъ, одинъ бѣсъ въ колпакѣ! По неволѣ обрился и перерядился».
«Чуть ли и мнѣ не хватиться за умъ. Вѣдь я теперь самъ себѣ господинъ! Дядя, конечно, заворчитъ, да что глядѣть на него! Вѣдь не отецъ же родной, въ самомъ дѣлѣ! Да ты, я вижу, зѣваешь, Илья Ѳомичъ; сонъ тебя склоняетъ. Развѣ ужъ поздно?»
«Оно хоть и не поздно, однакожъ и не рано! Чу! На Троицкой колокольнѣ часы бьютъ. Разъ… два… три… четыре… пять… шесть… семь… восемь. Эти часы Царь Петръ Алексѣичъ велѣлъ привезти сюда изъ Москвы, съ Сухаревой башни. Черезъ часъ караульщики съ трещетками по улицамъ пойдутъ, и шлагбомы по концамъ улицъ опустятъ. О чемъ бишь я заговорилъ?»
«Прощай, Илья Ѳомичъ! Утро вечера мудренѣе. Завтра успѣемъ дѣло рѣшить».
Шубинъ съ Троицкой площади вошелъ въ Большую Дворянскую улицу, и вскорѣ прибылъ къ дому, гдѣ онъ съ прикащикомъ своимъ по пріѣздѣ въ Петербургъ остановился. На другой день рано утромъ отправился онъ въ гостиный дворъ за разными покупками, и лишь только поровнялся съ большимъ деревяннымъ домомъ князя Папы, отличавшимся куполомъ и статуею Бахуса на верху, какъ толпа мальчишекъ окружила Шубина. Прыгая и указывая на четвероугольникъ изъ краснаго сукна, который былъ нашитъ у него на кафтанѣ, они хохотали и кричали: «У! У! Тузъ бубновый идетъ! Тузъ бубновый!»

«Отстаньте, бѣсенята!» проворчалъ сердито Карпъ Силычъ.
Мальчишки пуще захохотали.
«Молчи, желтый картузъ!» закричалъ одинъ изъ нихъ, который былъ постарше. «Смотрите-ка, ребята! На картузѣ у него желтый козырь. Тузъ-то видно козырный. Вишь онъ какимъ козыремъ идетъ!»
Карпъ Силычъ вышелъ изъ терпѣнія и, схвативъ съ земли попавшуюся ему палку, побѣжалъ за насмѣшникомъ. Вся толпа вмигъ разсыпалась въ разныя стороны, однакожъ издали продолжала воспѣвать хоромъ : «Тузъ бубновый! Тузъ козырный! Что взялъ!»
Шубинъ не выдержалъ нападенія и рѣшился возвратиться домой.
«Бѣги тотчасъ же на рынокъ!» сказалъ онъ своему прикащику, войдя въ комнату и бросивъ съ досадой картузъ на полъ. «Купи нѣмецкое платье, самое лучшее! Что глаза-то вытаращилъ! Не для тебя, небось, а для меня! Ты мужикъ, ходишь и въ кафтанѣ, а я купецъ! Да бородобрѣя позови!»
«Неужто, Карпъ Силычъ, твоя милость…»
«Молчи и дѣлай, что велятъ!» закричалъ Шубинъ топнувъ.
Изумленный прикащикъ, ворча что-то про себя и качая головой вышелъ. Вскорѣ послѣ его ухода явился полковой брадобрѣй, остригъ волосы Шубину, причесалъ его, обрилъ бороду и, получивъ за работу рублевикъ, ушелъ. И сталъ молодецъ хоть и не книженъ, да хорошо остриженъ.
Черезъ нѣсколько времени прикащикъ принесъ въ узлѣ купленное имъ платье и шляпу.
«Одѣвай же меня скорѣе!» сказалъ Шубинъ.
«Да я не умѣю!» отвѣчалъ прикащикъ, развязывая узелъ.
«Что жъ ты купца не разспросилъ? Онъ долженъ знать, какъ это платье надѣвается! Этакой олухъ! Да не замѣтилъ ли ты вчера, какъ мы въ городъ въѣзжали, нѣмецкаго платья на прохожихъ?»
«Помилуйте, батюшка! Мы въѣхали въ городъ вечеромъ. Притомъ было туманно!»
«У тебя часто съ похмелья въ глазахъ туманно! Давай все платье сюда! Я самъ одѣнусь! — Ну, вотъ чулки! Натягивай! Тише, разорвешь! А это что такое?»
«Это, никакъ, штаны!… Карпъ Силычъ! Побойтесь Господа! Что дядюшка скажетъ, какъ услышитъ…»
«Не твое дѣло, борода! Помоги надѣть штаны!»
«Охота надѣвать такую дрянь! Въ пѣснѣ не даромъ поется: на дружкѣ-то штаны, послѣ дѣда сатаны. Сатана это нѣмецкое платье выдумалъ!»
«Послушай, Прошка! Я тебѣ оплеуху дамъ, если не замолчишь».
Отъ незнанья ли, съ намѣреніемъ ли, только прикащикъ напялилъ на своего хозяина штаны задомъ напередъ, и съ усиліемъ началъ застегивать ихъ сзади.
«Да такъ ли ты надѣлъ, Прошка? Что у меня напереди за мѣшокъ? Можно сюда всыпать четверикъ гороху, а поясницу такъ жметъ, что силъ нѣтъ!»
«Что жъ дѣлать! видно ужъ покрой таковъ. То ли дѣло Русское платье! Просторно, хорошо, славно!»
«Ну, ну! Застегивай! Полно толковать-то. А это что?»
«Это жалѣть. Купецъ, помнится, называлъ вотъ эту ветошку съ двумя окошками жалѣтомъ, а вотъ это кафтаномъ какъ солнце3. И названья-то какія дурацкія! Жалѣть! Видно, кто это платье надѣнетъ, тотъ будетъ жалѣть».
«Замолчишь ли ты! Да не такъ, пустая голова! Ужъ коли штаны сзади застегиваются, то вѣрно и жалѣть и какъ-солнце также. Русскій кафтанъ спереди застегиваютъ, а нѣмецкій сзади».

«Такъ-съ!… Вотъ еще какая-то ветошка!» сказалъ прикащикъ, подавая галстухъ.
«Это носовой платокъ! Развѣ не видишь! Давай сюда. Ба! Да онъ о трехъ углахъ, а не о четырехъ. Бережливы эти Нѣмцы! На обухѣ рожъ молотятъ, зерна́ не уронятъ! А вотъ здѣсь напереди у кафтана и карманъ есть, куда платокъ можно спрятать. Славно придумано. Ну, подавай шляпу!»
Посмотрѣвшись въ зеркало, одѣтый по-нѣмецки идеалъ китайской красоты улыбнулся отъ удовольствія, сдвинулъ немного шляпу на́ бокъ и, выставивъ конецъ галстуха изъ кармана, вышелъ бодро на улицу. Самодовольство и воротникъ его кафтана, подпиравшій подбородокъ, поднимали лице его вверхъ и принуждали смотрѣть на небо, черезъ шляпы прохожихъ, которые останавливались и глядѣли ему вслѣдъ съ удивленіемъ. Шубинъ относилъ это къ богатству и щеголеватости своего наряда, и не слышалъ земли подъ собой отъ восторга. Наконецъ одинъ попавшійся ему на встрѣчу прохожій, одѣтый по-нѣмецки, разрушилъ его очарованіе. Бѣдный Карпъ Силычъ, съ ужасомъ замѣтивъ, что одѣтъ былъ вовсе не такъ, какъ слѣдовало, отъ сильнаго стыда покраснѣлъ по́ уши, а по рукамъ и ногамъ заползали у него мурашки. Сначала онъ хотѣлъ было бѣжать домой, но, оглянувшись и увидѣвъ вдали собравшуюся толпу извощиковъ, которые смѣялись и на него указывали, рѣшился, скрѣпивъ сердце, искать убѣжища въ домѣ Воробьева, потому что до этого дома оставалось гораздо менѣе пространства, чѣмъ до его квартиры. Съ чувствомъ, подобнымъ тому, съ какимъ въ жестокую бурю мореплаватель, замѣтившій въ кораблѣ сильную течь, спѣшитъ къ пристани, летѣлъ Шубинъ на всѣхъ парусахъ къ дому Воробьева, надвинувъ шляпу на лице. Подбѣжавъ къ крыльцу, отворилъ онъ тихонько дверь и, войдя въ сѣни, началъ снимать съ себя кафтанъ, чтобы надѣть его, какъ должно. Воробьевъ, бывшій тогда дома, услышавъ въ сѣняхъ шорохъ, послалъ свою воспитанницу посмотрѣть, кто пришелъ. Марія, отворивъ дверь изъ комнаты и увидѣвъ мужчину безъ кафтана, ахнула и захлопнула двери. Карпъ Силычъ чуть не сгорѣлъ со стыда, и въ отчаяніи присѣлъ на полъ, закрывшись кафтаномъ.
«Что съ тобой сдѣлалось, Маша?» спросилъ удивленный Воробьевъ. «Чего ты испугалась?»
«Въ сѣняхъ какой-то мужчина!»
«Ну такъ чтожъ? Давно ли ты стала такъ мужчинъ бояться!»
«Я, батюшка, не испугалась, а только… да посмотри самъ въ сѣни!»
Воробьевъ отворилъ дверь и увидѣлъ Карпа Силыча, все еще сидѣвшаго и закрывавшагося кафтаномъ. Онъ подошелъ къ нему и, взявъ его за руку, поднялъ на ноги.
«Ба!… Карпъ Силычъ!… Да я тебя насилу узналъ! Ворожилъ что ли ты на полу? А кафтанъ-то зачѣмъ ты снялъ?»
«Я… мнѣ…» отвѣчалъ Шубинъ въ замѣшательствѣ, «мнѣ очень жарко стало; вишь я слишкомъ скоро къ тебѣ шелъ, а здѣсь въ сѣняхъ такой пріятной вѣтерокъ продуваетъ».
«Вотъ проказникъ! Вздумалъ у меня въ сѣняхъ прохлаждаться! Да что это, какъ на тебѣ штаны и камзолъ надѣты! Никакъ задомъ на передъ!»
«Нѣтъ, это я теперь ихъ такъ повернулъ!»
«Помилуй, Карпъ Силычъ! Да это невозможное дѣло! Какъ это тебя угораздило? Надѣнь, по крайней мѣрѣ, камзолъ и кафтанъ, какъ слѣдуетъ. Постой, постой! Не такъ! Дай, я тебѣ помогу. Вотъ этакъ! Ну теперь пойдемъ въ горницу; милости просимъ!»
Онъ ввелъ его въ комнату. Марія, поклонясь Шубину, едва-едва удержалась отъ смѣха, вспомнивъ его испугъ и положеніе въ сѣняхъ.
Такъ какъ день былъ праздничный, то Шубинъ пробылъ у Воробьева до самаго вечера. Разговоръ ихъ переходилъ отъ предмета къ предмету, и наконецъ, остановился на суммѣ, которую Илья Ѳомичъ долженъ былъ отцу Карпа Силыча.
«Повѣрь Богу», сказалъ Воробьевъ, «что деньги эти за мной не пропадутъ; только теперь нѣтъ у меня ни копѣйки въ наличности. Не разсудишь ли развѣ, Карпъ Силычъ, у меня этотъ домъ купить? Тогда бы въ долгѣ сочлись».
«Нельзя ли домъ осмотрѣть? Я подумаю».
«Маша! Посвѣти-ка намъ».
Марія встала съ своего мѣста и взяла со стола свѣчу.
Воробьевъ повелъ за нею гостя изъ комнаты въ комнату. Когда они вошли въ спальню Маріи, то Шубинъ, примѣтивъ черный, небольшой ящикъ, стоявшій на столикѣ подъ образомъ, спросилъ: «Не тотъ ли это ящичекъ, про который ты мнѣ говорилъ, Илья Ѳомичъ?»
«Тотъ самый».
При этихъ словахъ Марія вздохнула, и пламя свѣчи, которую она держала въ рукѣ, затрепетало отъ ея вздоха.
«Что бы въ немъ такое быть могло?» продолжалъ Шубинъ, подойдя къ столику и осматривая ящикъ съ любопытствомъ. «Ужъ не каменья ли драгоцѣнные?»
«Быть не можетъ! Ящичекъ легокъ, какъ перо!» отвѣчалъ Воробьевъ. «А вотъ Маша осенью раскроетъ его. Срокъ, который родитель ея назначилъ, скоро ужъ наступитъ. Авось и намъ она тогда скажетъ, если можно будетъ, что такое хранится въ этомъ ящичкѣ».
Осмотрѣвъ всѣ прочія комнаты, Шубинъ возвратился съ хозяиномъ въ ту, гдѣ обыкновенно принимали гостей, а Марія, по его приказанію, пошла въ поварню хлопотать объ ужинѣ.
«Ну что?» сказалъ Воробьевъ. «Какъ тебѣ домикъ мой нравится?»
«Старенекъ, однакожъ, похаять нельзя. Дай мнѣ пораздумать недѣльки двѣ; авось, дѣло у насъ сладится. Поговоримъ еще на досугѣ объ этомъ, а теперь скажи мнѣ, пожалуйста: неужто ты не знаешь, что лежитъ въ ящикѣ? Я бы на твоемъ мѣстѣ тайкомъ раскрылъ его, да посмотрѣлъ».
«Какъ это можно, Карпъ Силычъ! Самъ я передалъ Машѣ волю ея родителя, да самъ же ее и нарушу! У Маши только и родни осталось на свѣтѣ, что этотъ ящикъ. Бѣдненькая его такъ любитъ и бережетъ, что и сказать нельзя! Она все надѣется найти въ ящичкѣ какое-нибудь письмо, по которому она отыщетъ отца своего».
«А что жъ, и то быть можетъ».
«Нѣтъ, я не думаю этого. Зачѣмъ бы было ея отцу завѣщать, чтобы она раскрыла ящикъ не прежде, какъ черезъ двадцать лѣтъ, притомъ наединѣ и въ полночь. Онъ даже и день назначилъ, а именно 1-е Октября. Тутъ что-нибудь да есть особенное! Чѣмъ ближе подходитъ срокъ раскрывать ящикъ, тѣмъ больше страхъ меня разбираетъ».
«Ужъ не сила ли нечистая въ ящикѣ-то сидитъ! Лучше бы ты его въ огонь бросилъ,
«Оборони, Господи! Если и въ самомъ дѣлѣ лукавые въ ящикѣ заперты, то они, пожалуй, какъ бросишь ихъ въ печь, весь домъ разнесутъ… Поговоримъ о чемъ-нибудь другомъ, Карпъ Силычъ! Смерть не люблю я говорить о чемъ-нибудь страшномъ, на ночь глядя».
«Крѣпко ли ящикъ-то запертъ, Илья Ѳомичъ?»
«Ни щелочки на ящикѣ не видно, а ключъ Маша носитъ на шеѣ».
Простясь съ Воробьевымъ, Шубинъ ушелъ и во всю дорогу ломалъ голову, если не сила нечистая, то что бы такое могло быть въ ящикѣ?
Прошло недѣль шесть послѣ пріѣзда его въ Петербургъ, и онъ почти каждый день посѣщалъ Воробьева. Необыкновенная красота Маріи, съ самаго перваго свиданія съ нею, произвела на него сильное впечатлѣніе, и онъ вскорѣ влюбился въ дѣвушку по́ уши. Замѣчая, однакожъ, съ ея стороны совершенную холодность и невнимательность къ нему, Шубинъ внутренно на это досадовалъ и все придумывалъ средство, какъ бы довести Воробьева до того, чтобы онъ рѣшился выдать за него замужъ свою воспитанницу противъ ея воли. Какъ будетъ моею женою, размышлялъ онъ, такъ по неволѣ меня полюбитъ; лишь сначала надо задать ей хорошую острастку, а потомъ приласкать, такъ, небось, будетъ шелковая. Не даромъ говорятъ: люби жену какъ душу, а бей какъ шубу.
Черезъ нѣсколько времени Шубинъ, за обѣдомъ у одного изъ знакомыхъ ему купцевъ, услышалъ, что торговыя дѣла Воробьева весьма запутались, и что ему не миновать за долги острога. Онъ очень обрадовался этой новости, и на другой же день пошелъ къ Воробьеву. Послѣ обыкновенныхъ привѣтствій, Шубинъ завелъ разговоръ о женитьбѣ и объявилъ, что онъ имѣетъ желаніе жениться на Маріи. Воробьева ни сколько не удивило это предложеніе: онъ давно замѣтилъ страсть Шубина. Поблагодаривъ за предложеніе, онъ продолжалъ: «Жаль мнѣ, очень жаль, что ты, Карпъ Силычъ, ранѣе не посватался. Маша бы зажила съ тобою припѣваючи! Только, изволишь видѣть, у нея уже есть женихъ».
«Какъ? Кто такой?» воскликнулъ Шубинъ, измѣнясь въ лицѣ.
«Передъ тобой таиться я не стану, и, какъ искреннему пріятелю, все разскажу въ подробности. На дворѣ у меня нѣсколько лѣтъ сряду нанималъ небольшую горенку молодой иконописецъ изъ разночинцевъ, Павелъ Павлычъ Никитинъ. Славной дѣтина! Смѣтливый, честный, работящій! Два года жилъ онъ вмѣстѣ съ какимъ-то плѣннымъ Шведомъ, и такъ выучился отъ него по Шведски, что говорилъ на этомъ языкѣ, какъ на своемъ природномъ, и даже могъ читать Шведскія книги. Съ малыхъ лѣтъ остался онъ сиротою послѣ отца и матери, воспитанъ былъ въ школѣ, которую завелъ Преосвященный Ѳеофанъ въ Новѣгородѣ, пріѣхалъ потомъ въ Питеръ и началъ доставать себѣ хлѣбъ писаніемъ святыхъ иконъ. Мастерству этому выучился онъ самоучкой. Бывало, цѣлый день сидитъ, сердечный, за работой. Кромѣ иконъ, писалъ онъ и другія картины. Вотъ, посмотри, Карпъ Силычъ, на этой стѣнѣ Полтавское сраженіе. Это онъ подарилъ мнѣ въ Свѣтлое Воскресенье, вмѣсто краснаго яичка. Вѣдь славно написано! Знакомый капралъ мнѣ разсказывалъ, что Шведы совсѣмъ было одолѣли нашихъ, и еслибъ не… О чемъ бишь я заговорилъ? Ахъ, да, объ Никитинѣ. Я его вскорѣ полюбилъ, какъ роднаго. Одна была бѣда, что мастерство его не много ему выгоды приносило: съ трудомъ доставалъ онъ хлѣбъ насущный. Однажды Царь Петръ Алексѣичъ въ домѣ Князя Бутурлина увидѣлъ картину и спросилъ, кто ее писалъ? Ему сказали, что Никитинъ. Его Царское Величество велѣлъ тотчасъ его представить себѣ, обласкалъ его и далъ указъ отправить его на два года за море, въ Тальянское Государство, чтобы онъ тамъ еще лучше картины писать научился. Прибѣжалъ Никитинъ ко мнѣ безъ памяти отъ радости. Я въ то время сидѣлъ съ Машей за обѣдомъ. Лишь только услышала она, что Никитинъ уѣзжаетъ на два года за море, какъ вдругъ перемѣнилась въ лицѣ, встала поспѣшно изъ-за стола и ушла въ свою комнату, сказавъ, что ей очень нездоровится. Я какъ разъ смекнулъ дѣломъ, и самъ себѣ думаю: авось, Никитинъ не догадается. Только что же? У моего молодца навернулись слезы, поблѣднѣлъ онъ, какъ бѣлый платокъ, бросился мнѣ въ ноги и началъ цѣловать мою руку. Что съ тобой сдѣлалось, Павелъ Павлычъ? спросилъ я. — Господь съ тобой! — А онъ молчитъ себѣ, цѣлуетъ только мою руку, да плачетъ. Если я вернусь изъ-за моря, сказалъ онъ наконецъ, и успѣю что-нибудь нажить моимъ мастерствомъ, то дашь ли ты намъ свое благословеніе? Бѣлый свѣтъ не милъ мнѣ безъ нея. Ты замѣнилъ Машѣ отца! Будь и мнѣ, сиротѣ, отцемъ. Мы обнялись съ нимъ, и я далъ ему слово выдать за него Машу, когда онъ изъ-за моря воротится. Посмотрѣлъ бы ты, Карпъ Силычъ, какъ мое обѣщаніе его обрадовало, какъ онъ благодарилъ меня! Не охотникъ я плакать, а признаюсь, глядя на его радость, я расплакался. На другой день онъ уѣхалъ изъ Питера, а я Машу въ допросъ. Вѣдь до сихъ поръ не признается, плутовка, что ей Никитинъ полюбился: начнетъ увѣрять, оправдываться. Что съ ней станешь дѣлать! Впрочемъ, вѣдь и всѣ почти дѣвушки похожи на Машу. Не скоро скажутъ, что у нихъ въ сердчишкѣ таится. Однако жъ я знаю навѣрное, что она ни за кого другаго, кромѣ Никитина, замужъ не пойдетъ».
«Почему жъ ты такъ думаешь? Что ей за охота обвѣнчаться съ нищимъ, да голодъ и холодъ цѣлый вѣкъ терпѣть! Скажи-ка ей про меня. Авось, она передумаетъ».
«Нѣтъ, Карпъ Силычъ! Грѣшно мнѣ будетъ не сдержать моего слова».
«Послушай, Илья Ѳомичъ, ты мнѣ долженъ, и долженъ не мало! Срокъ платить давно ужъ наступилъ. Выдашь за меня Машу: буду ждать хоть десять лѣтъ уплаты; не выдашь: плати завтра же деньги! Завтра же подаю на тебя челобитную!»
«Карпъ Силычъ! Деньги твои за мною не пропадутъ. Твой покойный батюшка давно дѣло со мной имѣлъ, и ни разу на меня не жаловался. Напрасно ты такъ горячишься. Самъ разсуди: честно ли я поступлю, если нарушу мое слово, которое далъ Никитину. На этихъ дняхъ онъ долженъ возвратиться изъ-за моря! Притомъ я не хочу ни за что принудить Машу выйти за тебя замужъ противъ ея воли. Я напередъ знаю, что она не согласится».
«Поговори съ нею. Бѣды отъ этого не будетъ».
«Пожалуй. Я все сдѣлаю въ твою угоду. Только не пеняй на меня, Карпъ Силычъ, и не ссорься со мною, если не успѣю уговорить ее. Вспомни и то, что если бы и захотѣлъ я ее принуждать, такъ по Царскому указу нельзя будетъ выдать ее замужъ насильно».
«Прощай! Не отдаешь невѣсты, такъ долгъ отдай. Завтра увидимся».
Хлопнувъ дверью, Шубинъ вышелъ. Марія, сидѣвшая въ своей комнатѣ за работой, ничего не слыхала изъ этого разговора. Добрый Воробьевъ, увѣренный въ ея любви къ Никитину, цѣлый вечеръ былъ задумчивъ и не имѣлъ духа сообщить ей предложеніе Шубина. Зная доброе сердце своей воспитанницы, онъ не рѣшался открыть ей положенія дѣлъ своихъ, и опасался, чтобъ она не пожертвовала собою и не погубила себя для его спасенія; онъ коротко узналъ Шубина, и былъ увѣренъ, что выдать ее за него замужъ значило погубить ее.
На другой день явился къ Воробьеву, вмѣстѣ съ Шубинымъ, купецъ Спиридонъ Степановичъ Гусевъ, староста Троицкой площади4. На немъ былъ Саксонскій кафтанъ изъ темно-синяго сукна, бархатный голубой камзолъ и плисовые черные штаны. Лобъ его украшался нѣсколькими морщинами, рыжими бровями и довольно обширною лысиной. Маленькіе, прищуренные глаза съ перваго взгляда показывали въ немъ человѣка хитраго и корыстолюбиваго. Носъ его имѣлъ сходство съ яблокомъ порядочной величины, тѣмъ болѣе, что на концѣ, вмѣсто стебелька, чернѣлась бородавка; а сжатыя жеманно губы постоянно сохраняли насмѣшливое выраженіе. Къ чести нашихъ предковъ надобно сказать, что старосты вообще выбирались изъ людей честныхъ и безкорыстныхъ; но Спиридонъ Степановичъ, добившись хитростію и происками званія старосты, началъ тихомолкомъ набивать свой карманъ, брать отъ челобитчиковъ добровольныя приношенія, и вполнѣ оправдалъ пословицу: въ семьѣ не безъ урода.
«Здравія желаю!» сказалъ Гусевъ тонкимъ и высокимъ голосомъ, составлявшимъ рѣзкую противоположность съ его толстымъ брюхомъ и низкимъ ростомъ. Толщину его можно было сравнить съ гиперболою, голосъ съ ироніею, а всего Гусева съ олицетворенною, самою смѣлою антитезою. «Давно ужъ мы не видались! Жаль мнѣ только, что мой приходъ не такъ тебѣ будетъ пріятенъ», продолжалъ онъ, вынимая изъ кармана бумагу и подавая Воробьеву.
Прочитавъ ее, Воробьевъ измѣнился въ лицѣ. Это былъ указъ Ратуши о немедленной уплатѣ долга Шубину; въ противномъ случаѣ предписано было Воробьева посадить тотчасъ же въ острогъ.
«Я подамъ апелляцію», сказалъ Воробьевъ, отдавая Гусеву указъ дрожащею рукою. «Кажется, меня нельзя посадить въ острогъ прежде, чѣмъ имѣніе мое будетъ продано».
«Да вѣдь ты, Илья Ѳомичъ, ужъ представилъ въ Ратушу опись всему твоему движимому и недвижимому имѣнію, кромѣ наличныхъ денегъ. Ратуша разсчитала, что какъ бы выгодно ни продалось твое имѣніе, нельзя будетъ уплатить и половины долговъ, не считая долга Карпу Силычу. Чѣмъ же ты ему-то заплатишь, если у тебя нѣтъ наличныхъ?»
«Спиридонъ Степанычъ! Тебѣ извѣстно, что у меня четыре барки съ товаромъ на Невѣ льдомъ разбило. Съ тѣхъ поръ, какъ я ни старался, не могъ поправиться. Не я виноватъ!»
«Да и не я, Илья Ѳомичъ! Такъ у тебя нѣтъ наличныхъ?»
«Всѣ мои заимодавцы согласились ждать уплаты, пока я не поправлюсь».
«Нѣтъ, я не согласенъ!» проворчалъ Шубинъ. «Я и такъ долго ждалъ».
«Что же мнѣ дѣлать, Илья Ѳомичъ?» продолжалъ Гусевъ. «Если у тебя нѣтъ наличныхъ , то я принужденъ буду исполнить указъ».
«Возьми мои послѣдніе пять рублевиковъ!» вскричалъ Воробьевъ, вскочивъ со стула, вынявъ деньги изъ кармана и бросивъ ихъ передъ Шубинымъ». Дѣлайте со мной, что хотите! У меня нѣтъ больше ни копѣйки».
«Не горячись напрасно, Илья Ѳомичъ!» замѣтилъ хладнокровно Гусевъ. «Умѣлъ брать въ займы, умѣй и отдать. Эй! Войдите сюда!» закричалъ онъ, отворивъ дверь въ сѣни.
Вошли два караульщика съ десятскимъ.
«Отведите его въ острогъ!»
Шубинъ, приблизясь къ Воробьеву, сказалъ ему вполголоса: «Согласись на мое предложеніе, и я соглашусь ждать долга вмѣстѣ съ прочими заимодавцами!»
«Умру въ острогѣ, но не погублю сироты!»
Маріи въ это время не было дома. Воробьева караульщики связали, и предводительствуемые десятникомъ, повели въ острогъ, а староста и Шубинъ пошли въ австерію, которая находилась близъ моста, ведущаго съ Троицкой площади въ крѣпость. Если бы какой-нибудь волшебникъ возстановилъ этотъ давно истлѣвшій домикъ, то австерія очутилась бы при самомъ въѣздѣ на нынѣшній Троицкій мостъ, и тогда, безъ сомнѣнія, большая часть Нѣмцевъ-ремесленниковъ, спѣшащихъ лѣтомъ въ воскресные и праздничные дни на Крестовскій островъ, перестали бы нанимать извощиковъ у Троицкаго моста, входили бы въ австерію, закуривали бы сигарки, выпивали бы бутылку пива и стаканъ пуншу и, взвѣшивая удобство австеріи съ привлекательностію трактира на Крестовскомъ, повторяли бы надпись, которая украшала бесѣдку одного изъ Петербургскихъ любителей садовъ и гласила: Не за чѣмъ далеко, и здѣсь хорошо!
Австерія снаружи представляла небольшое четвероугольное зданіе. На главномъ ея фасадѣ находилась по срединѣ дверь, два окошка съ лѣвой стороны двери, и столько же съ правой. Шесть тонкихъ колоннъ, соединенныхъ низенькими рѣзными перилами, поддерживали придѣланный къ дому деревянный навѣсъ и составляли, такимъ образомъ, открытую галлерею, которая предназначена была для того, чтобы изяществомъ своимъ привлекать прохожихъ во внутренность австеріи, подобно замысловатому предисловію, служащему для привлеченія читателей къ прочтенію книги. Въ австеріи продавались отъ казны дорогія водки, иностранныя вина, вообще напитки разнаго рода и закуски. Продажею завѣдывалъ Бургомистръ и нѣсколько купцевъ, нарочно для этого избиравшихся. Петръ Великій въ праздники, отслушавъ обѣдню въ Троицкой Церкви, а въ будни послѣ присутствія въ Сенатѣ, заходилъ въ австерію съ своими приближенными на чарку водки. Сначала предъ этимъ домикомъ, по случаю побѣдъ или радостныхъ событій, отправлялись разныя торжества и сожигаемы были фейерверки, до построенія въ 1714 году на Троицкой площади Коллегій, которыя замѣнили австерію для собраній Двора во время торжествъ5.
Къ этому-то домику поспѣшалъ Шубинъ съ покровителемъ своимъ, старостою, въ намѣреніи угостить его заморскими винами и водками. Гусевъ хотя и носилъ нѣмецкое платье, но не могъ, однакожъ, измѣнить одной своей привычки, которая состояла въ томъ, чтобы взятки всегда были сопровождаемы угощеніемъ на счетъ челобитчика.
Приближаясь къ австеріи, Гусевъ заранѣе наслаждался мысленно запахомъ и вкусомъ напитковъ, до которыхъ онъ былъ большой охотникъ. Сердце его сильно билось отъ удовольствія, какъ будто бы хотѣло перепрыгнуть въ лѣвый карманъ камзола и поздороваться со спрятанными тамъ десятью серебряными рублевиками, которые наканунѣ находились въ карманѣ Шубина и какимъ-то образомъ перешли оттуда въ камзолъ старосты. Не дойдя, однакожъ, шаговъ на сто до австеріи, Гусевъ остановился.
«Мнѣ что-то австерія эта не нравится!» сказалъ онъ Шубину. «Пойдемъ лучше въ другую».
«Да развѣ есть другая?»
«Какъ же! На этомъ же островѣ, въ большой Никольской улицѣ. Точь въ точь, какъ эта, только не деревянная, а мазанковая, и столбовъ да перилъ напереди нѣтъ. Впрочемъ, не красна изба углами, красна пирогами! Тамъ все то же продается, что и здѣсь».
«Да почему жъ намъ въ эту нейти?»
«Ну, такъ! пойдемъ, пожалуйста!»
Этой причины: ну, такъ! Шубинъ вовсе не понялъ. Лѣтописцы разнымъ образомъ ее толковали, но одинъ изъ нихъ, кажется, всего болѣе приблизился къ истинѣ. Онъ пишетъ, что Гусевъ, вѣроятно, не пошелъ въ первую австерію по слѣдующимъ причинамъ. Видъ этого дома напомнилъ ему Царя, который иногда выпивалъ тамъ чарку водки; въ камзолѣ Гусева лежали десять рублевиковъ, взятка, конечно, не изъ большихъ, однакожъ онъ зналъ, что Царь терпѣть не могъ и маленькихъ. Старостѣ казалось, что эти рублевики, въ томъ мѣстѣ, гдѣ Царь бываетъ, закричатъ, пожалуй: «Воры! Караулъ! Держите его!» А хоть бы и этого не случилось, такъ все какъ-то страшно было принимать угощеніе отъ челобитчика въ австеріи, гдѣ Государь бываетъ. Царь есть солнце, разсуждаетъ лѣтописецъ, а совѣсть взяточника уподобляется филину, который боится свѣта солнечнаго и всегда прячется отъ него подальше. Зѣло жаль, восклицаетъ онъ далѣе, что солнце едино есть, филиновъ же окаянныхъ многое множество въ дубравахъ и вертепахъ скрывается.
Но какъ ни разсуждай, а Миловзоръ ужъ тамъ!
сказалъ Дмитріевъ, и мы скажемъ: какъ ни разсуждай, а Гусевъ съ Шубинымъ уже пируютъ въ австеріи, между тѣмъ, какъ бѣдный Воробьевъ, уничиженный, связанный, приближается къ острогу. Видно и въ то время, хотя оно было ближе нынѣшняго къ давно минувшему золотому вѣку, иногда плуты или глупцы наслаждались благами жизни, а люди честные, умные, терпѣли отъ нихъ гоненія и страдали.
Въ той же самой улицѣ, называвшейся большою Никольскою, гдѣ находилась другая австерія, стояла Губернская Канцелярія, одно-этажное деревянное зданіе, походившее на большую избу, и близъ нея острогъ. Представьте себѣ огромный, окованный желѣзомъ сундукъ, только безъ крыши: вотъ лучшее подобіе тогдашняго острога. Онъ былъ устроенъ такимъ образомъ: довольно обширная четвероугольная площадка огорожена была въ три сажени вышиною частоколомъ изъ бревенъ, плотно скрѣпленныхъ желѣзомъ и заостренныхъ сверху. Чтобы отнять возможность подрыться подъ частоколъ, настланы были, вмѣсто пола, три ряда самыхъ толстыхъ досокъ, также скрѣпленныхъ желѣзомъ. Въ этотъ сундукъ можно было попасть только черезъ одну узенькую дверь, продѣланную въ частоколѣ и украшенную со стороны улицы двумя круглыми будками, которыя въ свою очередь украшались остроконечными крышками, похожими на сахарную голову или на стоящій прямо спальный колпакъ съ бубенчикомъ, потому что на верху крышекъ придѣлано было также для украшенія по деревянному шарику. Одинъ наружный видъ этого жилища несчастія (ибо и преступленіе, сказалъ Карамзинъ, есть несчастіе) наводилъ уныніе; каково же было тому, кто изъ свѣтлаго, теплаго домика своего попадалъ во внутренность острога? Только потолокъ печальнаго зданія могъ нѣсколько развеселять его обитателей; онъ такъ былъ великолѣпенъ, что и въ богатѣйшемъ дворцѣ не найти подобнаго. Цвѣтъ этого потолка былъ свѣтло-голубой; по временамъ онъ перемѣнялся въ темно-голубой или синій, иногда же въ темный, неопредѣленный цвѣтъ, но тогда по всему потолку начинали блистать разной величины алмазы бѣлыми, алыми, голубыми, фіолетовыми и другими лучами. Иногда потолокъ украшался занавѣсами. Иные изъ нихъ были посеребрены по краямъ столь ярко, что и ночью сіяли; другіе были столь легки и полупрозрачны, что отъ малѣйшаго вѣтерка двигались; третьи уподоблялись бѣлизною снѣгу и отличались такою разнообразною бахромою, какой никогда не выдумать ни одной модной торговкѣ. Случалось, что потолокъ покрывался сѣрыми или красноватыми занавѣсами, и тогда золотыя стрѣлы придавали имъ необыкновенную красоту, иногда появлялась на немъ сырость, такъ что съ него капала вода; однакожъ эта сырость ничуть не портила алмазныхъ его украшеній. Случалось также, что съ потолка падали то круглые, то разнымъ образомъ ограненные алмазы, или бѣлый пухъ. Потолокъ этотъ былъ такъ высоко поднятъ отъ полу, что если бы въ него при Петрѣ Великомъ кто-нибудь пустилъ изъ острога ядро, и еслибъ оно могло летѣть вверхъ, не останавливаясь, то и нынѣ бы все летѣло, и даже не только нынѣ, но и чрезъ тысячу тысячъ лѣтъ все бы до потолка не достало.
Одинъ ревностный защитникъ старины объяснилъ, почему потолокъ въ острогѣ былъ замѣненъ небеснымъ сводомъ. Онъ утверждалъ, что это сдѣлали съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы преступниковъ, забывшихъ небо и соблазненныхъ земными призраками, отдѣлить трехсаженнымъ частоколомъ отъ послѣднихъ и принудить безпрестанно устремлять взоры на одно первое. Предоставляемъ читателямъ рѣшить: имѣлъ ли Архитекторъ, строившій острогъ, эту человѣколюбивую мысль. Мы сами рѣшить это не беремся. Дѣло прошлое! Мудрено намъ потомкамъ судить предковъ! Надобно вспомнить, что и мы будемъ предками; также, какъ они, присмирѣемъ, исчезнемъ со всѣми нашими замыслами, надеждами, страстями и дѣлами, и будемъ жить на землѣ въ однихъ темныхъ воспоминаніяхъ, въ однихъ книгахъ, въ Исторіи, романахъ и повѣстяхъ; отъ каждаго писателя зависѣть будетъ вызвать насъ изъ праха и заставить дѣйствовать по своему. Чего не взведетъ иной сочинитель на нашу голову! Обличить его будетъ некому. Горькая участь наша!… Утѣшимся однако жъ. Чего бояться потомства? Теперь оно еще не существуетъ. Придетъ время, оно явится, зашумитъ, заволнуется, подобно намъ, и для чего же? Для того только, чтобы уступить мѣсто новымъ поколѣніямъ. Невольно послѣ этого скажешь съ Фамусовымъ:
Пофилософствуй! Умъ вскружится!
Умъ нашъ точно бы вскружился, если бъ небесная, утѣшительная мысль о вѣчной, неземной жизни не объясняла намъ цѣли исчезающихъ съ лица земли одно за другимъ поколѣній.
О чемъ бишь я заговорилъ? молвилъ бы теперь Воробьевъ, если бъ онъ самъ разсказывалъ про себя повѣсть, и если бъ караульщики не подвели ужъ его къ описанному выше острогу. Дверь, заскрыпѣвъ на желѣзныхъ петляхъ, отворилась, и тюремный сторожъ, выглянувъ изъ острога, принялъ Воробьева съ рукъ на руки отъ караульщиковъ. Дверь захлопнулась.
Бѣднякъ, вздохнувъ, невольно посмотрѣлъ на высокой потолокъ острога и, прислонясь къ частоколу, закрылъ лице руками.
Между тѣмъ, Марія, купивъ въ Гостиномъ дворѣ припасы для обѣда, отослала ихъ домой съ работницей, которая ее сопровождала, и пошла сама къ Троицкой церкви6. Марія хотя и родилась отъ Шведа, но по убѣжденію своего воспитателя приняла на тринадцатомъ году возраста православную Вѣру. Она вошла въ храмъ, усердно помолилась и, выходя на площадь, примѣтила подлѣ себя вышедшаго вмѣстѣ съ нею изъ церкви молодаго человѣка. Онъ слѣдовалъ за нею. Марія, потупивъ глаза въ землю, поспѣшила къ дому, но молодой человѣкъ отъ нея не отставалъ.
«Ты, вѣрно, Марья Павловна, меня не узнала», сказалъ онъ наконецъ.
Она невольно вздрогнула, быстро подняла глаза, и увидѣла передъ собою Никитина. Взоры ея блеснули радостью, сердце затрепетало, какъ крыло бабочки, играющей на солнцѣ, щеки покрылись яркимъ румянцемъ, и полуоткрытыя, прелестныя уста искали словъ для отвѣта и не находили.
«Сегодня только пріѣхалъ я въ Петербургъ, поспѣшилъ прежде всего въ церковь излить предъ Богомъ благодарность за благополучное возвращеніе на родину, и потомъ думалъ идти къ твоему батюшкѣ. Здоровъ ли онъ?»
«Слава Богу, здоровъ», отвѣчала торопливо Марія, нѣсколько оправясь отъ смущенія, произведеннаго въ ней столь неожиданною и радостною встрѣчею съ женихомъ.
Могъ ли онъ не замѣтить этого смущенія? Оно доказало ему, что долговременное отсутствіе не изгладило его изъ памяти Маріи; оно увѣрило его, что онъ любимъ по прежнему. Сердце его наполнилось ощущеніями, которыя словами выразить не возможно. Счастливцы и не примѣтили, какъ подошли къ дому.
«Я привезъ изъ Италіи нѣсколько списковъ съ лучшихъ картинъ», сказалъ Никитинъ. «Завтра я тебѣ покажу ихъ, мой ангелъ! Увидишь, что я пишу не но прежнему. Нынѣ искусство мое, при помощи Божіей, можетъ доставить мнѣ хлѣбъ. Я не желаю многаго! Лишь бы ты не терпѣла ни въ чемъ нужды и была счастлива! Ты, вѣрно, знаешь, милая, по какому праву я говорю съ тобою такъ откровенно? Твой батюшка при отъѣздѣ моемъ далъ мнѣ слово, и я увѣренъ, что оно дано не противъ твоего согласія. Не правда ли?»
Марія молчала и потупила снова глаза въ землю. Двѣ слезы, подобныя алмазамъ, навернулись на длинныхъ ея рѣсницахъ. Иногда и молчаніе краснорѣчиво и быстро выражаетъ болѣе чувствованій и мыслей, нежели рѣчи, которыя Гомеръ называлъ крылатыми. — Но однѣ ли рѣчи можно назвать крылатыми? Почему не сравнить радостей, счастія, съ крылатыми райскими птичками, изрѣдка прилетающими къ человѣку? Какъ часто эти рѣдкія на землѣ птички вдругъ поднимаютъ крылышки и скрываются навсегда, навсегда! Это испытали Марія и женихъ ея.
Въ то самое время, когда сердца ихъ утопали въ радости, вдругъ вошелъ въ комнату прикащикъ Воробьева съ заплаканными глазами.
«Гдѣ батюшка?» спросила его Марія.
«Ахъ, матушка, Марья Павловна! Дожили мы до горя до бѣды! Бѣдный хозяинъ мой, отецъ нашъ родной, Илья Ѳомичъ!»
«Что такое сдѣлалось?» спросила, поблѣднѣвъ, Марія.
«Въ острогъ его посадили, матушка, въ острогъ!» Прикащикъ, утирая слезы, разсказалъ все въ подробности Маріи. Онъ какъ-то узналъ и объ условіи, на которомъ Шубинъ соглашался ждать уплаты долга.
Райская птичка подняла крылышки высоко, и скрылась изъ глазъ Маріи.
Когда прикащикъ вышелъ изъ комнаты, Марія едва слышнымъ голосомъ, прерываемымъ рыданіями, сказала Никитину: «Я любила тебя, искренно любила!… Теперь не стыжусь признаться въ этомъ!… Мы, вѣрно, были бы счастливы!… Но видно, мнѣ суждено быть за другимъ… Простимся навсегда! Не возражай мнѣ. Я должна на это рѣшиться. Онъ воспиталъ меня, онъ замѣнилъ мнѣ отца! И онъ въ острогѣ! Пусть умру я, но я должна спасти его!»
Марія, выбѣжавъ изъ комнаты и увидѣвъ прикащика, сказала ему твердымъ голосомъ: «Веди меня къ Шубину!» Прикащикъ, проводивъ своего хозяина до самаго острога и возвращаясь домой, увидѣлъ Шубина и старосту, сидѣвшихъ у окна въ австеріи, которая была въ той же улицѣ, гдѣ находился и острогъ. Онъ повелъ Марію. Несчастный Никитинъ издали слѣдовалъ за нею. Легче было бы ему слѣдовать за гробомъ невѣсты.
«Выкушай еще чарочку!» говорилъ Шубинъ, кланяясь въ поясъ старостѣ.
«Не много ли будетъ, хе, хе, хе! Не даромъ говорится: первая чарка коломъ, другая соколомъ, а послѣднія мелкими пташками летятъ. Я ужъ и счетъ этимъ пташкамъ потерялъ!»
«Неужто ты пьешь по счету, Спиридонъ Степанычъ? Бѣды не будетъ, если чарочку–другую и просчитаешь. Гей, молодецъ! Дай-ка еще фляжку заморскаго! На моей свадьбѣ я еще не такъ тебя угощу, благодѣтель мой! Это еще что! Цвѣтки, а тамъ будутъ ягодки!»
«Ба! Что это за женская персона вошла сюда?» воскликнулъ Гусевъ «Тьфу пропасть! Какъ она озирается! Ужъ не юродивая ли какая!»
«Ты здѣсь!» сказала Марія, взглянувъ на Шубина. Кровь кипѣла въ ея жилахъ, но бѣдная дѣвушка усиливалась скрыть свое волненіе и старалась казаться спокойною. «Ради Бога, освободи батюшку изъ острога!… Я согласна идти къ вѣнцу съ тобою! Но только освободи его теперь же, сейчасъ!»
Шубинъ вытаращилъ на нее глаза. Безсмысленное лице его ясно показывало, что онъ, подносивъ Гусеву, не забывалъ и себя.
«Хе, хе, хе! Дѣло идетъ, кажется, на ладъ!» замѣтилъ староста. «Счастливецъ ты, Карпъ Силычъ! Другіе за невѣстами ухаживаютъ, кланяются имъ, а къ тебѣ сама невѣста пришла съ поклономъ. Хе, хе, хе! Что жъ ты ей ничего не отвѣчаешь? Развѣ раздумалъ жениться? Обними свою изреченную!»
У Шубина появилась на лицѣ такая же пріятная улыбка, какая бы украсила физіономію осла, если бъ онъ могъ улыбаться. Онъ всталъ со стула, пошатнулся немного въ сторону и протянулъ руки къ Маріи, чтобы обнять ее; но она его оттолкнула.
«Прежде освободи батюшку!»
«Видишь еще, спесь какая!» сказалъ староста. «Освободи ей, изволишь видѣть, батюшку! Пожалуй! За этимъ дѣло не станетъ! Ты соглашаешься, Карпъ Силычъ, ждать уплаты долга вмѣстѣ съ прочими заимодавцами?»
«Какого долга? Я ей, кажись, ничего не долженъ! Будетъ женою, такъ сочтемся!»
«Хе, хе, хе! Не ты говоришь, я вижу, а хмѣль говоритъ. Грѣшные люди! Выпили мы съ тобою немножко сегодня! Я знаю впрочемъ, что ты ждать долга согласенъ».
«Что такое? Чего ждать долго? Нѣтъ, Спиридонъ Степанычъ! Я не согласенъ. Коли жениться, такъ завтра же къ вѣнцу!»
«Ну, ну, ладно. Пойдемъ-ка къ острогу».
«Пойдемъ. Не испугаешь острогомъ! Куда хочешь веди! лишь бы эта кралечка отъ меня не отстала!»
«Она съ нами пойдетъ. Э! братъ! Да ты и дверей ужъ не видишь, а хочешь выйти на улицу въ окошко! Хе, хе, хе! Сядька-ка, да подожди меня здѣсь. Лучше я схожу одинъ и приведу сюда ея батюшку».
Староста вышелъ. Марія хотѣла идти за нимъ вслѣдъ, но Шубинъ, сидѣвшій близъ двери, всталъ, шатаясь, и загородилъ ей дорогу.
«Куда, моя распрекрасная? Куда ты отъ жениха своего бѣжишь? Я не нущу. Жить не могу безъ тебя! Тошно! Да что жъ ты толкаешься! Вѣдь коли честью не останешься, такъ силой удержу. Нѣтъ, матушка! Стой! Не выпущу! Самъ десятскій меня не сдвинетъ и отъ дверей не оттащитъ!»
Онъ схватился за ручку замка. Бѣдная Марія, заплакавъ, отошла отъ двери и сѣла на скамейку, стоявшую въ темномъ углу горницы.
Между тѣмъ староста войдя въ острогъ, сказалъ Воробьеву, что Шубинъ хочетъ съ нимъ поговорить.
«Пойдемъ-ка, Илья Ѳомичъ!» продолжалъ онъ. «Полно сердиться! Я тебя помирю съ Шубинымъ. Что тебѣ за охота сидѣть въ острогѣ!»
«Если онъ хочетъ опять предложить мнѣ прежнее условіе, то не о чемъ мнѣ и говорить съ нимъ. Для своего спасенія, я ни за что на свѣтѣ не рѣшусь погубить сироты безродной!»
«Не о томъ дѣло, Илья Ѳомичъ! Никого губить тутъ не требуется. Пойдемъ-ка. Увидишь, что я васъ помирю! Что жъ ты нейдешь? Если острогъ тебѣ такъ понравился, такъ можно вѣдь будетъ сюда воротиться. Тьфу, какой упрямый!»
Взявъ за руку Воробьева, староста почти насильно вывелъ его изъ острога и сказалъ на ухо тюремному сторожу, чтобы онъ послалъ въ слѣдъ за ними къ австеріи двухъ караульщиковъ и велѣлъ имъ дожидаться его на улицѣ.
Едва успѣлъ Воробьевъ войти съ старостою въ австерію, какъ Марія, вскочивъ со скамьи, бросилась своему воспитателю на шею.
«Батюшка!» повторяла она, рыдая и цѣлуя его руки.
Воробьевъ прижималъ ее къ сердцу и плакалъ. Въ это время Никитинъ, съ отчаяніемъ въ душѣ, давно ходившій взадъ и впередъ по улицѣ мимо австеріи, рѣшился войти въ нее, почти не понимая самъ, что онъ дѣлаетъ.
«Вотъ, изволишь видѣть, Илья Ѳомичъ!» сказалъ староста, не примѣтивъ вошедшаго Никитина. «Грѣшно бы было, конечно, да и по Царскому указу нельзя принудить Марью Павловну выйти замужъ за Шубина; но она сама этого желаетъ. По тому же Царскому указу ты отказать ей въ этомъ не можешь. Ударь-ка по рукамъ съ Карпомъ Силычемъ, такъ и дѣло будетъ въ шляпѣ. Онъ бы долгу своего подождалъ, ты бы дѣла свои поправилъ и поживалъ бы себѣ въ своемъ домикѣ припѣваючи. Вѣдь въ острогѣ-то куда жить не хорошо! Хе, хе, хе!»
«Да, любезный батюшка! Благослови меня! Я согласна выйти замужъ за Карпа Силыча. Онъ такъ богатъ! Я буду съ нимъ счастлива! Боже мой!» воскликнула она, увидѣвъ Никитина, и закрыла лице руками. Онъ стоялъ неподвижно у двери. На лицѣ его выражалось неизобразимое душевное страданіе.
Глубоко тронутый Воробьевъ, оглянувшись, протянулъ руки и, подойдя къ Никитину крѣпко обнялъ его. Потомъ подведя его къ Маріи, сказалъ ей: «Вотъ женихъ твой, Маша! Я далъ ему слово. Знаю, что ты любишь его. Господь благословитъ васъ! Живите счастливо! А обо мнѣ не безпокойтесь. Я довольно пожилъ на свѣтѣ. И въ острогѣ съ чистою совѣстію доживу я свой вѣкъ спокойно!…»
Никитинъ, пораженный его великодушіемъ, напрасно искалъ словъ, чтобы выразить кипѣвшія въ груди его чувства: то смотрѣлъ онъ на Марію, то на ея воспитателя, и слезы текли изъ глазъ его.
Воробьевъ хотѣлъ соединить ихъ руки; но Марія, тихо оттолкнувъ руку Никитина, воскликнула: «Нѣтъ, нѣтъ! Никогда! Ни за что на свѣтѣ!»
«Для чего жъ ее принуждать?» замѣтилъ староста, подводя къ Воробьеву Шубина, съ трудомъ державшагося на ногахъ. «Вотъ женихъ ея! Этотъ ей нравится. Не упрямься, Илья Ѳомичъ! Видишь, она какъ тебя проситъ; колѣна твои обнимаетъ! Какой несговорчивый! Благослови ее за Карпа Силыча. Право, онъ дѣтина знатной!»
«Нѣтъ, Машенька!» сказалъ Воробьевъ. «Я не измѣню своему слову! Не дамъ тебѣ благословенія! Пока я живъ, не пойдешь ты къ вѣнцу съ этимъ богачемъ. Не губи себя для меня! Вотъ женихъ твой! Онъ бѣденъ; онъ такой же, какъ ты, сирота; но Богъ милосердый отецъ всѣхъ сиротъ! Да благословитъ онъ васъ! Прощайте! Живите счастливо, и, когда я умру, вы вѣрно, дѣти, придете на моей могилкѣ поплакать и добромъ меня помянете. Прощайте, мои милые! Веди меня въ острогъ!» продолжалъ онъ твердымъ голосомъ, обратясь къ старостѣ, и пошелъ къ двери.
«Батюшка! Ради Бога!» восклицала рыдавшая Марія и бросилась вслѣдъ за ея воспитателемъ; но Староста остановилъ ее. Въ изнеможеніи опустила она руки и голову, и закрыла глаза. Передавъ ее въ объятія Шубина, Староста вышелъ вслѣдъ за Воробьевымъ на улицу, и велѣлъ двумъ караульщикамъ, ожидавшимъ тамъ его приказаній, связать старика и вести за нимъ въ острогъ.
Марія, опамятовавшись и открывъ глаза, съ ужасомъ вырвалась изъ объятій Шубина. Потерявъ равновѣсіе, онъ закачался, какъ лодка, бросаемая волнами, и упалъ подлѣ двери, ворча сердито: «Я тебя, злодѣйку! Научу я тебя толкать своего мужа!»
Купецъ, продававшій напитки въ австеріи, во все время описанной сцены стоялъ въ молчаніи за прилавкомъ.
«Подними меня!» закричалъ ему Шубинъ.
«Самъ встанешь!» отвѣчалъ купецъ.
«Подними!» заревѣлъ Шубинъ, стуча кулакомъ въ полъ.
«Какъ бы Староста не былъ твой пріятель, я бы тебя, нахала, умѣлъ проводить отсюда!»
«Не плачь, милый другъ, не плачь!» говорилъ между тѣмъ Никитинъ Маріи, взявъ ее за руку и сажая на скамейку. «Я буду день и ночь работать. Богъ поможетъ мнѣ! Я заплачу долгъ Шубину за твоего батюшку; онъ освободится изъ острога; какъ тогда мы будемъ счастливы!»
«Подними меня, разбойникъ!»
«Ахъ, Боже мой! Я вспомнилъ про твой ящичекъ, милый другъ. Ты еще не раскрыла его?»
«Нѣтъ, срокъ еще не пришелъ», отвѣчала Марія.
«Можетъ быть въ немъ найдешь ты золото или какія-нибудь драгоцѣнности. Ахъ, дай Богъ! Тогда бы ты выкупила батюшку».
Утопающій крѣпко хватается и за плывущую вѣтку, не разсчитывая, что она удержать его не можетъ поверхъ глубины, всасывающей свою жертву. Такъ и Марія въ предположеніи, очень еще сомнительномъ, жениха своего увидѣла лучъ надежды и радостно предалась этому чувству. Сопровождаемая Никитинымъ, она немедленно пошла къ дому своего воспитателя.
Староста, оставивъ Воробьева въ острогѣ, поспѣшилъ возвратиться въ австерію и, торопливо входя туда, запнулся за Шубина, который послѣ ухода Маріи съ Никитинымъ подвинулся еще ближе къ двери и растянулся подлѣ самаго порога. Онъ успѣлъ схватить Спиридона Степановича за ногу и чуть не уронилъ его.
«Что за чурбанъ положили тутъ у дверей!» воскликнулъ сердито староста.
«Ага! Попался, голубчикъ!» сказалъ Шубинъ, вообразивъ, что онъ держитъ за ногу купца, который отказался поднять его. «Вотъ я тебя! Теперь я тебѣ пересчитаю ребра! Нѣтъ, не вырвешься! Погоди!»
Съ этими словами далъ онъ пинка своему благодѣтелю. Это и не съ пьяными случается, только съ тою разницею, что пинки даются людьми стоящими или поставленными на ноги, благодѣтелямъ, которые уже упали или уронены.
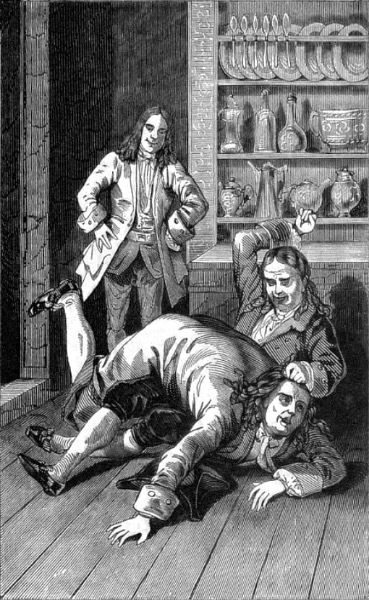
«Съ ума ты сошелъ!» закричалъ староста, повалясь на полъ подлѣ Шубина. «Бить меня! Да какъ ты осмѣлился!»
«Ахъ, Спиридонъ Степанычъ! Я думалъ, что это не ты. Прости меня великодушно!»
Послѣ униженныхъ извиненій съ одной стороны и строгаго выговора съ другой, пріятели, лежа, помирились, при помощи продавца напитковъ встали, и удалились изъ австеріи.
Черезъ нѣсколько дней настало первое октября. Можно легко вообразить, съ какимъ нетерпѣніемъ ожидала Марія этого дня. Прежнее ожиданіе, открыть въ таинственномъ ящикѣ какое-нибудь извѣстіе объ отцѣ ея, возбужденная недавно надежда найти тамъ драгоцѣнность, которая бы могла доставить ей средство помочь ея воспитателю, томившемуся въ острогѣ, страхъ открыть ящикъ одной и въ полночь, — все это сильно волновало Марію. Никитинъ, поздно вечеромъ оставивъ кисть и закрывъ свой ящикъ съ красками, пришелъ къ своей невѣстѣ, чтобы разговорами нѣсколько развлечь ее и успокоить. Они сѣли ужинать и, продолжая разговаривать, смотрѣли отъ времени до времени на стѣнные часы. Пробило одиннадцать. Однообразный звукъ маятника напоминалъ имъ, что минута, такъ долго ожиданная, скоро наступитъ. Чѣмъ ближе подвигалась стрѣлка къ цифрѣ ХІІ, тѣмъ сильнѣе бились сердца Маріи и жениха ея.
«Не пора ли, мои другъ, тебѣ идти?» сказалъ Никитинъ, вдругъ прервавъ начатой имъ разсказъ про Италію и указавъ на часы. «До полуночи осталась одна минута».
Марія невольно вздрогнула, взяла въ молчаніи свѣчу со стола, и съ сильнымъ трепетомъ сердца пошла въ свою комнату. Затворивъ за собою дверь, подошла она къ столику, на которомъ стоялъ ящикъ ея, перекрестилась, взглянувъ на образъ, висѣвшій на стѣнѣ надъ столикомъ, и сняла съ шеи черную ленту, на которой носила она ключъ отъ ящика.
Часы начали бить полночь. Марія трепещущею рукою открыла ящикъ. Внутренность его обита была чернымъ бархатомъ. Въ ящикѣ усидѣла Марія бумагу, писанную на неизвѣстномъ ей языкѣ, и пергаментный свитокъ, связанный черною лентою. Болѣе ничего въ немъ не было. Въ недоумѣніи взяла она бумагу и свитокъ, и рѣшилась показать ихъ знавшему Шведскій языкъ Никитину, предполагая, что бумага была написана на этомъ языкѣ. Съ этимъ намѣреніемъ вышла она въ другую комнату.
«Что, моя милая?» спросилъ ее торопливо Никитинъ, глядя на нее пристально.
«Вотъ что нашла я» отвѣчала Марія, подавая ему бумагу и свитокъ.
Никитинъ, прочитавъ первую, поблѣднѣлъ. Взявъ потомъ пергаментный свитокъ, осмотрѣлъ онъ его внимательно, хотѣлъ развязать ленту, которою свитокъ былъ связанъ, но вдругъ, какъ бы испугавшись, положилъ его на столъ и задумался. Потомъ началъ онъ еще разъ внимательно читать бумагу.
Марія, устремя на него испытующій взоръ, старалась угадать волновавшія его мысли. На лицѣ Никитина ясно изображались изумленіе, радость, страхъ и нерѣшимость.
Когда Никитинъ прочиталъ во второй разъ бумагу, Марія спросила его: «Нѣтъ ли надежды узнать что-нибудь о моемъ родителѣ?»
«Никакой».
«Что же въ себѣ содержитъ эта бумага?»
«Это его завѣщаніе».
Марія, схвативъ бумагу, покрыла ее поцѣлуями и оросила слезами.
«Что батюшка пишетъ?» спросила она прерывающимся отъ сильнаго душевнаго волненія голосомъ.
«Не спрашивай меня, милая! Лучше тебѣ не знать содержанія этого завѣщанія».
«Что это значитъ?»
«Если все то справедливо, что сказано въ бумагѣ, то мы съ тобою можемъ пріобрѣсть несмѣтное богатство. Все зависитъ отъ этого пергаментнаго свитка, но прочитать его я не рѣшаюсь. Это ужасно!»
«Ты меня удивляешь! Объяснись, ради Бога!»
«Нѣтъ, милая! Не принуждай меня, для собственнаго твоего спокойствія!»
Убѣжденный неотступными просьбами Маріи, желавшей непремѣнно знать послѣднюю волю отца своего, Никитинъ наконецъ рѣшился сообщить ей содержаніе завѣщанія. Марія, измѣнясь въ лицѣ, почти съ ужасомъ его слушала.
«Какъ ты думаешь, другъ мой?» спросилъ Никитинъ. «Рѣшиться ли мнѣ прочитать этотъ свитокъ?»
«Нѣтъ, нѣтъ!» воскликнула Марія. «Если меня любишь, не дѣлай этого!»
«Мы бы могли тотчасъ же помочь бѣдному твоему воспитателю и освободить его изъ острога».
«Но, подумай, что ты можешь погубить себя невозвратно!»
«Совѣсть моя ни въ чемъ меня не укоряетъ, другъ мой. Душа моя чиста. Кажется, я могу на это рѣшиться. Можетъ быть, я и заблуждаюсь. Тогда, конечно, гибель моя несомнѣнна!»
«Нѣтъ, нѣтъ! Рѣшаться на такой опытъ слишкомъ ужасно! Прежде должно испытать всѣ другія средства къ освобожденію моего бѣднаго батюшки».
Марія взяла завѣщаніе отца и пергаментный свитокъ, и снова заперла ихъ въ ящикъ. Никитинъ, простясь съ нею, пошелъ домой, погруженный въ размышленія. Марія не могла сомкнуть глазъ цѣлую ночь.
На другой день, 2го Октября, Никитинъ пришелъ опять вечеромъ къ своей невѣстѣ, не смотря на сильную бурю, которая поднялась еще съ самаго утра. Разговоръ ихъ снова начался объ открытіи, сдѣланномъ ими наканунѣ. Неожиданно вошелъ въ комнату Шубинъ. Онъ низко поклонился Маріи и сказалъ : «Прости меня великодушно, Марья Павловна, что я пришелъ къ тебѣ такъ поздно. Я узналъ, что въ ящикѣ, который тебѣ родитель оставилъ, ты не нашла ничего, кромѣ какихъ-то грамотокъ».
«Ты ужъ узналъ объ этомъ!» сказала Марія, вспыхнувъ отъ гнѣва.
«Какъ не узнать! Слухомъ земля полнится».
«За сколько рублей купилъ ты мою тайну у нашей работницы? Кромѣ ея никто не могъ знать до сихъ поръ, что я нашла въ ящикѣ».
«Нѣтъ, Марья Павловна. Я не говорилъ ни слова съ твоей работницей. Да дѣло не въ томъ. Я пришелъ спросить тебя: согласна ли ты идти къ вѣнцу со мною? Дай мнѣ вѣрное слово, и батюшку твоего завтра же выпустятъ изъ острога. Это отъ меня одного зависитъ. Никто, кромѣ меня, тебѣ помочь не можетъ.
«Не правда!» возразила вспыльчиво Марія. «Иногда лоскутокъ написанной бумаги лучше наличныхъ денегъ. Я могу обойтись безъ твоей помощи! Твой долгъ будетъ тебѣ чрезъ нѣсколько дней уплаченъ».
Никитинъ, замѣтивъ, что Марія, увлеченная негодованіемъ, высказала Шубину болѣе, нежели сколько требовала осторожность, сдѣлалъ ей знакъ головою. Марія, почувствовавъ свою неосмотрительность, замолчала; но Шубинъ по ея отвѣту началъ догадываться, что въ ящикѣ найдена ею какая-нибудь важная бумага. Можетъ быть, думалъ онъ, отецъ ея завѣщалъ ей богатое наслѣдство въ Швеціи. Отвѣтъ Маріи сильно смутилъ его, уничтоживъ надежду на придуманное имъ средство принудить ее выйти за него замужъ.
Староста, по совѣтамъ котораго Шубинъ дѣйствовалъ, ходилъ между тѣмъ взадъ и впередъ по Троицкой площади и ждалъ окончанія переговоровъ своего пріятеля, поглядывая изрѣдка на домъ Воробьева. Войти въ домъ не рѣшился онъ и для того, чтобы не показать явнаго пристрастія въ дѣлѣ Шубина, и для того, что находилъ свое присутствіе лишнимъ при объясненіяхъ Карпа Силыча съ Маріею. Все небо покрыто было тучами, вечерняя темнота все болѣе и болѣе сгущалась, и порывистый вѣтеръ со стороны моря дулъ съ необыкновенною силою.
Шубинъ нѣсколько времени простоялъ неподвижно, глядя на Марію и сбираясь съ мыслями, и рѣшился наконецъ идти къ своему благодѣтелю на площадь, за совѣтами. Поклонясь Маріи и посмотрѣвъ злобно на Никитина, онъ вышелъ изъ комнаты, но вскорѣ вбѣжалъ опять и закричалъ: «Мнѣ нельзя уйти отсюда! Двери на крыльцѣ и ворота крѣпко–накрѣпко заперты. Сквозь всѣ щели забора бѣжитъ съ площади вода!»
Никитинъ подошелъ, къ окну, отворилъ фортку и, не смотря на вой вѣтра, услышалъ шипѣніе волнъ, которыя, разбѣгаясь съ площади, достигли до самаго дома и разлетались брызгами и пѣной.
«Наводненіе!» воскликнулъ онъ.
«Боже мой!» сказала вполголоса испуганная Марія.
Староста, прогнанный водою съ площади, подбѣжалъ къ дому Воробьева; но увидя, что дверь на крыльцѣ и ворота заперты, взлѣзъ на заборъ и сѣлъ на него верхомъ.
Никитинъ, продолжая смотрѣть въ окно, нѣсколько разъ отиралъ платкомъ съ лица водяные брызги. Въ то самое время, когда ревъ порывистаго вѣтра стихъ на нѣсколько мгновеній, съ ужасомъ услышалъ Никитинъ вдали жалобный крикъ: «Тону! Тону! Батюшки, помогите!» Первая мысль, въ немъ мелькнувшая, была спасти утопавшаго, во что бы то ни стало. — Но какимъ средствомъ спасти несчастнаго! Это невозможно! — была вторая мысль, наполнившая сердце Никитина горестію и состраданіемъ. Черезъ нѣсколько времени опять раздался тотъ же крикъ. «Тону! Тону!» и вскорѣ голосъ умолкнулъ.
Буря все болѣе и болѣе свирѣпѣла и вода быстро прибывала. Густой мракъ покрывалъ всю Троицкую площадь. Никитинъ, взявъ со стола двѣ свѣчи, приставилъ ихъ къ стеклу окна и снова началъ смотрѣть въ фортку, стараясь увидѣть по крайней мѣрѣ высоту воды, которой она уже достигла, сіяніе свѣчъ разлилось на небольшое пространство передъ домомъ Воробьева и, споря съ мракомъ, слабѣло по мѣрѣ отдаленія; наконецъ, побѣжденное врагомъ своимъ, оно умирало, не имѣя силы пробиться далѣе въ черный, непроницаемый океанъ тьмы. Изъ этого океана являлись, какъ привидѣнія въ развѣвающихся бѣлыхъ саванахъ, кипящія пѣною волны и, шумя, бѣжали къ дому. Отъ ударовъ ихъ стѣна начала дрожать. Никитинъ, какъ живописецъ, на нѣсколько времени забылся и смотрѣлъ на эту картину съ ужасомъ, смѣшаннымъ съ наслажденіемъ. Вдругъ вспомнивъ возрастающую съ каждою минутою опасность, онъ началъ наблюдать: прибываетъ ли вода или нѣтъ? Когда вѣтеръ стихалъ, являлись изъ мрака ровныя, широкія волны; когда опять ударялъ порывъ вихря, волны возрастали и на вершинѣ ихъ крутилась пѣна. Вдругъ появился валъ, подобный великану, который на сѣдой головѣ своей несъ трупъ человѣка. Никитинъ, содрогнувшись, отскочилъ отъ окна и закрылъ фортку.
«Не нужно ли будетъ», сказалъ онъ, «изъ осторожности перенести отсюда вещи на чердакъ? Вода, кажется, все прибываетъ».
Марія поблѣднѣла. Шубинъ заохалъ отъ страха. Всѣ начали носить на чердакъ, что попадалось первое подъ руку. Шубинъ усердно помогалъ Маріи и Никитину. Вскорѣ присоединились къ нимъ прикащикъ и работница Воробьева. Какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, носили вещи, мало стоющія, и забывали дорогія. Марія однакожъ не забыла своего ящика, который былъ ей всего на свѣтѣ драгоцѣннѣе, какъ единственная вещь, оставшаяся послѣ отца. Шубинъ, разогнавъ нѣсколько страхъ свой мыслію, что вода не дойдетъ до чердака, обратилъ вниманіе свое на ящикъ. Онъ считалъ его препятствіемъ къ браку своему съ Маріею, думая, что въ этомъ ящикѣ хранится средство, о которомъ она говорила, уплатить ему долгъ и освободить ея воспитателя изъ острога. Выждавъ время, когда онъ одинъ остался на чердакѣ, безсовѣстный схватилъ ящикъ, спряталъ въ глубокій карманъ своего Саксонскаго кафтана, и пошелъ внизъ помогать въ перенесеніи на чердакъ остальныхъ вещей.
Въ это время набѣжавшая сильная волна ударила въ окна той комнаты, гдѣ находились Марія и женихъ ея. Рамы задребезжали, и одно разшибленное стекло зазвенѣло.
«Пойдемъ, милая, вверхъ скорѣе!» сказалъ Никитинъ, взявъ Марію за руку. «Мы не успѣемъ всего переносить. Скоро вода вольется въ комнаты».
Они пошли вверхъ. Марія, вдругъ какъ бы проснувшись отъ страшнаго сна, вспомнила про своего воспитателя, заключеннаго въ острогѣ. Вообразивъ опасность, которой онъ тамъ подвергался, она вскрикнула отъ ужаса.
«Что съ тобой, другъ мой?» спросилъ Никитинъ, ведя ее по лѣстницѣ.
«Бѣдный мой батюшка! Онъ утонетъ!»
Никитинъ старался ее успокоить, говоря, что безъ сомнѣнія примутъ мѣры для спасенія находящихся въ острогѣ.
Марія, взойдя на чердакъ, бросилась въ кресла и въ отчаяніи ломала руки. Никитинъ примѣтивъ слабый красноватый свѣтъ, проникавшій съ площади въ слуховое окно, подошелъ и выглянулъ въ него. Надъ Выборгскою стороной увидѣлъ онъ разстилавшееся зарево. Кровавое его сіяніе разсѣяло нѣсколько мракъ этой страшной ночи.
Троицкая площадь въ то время была гораздо обширнѣе нынѣшней, и продолжалась до самаго берега Невы. Одна Троицкая церковь и австерія стояли на берегу. Никитинъ подумалъ, что видитъ передъ собою море. Вся площадь Троицкая, широкая Нева и обширный лугъ, находившійся на другомъ берегу Невы между Лѣтнимъ садомъ и Почтовымъ дворомъ, составили необозримую водную поверхность, покрытую волнами. Противъ теченія рѣки доски, бревна, лодки, суда быстро неслись по водѣ, гонимыя вѣтромъ. Казалось, весь Финскій заливъ, поднявшись, стремился на Петербургъ. Зрѣлище было поразительно.
Когда Никитинъ отошелъ отъ окна, Шубинъ сталъ на его мѣсто. Представившаяся ему картина разрушенія въ такой привела его страхъ, что онъ началъ дрожать, какъ осиновый листъ. Во время пребыванія его въ скитѣ, много разъ слышалъ онъ поученія, въ которыхъ описывалась кончина міра. Невольно вспомнилъ онъ эти описанія, глядя на мрачное небо, на зарево, которое какъ будто-бы происходило отъ загорающейся земли, на выступившія изъ береговъ воды, которыя стремились все разрушить. Притомъ ужасный ревъ вѣтра, трескъ падающихъ заборовъ, крикъ людей, просящихъ помощи, все это приводило душу въ содроганіе. — Ужъ не кончина ли міра настала? — подумалъ Шубинъ, вспомнивъ, что въ скитѣ онъ часто слыхалъ, какъ предсказывали близкое наступленіе послѣдняго дня.
Погруженный въ эти размышленія, вдругъ услышалъ онъ сильный трескъ, и въ слѣдъ за тѣмъ раздавшійся надъ головой его голосъ: «Преставленіе свѣта!»
Оледенѣвъ отъ ужаса, Шубинъ отскочилъ отъ слухового окна и бросился въ ноги прежде Маріи, а потомъ Никитину.
«Преставленіе свѣта!» воскликнулъ онъ. «Я слышалъ голосъ съ неба! Простите меня, многогрѣшнаго! Я обижалъ васъ, хотѣлъ вамъ зла. Теперь ничего не нужно человѣку! Блаженъ, кто зла не творилъ, и дѣлалъ дѣла благія! Простите меня, многогрѣшнаго!»
«Помилуй, что съ тобой сдѣлалось?» спросилъ удивленный Никитинъ, поднимая лежавшаго передъ нимъ кающагося грѣшника.
«Я слышалъ голосъ, своими ушами слышалъ! Простите, меня окаяннаго!»
Никитинъ подошелъ снова къ слуховому окну, и увидѣлъ прежнюю картину наводненія. Онъ началъ вслушиваться, и ничего не могъ различить, кромѣ воя вѣтра и шума волнъ. Наконецъ онъ въ самомъ дѣлѣ слышитъ надъ собою голосъ: «Батюшки-свѣты. Весь Питеръ видно потонетъ!»
«Кто тамъ?» закричалъ живописецъ, высунувшись по поясъ изъ окошка.
«Я!» отвѣчалъ староста Гусевъ, перелѣзшій съ забора на кровлю дома. Толстякъ стоялъ подлѣ трубы, схватясь за нее обѣими руками. «Нельзя ли мнѣ какъ попасть на чердакъ? Я того и смотрю, что меня отсюда вѣтромъ сшибетъ».
Никитинъ отыскалъ на чердакѣ длинный шестъ, которымъ Воробьевъ иногда гонялъ голубей, сохранивъ съ молодыхъ лѣтъ страсть къ этой забавѣ. Протянувъ шестъ къ старостѣ, Никитинъ совѣтовалъ ему, чтобы онъ, держась за шестъ, осторожно спустился къ окошку. Гусевъ послѣдовалъ совѣту и сползъ на чердакъ.
«Ты, Спиридонъ Степанычъ, закричалъ, когда я смотрѣлъ въ окно: преставленіе свѣта?» спросилъ Шубинъ.
«Я. Съ ближняго дома вѣтеръ сорвалъ крышу и съ такимъ трескомъ, что у меня душа въ пятки ушла».
«Ты меня до смерти перепугалъ!»
«Да ужъ что говорить! Не мы одни съ тобой теперь трусимъ!»
Вода между тѣмъ все возвышалась болѣе и влилась въ комнаты. Зарево, происшедшее отъ загорѣвшейся близь Петербурга деревни, начало гаснуть и блескъ его слился съ зарею, появившеюся на прояснившемся Востокѣ. Вѣтеръ сталъ постепенно слабѣть и къ полудню утихъ совершенно. Вода начала быстро сбывать.
«Не поспѣшить ли намъ домой?» сказалъ Гусевъ, глядя въ слуховое окно. «По площади народъ ужъ ходитъ. Сколько на ней бревенъ, дровъ, лодокъ и разнаго хламу! Надо взглянуть, что у насъ дома вода напроказила».
Поклонясь Маріи, староста и Шубинъ, съ похищеннымъ ящикомъ въ карманѣ, вышли.
Никитинъ, по просьбѣ Маріи, немедленно повелъ ее къ острогу, чтобы узнать объ участи ея воспитателя. Тамъ сторожъ Губернской Канцеляріи сказалъ имъ, что всѣ заключенные были переведены на чердакъ дома, гдѣ помѣшалась Канцелярія, и что ни одинъ изъ нихъ не утонулъ. Съ облегченнымъ сердцемъ возвратилась Марія съ женихомъ домой, и начала отыскивать свой ящикъ на чердакѣ, между разставленными въ безпорядкѣ разными вещами. Нигдѣ не находя его, бѣдная дѣвушка заплакала. Никитинъ осмотрѣлъ всѣ углы, но напрасно. Сначала подумалъ онъ, что ящикъ забытъ былъ внизу, и что его унесло водою; по Марія твердо помнила, что она прежде всѣхъ другихъ вещей перенесла свой ящикъ на чердакъ. «Вѣрно Шубинъ или староста унесъ его». сказала Марія въ слезахъ.
Никитинъ, которому это подозрѣніе показалось очень вѣроятнымъ, далъ слово Маріи, во что бы то ни стало, открыть похитителя.
Староста, сопровождаемый Шубинымъ, шелъ между тѣмъ скорымъ шагомъ къ дому своему, который находился въ концѣ Дворянской улицы, на берегу Малой Невы. Онъ похвалилъ своего пріятеля за смѣтливость и расторопность, когда тотъ сообщилъ ему о пріобрѣтеніи ящика, и горѣлъ нетерпѣніемъ скорѣе узнать содержаніе бумагъ, найденныхъ Маріею. При входѣ въ домъ свой онъ порадовался, замѣтивъ, что вода не влилась въ его комнаты, а затопила одни подвалы.
«То ли дѣло», воскликнулъ онъ, «какъ домъ-то повыше построишь! Теперь многіе охаютъ, а мнѣ хоть трава не расти. Все и сухо и цѣло! Давай-же сюда ящикъ-то!» продолжалъ онъ, запирая дверь комнаты, въ которую они вошли.
«Вотъ онъ, Спиридонъ Степанычъ», сказалъ Шубинъ, вынимая ящикъ изъ кармана. «Только онъ запертъ. Ключъ остался у моей невѣсты. Она его на шеѣ носитъ»
Гусевъ взялъ большую связку ключей разной величины, почти всѣ перепробовалъ, и наконецъ кое-какъ отперъ ящикъ. Взявъ бумагу и пергаментный свитокъ, онъ развязалъ ленту, которою сей послѣдній былъ связанъ, надѣлъ на носъ очки, взглянулъ сначала на бумагу, и пробормоталъ: «Это какая-то тарабарская грамота! Я ни слова разбирать не могу!»
Вспомнивъ, что отецъ Маріи былъ Шведъ, онъ продолжалъ: «Вѣрно это по Шведски написано! Этакая досада! Ахъ, да! Мой братъ Александръ знаетъ по Шведски. Онъ долго жилъ въ Стекольномъ7 по торговымъ моимъ дѣламъ. Не позвать ли его? Какъ ты думаешь, Карпъ Силычъ?»
«Чтобъ онъ не разсказалъ кому-нибудь и не ввелъ меня въ бѣду!»
«Какъ это можно! На него я полагаюсь, какъ на самого себя. Онъ не введетъ насъ болтовствомъ въ хлопоты. Я отъ него никогда ничего не таилъ. Притомъ я содержу его, даю ему столъ и помѣщеніе. Съ ума развѣ онъ сойдетъ! Постой-ка, я схожу за нимъ»,
«Да не говори же ему однакожъ, Спиридонъ Степанычъ, откуда достались намъ эти грамотки».
«Смѣшенъ ты, Карпъ Силычъ! Не тебѣ учить меня осторожности. Я прожилъ поболѣе твоего на свѣтѣ. Да впрочемъ не безпокойся! Я скажу ему, что нашелъ этотъ ящикъ на улицѣ. Послѣ наводненія мало ли что теперь по улицамъ валяется. Свалимъ всю бѣду на воду, такъ и концы въ воду».
Чрезъ нѣсколько минутъ староста возвратился въ комнату съ меньшимъ своимъ братомъ, который весьма походилъ лицемъ на старшаго; только этотъ послѣдній былъ его гораздо потолще и вмѣстѣ потоньше. Младшій мастеръ былъ писать бумаги тогдашнимъ приказнымъ слогомъ и исправлялъ должность письмоводителя старосты.
«Переведи-ка, братецъ, эти бумаги. Кажется, онѣ писаны по Шведски;» сказалъ староста: а я шелъ вотъ съ этимъ пріятелемъ моимъ и поднялъ ихъ на дорогѣ».
Братъ Гусева взялъ сначала бумагу, прочиталъ ее про себя и воскликнулъ: «Это чудеса, если это все правда!» Потомъ взялъ онъ пергаментный свитокъ, прочиталъ его съ возраставшимъ примѣтно вниманіемъ, и опять началъ снова читать. Глаза его блистали радостью, руки дрожали, однакожъ онъ усиливался скрывать свое волненіе.
«Переведи же скорѣе, что тутъ написано». сказалъ Гусевъ.
«Да что переводить!» отвѣчалъ его братъ. «Все вздоръ! Написано наставленіе, какъ жить должно на свѣтѣ».
«Только то!» проворчалъ Гусевъ. «Ну, такъ возьми себѣ, Карпъ Силычъ, эту находку. Мы хоть и вмѣстѣ съ тобой ее нашли, однакожъ я тебѣ свою долю уступаю. Въ какомъ еще богатомъ ящикѣ спрятана была такая дрянь!»
Положивъ бумагу и свитокъ въ ящикъ, онъ подалъ его Шубину. Александръ Степановичъ между тѣмъ мигалъ и старался знаками остановить брата; но увидѣвъ, что онъ знаковъ его не замѣтилъ, и что Шубинъ положилъ уже ящикъ въ карманъ, братъ Гусева съ примѣтною досадой взялъ его за руку и вывелъ въ другую комнату.
«Я тебѣ мигалъ, мигалъ, — ничего не видишь!» сказалъ онъ вполголоса. «Возьми ящикъ назадъ!»
«А что?»
«Возьми, говорятъ! Не знаешь ты, какое сокровище отдалъ! Послѣ я тебѣ все разскажу. Чудеса, да и только! Смотри жъ, братъ! Чуръ со мной все пополамъ. Не то и переводить не стану».
«Что такое пополамъ? Растолкуй, пожалуйста! Я ничего не понимаю!»
«Послѣ поговоримъ: прежде возьми ящикъ».
«Пожалуй, за этимъ дѣло не станетъ».
Они вошли опять въ комнату, гдѣ былъ Шубинъ. Староста, поговоривъ о наводненіи, о погодѣ, о хлопотахъ по своей должности и о разныхъ другихъ предметахъ, сказалъ наконецъ Шубину, когда тотъ началъ съ нимъ прощаться въ намѣреніи идти домой: «Не лучше ли тебѣ ящикъ-то у меня оставить? Съ этакой дрянью въ бѣду попадешь пожалуй. Я бы отыскалъ хозяина и отдалъ бы ему его добро. Находка-то право незавидная!»
Шубину показалось подозрительно, что староста съ братомъ выходилъ о чемъ-то совѣтоваться въ другую комнату. Опасаясь, чтобъ хитрый старикъ какъ-нибудь не вздумалъ измѣнить ему, его запутать и сорвать съ него взятку, рѣшился Шубинъ удержать ящикъ у себя.
«Зачѣмъ тебѣ хлопотать, Спиридонъ Степанычъ!» отвѣчалъ онъ. «У тебя и безъ того хлопотъ полонъ ротъ. Я скорѣе тебя отыщу хозяина и скажу ему, что нашелъ этотъ ящикъ на улицѣ. Онъ мнѣ еще спасибо скажетъ. Хозяина найти не трудно!»
Поцѣловавшись съ Гусевымъ и поклонясь его брату, пошелъ онъ къ дверямъ. Староста, замѣтивъ недовѣрчивость Шубина, рѣшился было насильно взять у него ящикъ; но его остановила мысль, что Шубинъ, поссорясь съ нимъ, можетъ вездѣ кричать о сдѣланныхъ уже ему и обѣщанныхъ подаркахъ за содѣйствіе къ женитьбѣ на Маріи, и такимъ образомъ ввести его въ бѣду. Провожая Шубина онъ потиралъ себѣ лобъ и сбирался съ мыслями.
Александръ Степановичъ, видя, что Шубинъ уходитъ, вскочилъ со стула и остановилъ его.
«Постой, подожди немножко!» сказалъ онъ. «Надобно поговорить съ тобой».
«Въ другое время поговоримъ. Теперь мнѣ домой пора», отвѣчалъ Шубинъ, стараясь скорѣе уйти; но Александръ Степановичъ подбѣжалъ къ двери и ее заперъ.
Шубинъ разсердился и вмѣстѣ струсилъ.
«Что жъ это такое!» закричалъ онъ. «Развѣ можно такъ съ гостями поступать!»
«Послушай, братецъ!» шепнулъ на ухо старостѣ братъ его. «Дѣлать нечего! Возьмемъ и этого лѣшаго въ часть. И трое раздѣлимъ добычу, такъ все-таки будетъ съ насъ».
«Ничего я не понимаю!» отвѣчалъ Гусевъ съ досадою. «Что такое намъ дѣлить? Ну, трое, такъ трое! Я согласенъ. Присядь-ка, Карпъ Силычъ; полно гнѣваться. Мы тебѣ добра хотимъ».
Шубинъ, успокоенный этими словами, сѣлъ. Александръ Степановичъ, посмотрѣвъ въ замочную скважину, чтобы удостовѣриться, не подслушиваетъ ли ихъ кто у дверей, началъ говорить вполголоса : «Находка ваша лучше всякаго клада! Можно вдругъ разбогатѣть пуще Александра Данилыча Меншикова. Дай-ка ящикъ сюда; я переведу вамъ бумаги, такъ вы оба ахнете».
«Да отдай же ящикъ, Карпъ Силычъ!» воскликнулъ Гусевъ, примѣтивъ нерѣшимость Шубина. «Все, что ни достанемъ, раздѣлимъ по-ровну. Никому обидно не будетъ!»
«Поклянись прежде! Оба поклянитесь!» отвѣчалъ Шубинъ. «Я вѣдь не знаю, что у васъ на умѣ».
Староста и братъ его начали съ жаромъ божиться, и Шубинъ подалъ имъ ящикъ.
Вынувъ сначала бумагу, Александръ Степановичъ началъ читать ее, нерѣдко останавливаясь и многое искажая своимъ переводомъ. Она содержала въ себѣ слѣдующее:
«Неизвѣстенъ часъ, въ который смерть постигнетъ человѣка. Помышляя объ этомъ, рѣшился я написать эти строки. Родни у меня никого нѣтъ, кромѣ младенца Маріи, единственной дочери и наслѣдницы моего небольшаго помѣстья и дома, гдѣ я нынѣ живу. Домъ этотъ построенъ на берегу рѣки Ниенъ моимъ покойнымъ дѣдомъ противъ острова Льюстейланде. Онъ получилъ въ подарокъ отъ Его Величества Короля Густава Адольфа означенное помѣстье вскорѣ послѣ заключенія мира съ Русскими въ Столбовѣ, въ 1616 году. Подлинный актъ объ этомъ пожалованіи хранится въ Архивѣ Королевской Канцеляріи, въ Стокгольмѣ, подъ нумеромъ 2729 книги актовъ 1616 года, а въ моихъ бумагахъ есть формальный списокъ съ этого акта, дошедшій ко мнѣ отъ дѣда. Пишу это, дабы не предъявилъ кто по смерти моей несправедливаго спора, и дочь моя не лишилась законнаго небольшаго наслѣдства. Если я умру въ такое время, когда она не придетъ еще въ совершенный возрастъ, то заклинаю святымъ Олафомъ того, кому первому попадетъ въ руки это мое завѣщаніе, (будетъ ли онъ чиновникъ Правительства, или кто другой) исполнить въ точности волю мою и хранить въ тайнѣ все то, что я здѣсь сообщаю. Это необходимо какъ для блага моей дочери, такъ и для собственной его пользы. Въ этомъ ящикѣ положенъ вмѣстѣ съ этимъ завѣщаніемъ пергаментный свитокъ, писанный предкомъ моимъ въ Стокгольмѣ, въ 1323 году. Свитокъ этотъ сохранялся въ нашемъ семействѣ, въ теченіе четырехъ почти вѣковъ, и переходилъ отъ отца къ сыну. Въ немъ описано средство лѣчить всякія болѣзни, поддерживать жизнь и здоровье человѣка, отдалять старость и превращать ртуть и свинецъ въ чистое золото. Средство это ранѣе не получитъ силы и дѣйствія, какъ въ полночь 1го Октября будущаго 1723 года. Если кто-нибудь ранѣе покусится отыскивать это средство, тотъ навсегда уничтожитъ его силу и погубитъ самого себя. Найти же его послѣ назначеннаго срока, не подвергаясь никакой опасности, можетъ только тотъ, кто совершенно чистъ въ совѣсти, кто въ душѣ хранилъ всегда добродѣтель, и кто чуждъ корыстолюбія, зависти и всѣхъ другихъ страстей и пороковъ. Поэтому заклинаю всякаго, прежде испытать себя строго; ибо если кто-либо недостойный прочтетъ пергаментный свитокъ и рѣшится имъ воспользоваться, тотъ можетъ умереть скоропостижно или на всю жизнь лишиться разсудка. Кто усомнится въ этомъ, того опытъ удостовѣритъ въ истинѣ словъ моихъ. Во всякомъ случаѣ попадетъ онъ навѣкъ во власть духовъ земли, безъ помощи которыхъ нельзя отыскать означеннаго выше средства. Человѣку добродѣтельному и чистому сердцемъ опасаться однакожъ нечего; ибо духи его страшатся и ему повинуются. Отысканное средство должно хранить въ тайнѣ и въ тайнѣ употреблять его. Кто не надѣется на свою добродѣтель, тотъ можетъ передать пергаментный свитокъ другому, достойнѣйшему. Кто бы онъ ни былъ, я заклинаю его святымъ Олафомъ прежде прочтенія пергаментнаго свитка произнести клятву, отдавать половину золота, которое онъ пріобрѣтать будетъ, моей дочери Маріи. Неисполнившій просьбы докажетъ свое корыстолюбіе и безсовѣстность, и духи земли накажутъ виновнаго. Ее же прошу, если она первая прочитаетъ это завѣщаніе, не читать пергаментнаго свитка и передать тому, кого она по добродѣтели признаетъ достойнымъ; ибо, по моему убѣжденію, никакая женщина не можетъ имѣть той силы души, которая необходима для безопаснаго отысканія означеннаго средства. Писано въ помѣстьѣ Ніенбонингъ, Февраля въ 9 день 1703 года, и подписано моею рукою: Павелъ Сванъ, Шведскій дворянинъ».
Спиридонъ Степановичъ и Шубинъ не проронили ни одного слова изъ прочитаннаго.
«Духи земли? Гм!» сказалъ староста, гладя лобъ рукою. «Это дѣло, какъ я вижу, не безъ чернокнижества! Прослушать ли намъ другую-то бумагу, Карпъ Силычъ? Какъ ты думаешь?» спросилъ онъ Шубина и, обратясь къ брату, продолжалъ: «Повтори-ка, что сказано про то, когда недостойный прочтетъ пергаментный свитокъ и пожелаетъ имъ воспользоваться?»
«Сказано, что тотъ попадетъ во власть духовъ земли».
«Гм! Шутка плохая!… Ты прочиталъ, братъ, свитокъ-то?»
«Прочиталъ, да вѣдь я еще не рѣшился имъ воспользоваться. Насъ здѣсь трое. Смѣшно было бы счесть себя всѣхъ достойнѣе».
«И я не такъ самолюбивъ; не считаю себя лучше другихъ! Прочти, однакожъ, этотъ свитокъ. Мы съ Карпомъ Силычемъ послушаемъ и подумаемъ».
Въ пергаментномъ свиткѣ содержалось слѣдующее:
«Стокгольмъ, октября въ 5 день 1323 года. Всякаго приступающаго къ прочтенію этого пергамента, кто бы онъ ни былъ, заклинаю седмикратно спросить самого себя такъ: добродѣтеленъ ли я и совершенно ли чистъ душею? Кому совѣсть отвѣтитъ: да! тотъ можетъ смѣло прочесть пергаментъ; кому же скажетъ: нѣтъ! тотъ погубитъ себя, если дерзнетъ далѣе читать здѣсь написанное и пожелаетъ употребить прочитанное въ свою пользу. Да знаетъ читающій, что онъ въ назначенный срокъ получитъ силу повелѣвать духами, если онъ добродѣтеленъ; въ противномъ случаѣ духи эти нынѣ же имъ овладѣютъ, и тогда уже никто ему не поможетъ. Достигнувъ столѣтней старости и предчувствуя близкій конецъ свой, не хочу я унести съ собою во гробъ плода трудовъ и неутомимыхъ изысканій, которымъ посвятилъ я долговременную жизнь. Съ молодыхъ лѣтъ постоянно стремился я къ открытію таинствъ природы. Въ молодости моей, въ 1275 году, былъ я въ Лондонѣ и познакомился тамъ съ знаменитымъ мудрецомъ, которому подобнаго не бывало на землѣ и не будетъ. Я говорю о знаменитомъ Раймундѣ Луллѣ. Вскорѣ послѣ прибытія его въ Лондонъ, былъ онъ представленъ Королю Эдуарду I. Въ благодарность за то, что Монархъ этотъ достойно почтилъ мудрость предъ лицемъ всего блестящаго двора своего, Луллъ, оставшись наединѣ съ Королемъ, потребовалъ нѣсколько фунтовъ ртути, и въ присутствіи Его Величества превратилъ ее въ золото. Можно представить себѣ изумленіе Короля! Онъ просилъ Лулла поселиться навсегда въ Лондонѣ; но это свѣтило мудрости освѣщало берега Темзы не болѣе полугода. Луллъ возвратился въ Германію, оставивъ Эдуарду на память 50,000 фунтовъ ртути, превращенной въ золото, изъ котораго вычеканены были первыя монеты, называвшіяся Рознобли. Это извѣстно цѣлой Англіи. Я употребилъ всѣ силы заслужить вниманіе и благосклонность знаменитаго Лулла, и удостоился счастія пріобрѣсти не только его знакомство, но даже дружбу. Вмѣстѣ съ нимъ поѣхалъ я изъ Лондона въ Германію, гдѣ дожилъ до сѣдыхъ волосъ. Близъ Лейпцига купилъ я замокъ, и поселясь въ немъ вмѣстѣ съ Лулломъ, посвятилъ жизнь свою изученію таинствъ природы, подъ руководствомъ этого свѣтила мудрости. Невозможно помѣстить здѣсь все то, что я узналъ отъ него. Упомяну о главномъ. Онъ объяснилъ мнѣ цѣль славнаго Египетскаго Лабиринта. Эта цѣль до знаменитаго Лулла никому изъ древнихъ и новыхъ мудрецовъ не была извѣстна. Лабиринтъ этотъ, въ древнѣйшія времена построенный близъ Меридова озера, не подалеку отъ города Крокодилополиса, состоялъ изъ трехъ тысячъ великолѣпныхъ залъ, окруженныхъ высокою стѣною и рядомъ столповъ. Половина этого огромнаго зданія находилась подъ землею. Чужеземцу не позволялось входить во внутренность Лабиринта; да если бы и вошелъ кто, то напрасно сталъ бы искать выхода, ибо онъ былъ такъ устроенъ, что вошедшій непремѣнно долженъ былъ заблудиться. Въ этомъ зданіи, какъ открылъ мнѣ Луллъ, жили въ тайнѣ Египетскіе златодѣлатели, превращавшіе простые металлы въ золото. По покореніи Египта Римлянами, Лабиринтъ опустѣлъ, но искусство жившихъ въ немъ златодѣлателей было описано въ нѣкоторыхъ рукописяхъ, которыя хранились въ Александрійской Библіотекѣ. Обыкновенно утверждаютъ, что эта драгоцѣнная Библіотека, хранившая въ себѣ всю мудрость древнихъ, сожжена была въ 642 году по приказанію Калифа Омара; но Луллъ неопровержимо доказалъ мнѣ, что это мнѣніе несправедливо. Въ части города Александріи, называвшейся Брухіонъ, находились близъ гавани чертоги повелителей Египта и великолѣпное зданіе Библіотеки, гдѣ помѣщалось болѣе четырехъ сотъ тысячъ рукописей. Оно сгорѣло во время осады Александріи Юліемъ Кесаремъ; но осталось отдѣленіе этой Библіотеки, состоявшее изъ трехъ сотъ тысячъ рукописей и помѣщавшееся въ храмѣ Юпитера Сераписа. Когда Императоръ Ѳеодосій Великій въ 392 году повелѣлъ разрушить языческіе храмы во всей Римской Имперіи, то воины, опустошившіе храмъ Юпитера Сераписа, раздали всѣ рукописи изъ Библіотеки по общественнымъ банямъ, гдѣ ими и пользовались въ теченіе полугода вмѣсто дровъ. Въ концѣ 4го вѣка Историкъ Орозій, посѣтивъ Библіотеку, увидѣлъ въ ней одни пустые шкафы. Это опустошеніе драгоцѣннаго книгохранилища случилось за два съ половиною вѣка прежде того времени, въ которое приписывается сожженіе его Омару8. Однакожъ, для блага человѣчества, многія рукописи, были похищены изъ общественныхъ бань и, переходя изъ рукъ въ руки, какъ драгоцѣнность, уцѣлѣли до нашихъ временъ. Изъ этихъ рукописей Луллъ почерпнулъ свою глубокую мудрость. Изъ нихъ узналъ онъ и постигъ то, что невѣдомо и непостижимо ни одному изъ смертныхъ, нынѣ на землѣ живущихъ. Онъ многое открылъ мнѣ, но многое обѣщалъ еще открыть, когда я буду достоинъ услышать великія и недоступныя истины и таинства. Я ждалъ этого времени съ такимъ же нетерпѣніемъ, съ какимъ жаждетъ взглянуть на дневный свѣтъ человѣкъ, заключенный на цѣлую жизнь въ глубокій, мрачный рудникъ. Но я ждалъ напрасно! Въ 1315 году смерть, какъ грозное облако, затмило неожиданно великое свѣтило мудрости. Пораженный этою невозвратимою потерею, я продалъ замокъ и возвратился въ отечество. Поселясь въ Стокгольмѣ, я продолжалъ изучать природу и открывать все въ ней сокровенное. Все сообщенное мнѣ великимъ Лулломъ и самимъ мною открытое помѣщено въ книгѣ, которую я намѣренъ сжечь предъ смертію, если не встрѣчу никого достойнаго, кому бы могъ я передать накопленныя мною сокровища мудрости. Такъ какъ на пріобрѣтеніе этихъ сокровищъ пожертвовалъ я почти всѣмъ наслѣдственнымъ имѣніемъ, дошедшимъ ко мнѣ отъ предковъ, то для вознагражденія потомковъ моихъ открываю имъ средство сохранять жизнь, здоровье и счастіе, и доставать золото, для котораго почти все дѣлается на свѣтѣ, и которое почти все можетъ дѣлать. Прошу моего любезнаго племянника, единственнаго наслѣдника моего, сохранить этотъ свитокъ и передать кому-либо достойному изъ рода Свановъ, да сохранится этотъ свитокъ въ нашемъ родѣ до тѣхъ поръ, пока не придетъ срокъ воспользоваться имъ. Срокъ этотъ наступитъ черезъ четыреста лѣтъ. Къ тебѣ обращаюсь, счастливый потомокъ! Кости мои истлѣютъ, память обо мнѣ исчезнетъ, а ты воспользуешься плодомъ жизни моей. Между нами чернѣетъ бездна четырехъ вѣковъ, но ты услышишь голосъ мой. Внимай ему съ уваженіемъ.
Современникъ Историка Орозія, мудрецъ Юлій Фирмикусъ, жившій въ 4-мъ столѣтіи послѣ Р. X., пишетъ: если какой-либо домъ находится подъ вліяніемъ планеты Меркурія, то она всякому новорожденному въ этомъ домѣ даетъ познаніе Астрономіи; Венера посылаетъ веселую жизнь; Марсъ — воинское и оружейное искусство; Юпитеръ — познаніе Богословія и законовъ; Сатурнъ — познаніе Алхиміи; Солнце — познаніе четвероногихъ.
Я родился подъ вліяніемъ планетъ Сатурна и Венеры, какъ открылъ мнѣ великій Луллъ. Я бы сравнился съ этимъ мудрецомъ въ Алхиміи, но вліяніе Венеры мнѣ мѣшало, и веселая жизнь, этою планетою внушаемая, не рѣдко отвлекала меня отъ трудовъ и изысканій. Однакожъ въ старости успѣлъ я превозмочь вліяніе этой послѣдней планеты, и никто изъ соотечественниковъ моихъ не могъ сравниться со мною въ алхимическомъ искусствѣ, въ которомъ первыя наставленія преподалъ мнѣ Луллъ. Умирая, онъ подарилъ мнѣ рукопись, находившуюся въ книгохранилищѣ храма Юпитера Сераписа. Руководствуясь ею, я сдѣлалъ слѣдующее.
Въ полночь пошелъ я на кладбище, вызвалъ духа земли, и наполнилъ два глиняные сосуда землею, которую онъ указалъ мнѣ. Въ одинъ сосудъ зарылъ я лучъ мѣсяца, а въ другой, когда взошло солнце, лучъ этого свѣтила, и произнесъ заклинаніе. Сосуды эти хранятся у меня на окнѣ, въ моей спальнѣ. Когда протекутъ три вѣка, должно будетъ въ какомъ-либо необитаемомъ мѣстѣ вырыть семиугольную яму, глубиною въ три фута, и, осторожно выложивъ землю изъ сосудовъ на дно ямы, наполнить ее обыкновенною землею. Это должно быть сдѣлано въ полночь. Когда послѣ того пройдутъ еще сто лѣтъ, то въ полночь же должно придти на то мѣсто и произнести: «Демонъ тесъ гесъ! Геліосъ, хрюсосъ, селене, лиоосъ». Когда духъ земли повторитъ эти слова, то должно будетъ разрыть яму.
Тамъ изъ зарытаго луча солнца образуется длинная полоса золота, а изъ луча мѣсяца небольшой, синеватый камень. Золото будетъ самое чистое, какого нигдѣ найти нельзя, а камень будетъ состоять изъ отвердѣлой коренной стихіи, которая во всѣхъ вещахъ содержится и составляетъ ихъ начало. Обративъ самую малую часть этого камня въ порошокъ и взявъ крупинку золота, положи въ плавильный горшокъ вмѣстѣ съ двадцатью фунтами свинца, олова или ртути, и поставь на огонь. Вскорѣ металлъ сильно закипитъ, подобно водѣ, и появятся на поверхности пузыри багрянаго цвѣта. Тогда взявъ какой-нибудь чистый сосудъ, вылей въ него металлъ, и когда этотъ послѣдній остынетъ, то пожелтѣетъ, и такимъ образомъ получится слитокъ самаго чистаго золота, который будетъ шестою частію тяжеле употребленнаго въ дѣло свинца, олова или ртути, Сверхъ того, довольно принять въ водѣ двѣ или три порошинки означеннаго синеватаго камня, чтобы излѣчить себя отъ какой бы то ни было болѣзни. Такимъ образомъ можно сохранять этимъ средствомъ жизнь и здоровье до глубокой старости. Предваряю, однакожъ тебя, счастливый потомокъ мой, что ты сообщаемымъ тебѣ таинствомъ тогда только успѣешь воспользоваться, когда тобою не будутъ владѣть никакіе пороки и страсти. Тогда духъ земли тебѣ покорится и тебѣ послужитъ, въ противномъ же случаѣ онъ тобою овладѣетъ, и ты навѣки погибнешь. Если не надѣешься на себя, передай этотъ свитокъ другому. Кто бы ни былъ владѣлецъ свитка, онъ долженъ хранить его въ тайнѣ, и всѣ дѣйствія, относящіяся къ свитку, производить не иначе, какъ съ полночи до разсвѣта. Нарушеніе этого лишитъ свитокъ всякой силы и дѣйствія.
Адептъ9 Карлъ Сванъ».
Хотя Александръ Степановичъ съ большимъ трудомъ перевелъ свитокъ и многое въ немъ исказилъ своимъ переводомъ, однакожъ, главное хорошо поняли старшій братъ его и Шубинъ.
«Ну, нечего сказать!» замѣтилъ староста. «Отъ этакой грамоты не мудрено съ ума сойти. Я теперь словно шальной. Почти ни о чемъ порядкомъ разсудить не могу».
«А вотъ здѣсь внизу на свиткѣ есть еще приписка, только ужъ другою рукою», сказалъ Александръ Степановичъ, и началъ приписанное переводить.
«Переселясь изъ Стокгольма въ Ингерманландію, въ пожалованное мнѣ Королемъ помѣстье Ніенбонингъ, привезъ я съ собою оба глиняные сосуда, и въ срокъ, назначенный предкомъ, зарылъ землю, въ сосудахъ хранившуюся, текущаго Октября 1го числа 1623 года. Мѣсто, гдѣ я совершилъ это, находится на необитаемомъ островѣ, который лежитъ близъ моего помѣстья. Должно переѣхать рѣку Ніенъ и потомъ идти все прямо на сѣверъ. Встрѣтится небольшая рѣчка. Переправясь черезъ нее и продолжая все идти на Сѣверъ, дойдешь до рукава рѣки Ніенъ, и увидишь на другой сторонѣ тотъ необитаемый островъ. Онъ весь покрытъ лѣсомъ, а по берегамъ его множество лежитъ каменьевъ. Близъ берега, въ рукавѣ рѣки Ніенъ, виденъ большой камень, около котораго вода сильно шумитъ и струится. Противъ самаго этого камня должно пристать къ острову. Пройдя тридцать шаговъ отъ берега, увидишь въ лѣсу другой камень, почти въ ростъ человѣка. На немъ я выскребъ концемъ моей шпаги : till wänster (влѣво). Отступя отъ этого камня въ лѣвую сторону восемь шаговъ, найдешь мѣсто, гдѣ зарыта земля изъ двухъ сосудовъ».
«Гдѣжъ бы это было?» сказалъ староста.
«Должно быть? на островѣ, который принадлежитъ Канцлеру Графу Гаврилу Ивановичу Головкину, и называется Каменнымъ», отвѣчалъ Александръ Степановичъ. «Близъ берега этого острова лежитъ въ Малой Невѣ большой камень. Въ здѣшнихъ мѣстахъ больше нигдѣ я такихъ камней не видалъ».
«Правда!» продолжалъ староста. «Мѣсто-то найдемъ, за этимъ дѣло не станетъ. Да искать ли его, вотъ о чемъ прежде надобно подумать».
«Помилуй, братъ! Неужто намъ упустить изъ рукъ такое сокровище!»
«Не о томъ я говорю. Насъ трое. Мы ужъ условились дѣлить все, что ни достанемъ, поровну. Только дѣло въ томъ, кто жъ изъ насъ пойдетъ разрывать яму. Вѣдь надобно идти въ полночь?»
«Да, въ полночь. Что жъ за бѣда! Если совѣсть у кого чиста, тому бояться нечего. Притомъ неизвѣстно, что это за такой духъ земли. Неужто дьяволъ въ самомъ дѣлѣ — наше мѣсто свято!»
«А кто же другой-то?»
«Мнѣ сдается, что этотъ Шведъ нарочно написалъ это, чтобы только напугать того, кому въ руки этотъ свитокъ попадется».
«И то быть можетъ».
«Кто жъ изъ насъ отыскивать кладъ пойдетъ? Я бы совѣтовалъ тебѣ, любезный братъ. У тебя душа предобрая! Вотъ ты меня кормишь и поишь. Чего тебя бояться! Какъ бы у меня совѣсть была такъ же чиста, какъ твоя, то я бы ни на минутку не призадумался».
«Нѣтъ, братецъ! Я хоть и очень подозрѣваю, что Шведъ хотѣлъ только пугать православныхъ, однакожъ… Да сходи ты за кладомъ! Ну кому ты зло сдѣлалъ? У тебя такой нравъ, что и курицы не обидишь. Или ты сходи, Карпъ Силычъ».
«Ни за что на свѣтѣ!» воскликнулъ Шубинъ. «Да я умру со страху».
«Какой же ты трусъ!» продолжалъ староста. «Вотъ тебѣ, такъ ужъ бояться совершенно нечего! До двадцати пяти лѣтъ выросъ ты подъ надзоромъ родителя, все жилъ среди благочестивыхъ людей. Этакихъ, какъ ты, со свѣчой поискать! Ну скажи, что у тебя есть на совѣсти? Ничего нѣтъ, да и быть не можетъ».
«Ну нѣтъ, Спиридонъ Степанычъ, есть кое-что! Безъ того не льзя. Вѣдь и я человѣкъ».
«А я скажу, Карпъ Силычъ, что ты вовсе не похожъ на человѣка, а настоящій ангелъ. Я лучше знаю тебя, чѣмъ ты самъ себя. Въ тебѣ душа, истинно ангельская! Разуменъ, цѣломудренъ, степененъ, честенъ, великодушенъ…»
«Благодарю покорно за доброе слово, Спиридонъ Степанычъ! Однакожъ мнѣ кажется, что ты мнѣ ни въ чемъ не уступишь. Надобно во-первыхъ сказать, что ты меня разумнѣе, во-вторыхъ…»
«Кто? Я тебя разумнѣе? Помилуй! Ты себя обижаешь!»
«Да неужто ты меня глупѣе?»
«Глупѣе, гораздо глупѣе! А о братѣ и говорить нечего. Онъ передъ тобой совершенный оселъ».
«Именно, оселъ!» подтвердилъ Александръ Степановичъ. «У меня ума нѣтъ ни крошки!»
«И у меня также!» сказалъ староста. «Надобно правду сказать».
«Воля ваша! Пусть вы оба не хитры, только ужъ и я васъ но на волосъ не умнѣе! Стало быть мы всѣ трое поровну глупы», возразилъ Шубинъ.
«Нѣтъ, Карпъ Силычъ! Не обижай себя. У тебя ума — палата!» сказалъ Александръ Степановичъ.
«Помилуйте! Вы оба люди грамотные, я же аза въ глаза не знаю!»
«Грамотные!» воскликнулъ староста. «Неужто ты думаешь, что всѣ грамотные ужъ и умные люди? Не всякой уменъ, кто ученъ. Вонъ есть у меня знакомый Нѣмецъ: всѣ науки знаетъ, а какъ заговоритъ, такъ уши вянутъ».
Долго еще длился этотъ необыкновенный споръ, въ которомъ двое старались всѣми силами себя унизить и приписать себѣ какъ можно болѣе недостатковъ и худыхъ качествъ, чтобы возвысить третьяго. Наконецъ согласились рѣшить дѣло жребіемъ. Положили въ колпакъ три пятака, изъ которыхъ на одномъ провели слегка черту иголкою, и условились, чтобы тотъ шелъ отыскивать кладъ, кто вынетъ пятакъ съ чертою. Разомъ сунули они въ колпакъ правыя руки. Роковой пятакъ попался Шубину.
«Нѣтъ, нѣтъ!» закричалъ онъ, поблѣднѣвъ. «Не пойду, хоть зарѣжьте!»
«Какъ? отъ слова ты отступаешься?» воскликнули въ одинъ голосъ староста и братъ его.
«Отступаюсь!»
«Да мы тебя принудимъ!»
«Я раскрою все твое плутовство!» продолжалъ староста. «Я донесу Генералъ-Полицеймейстеру, откуда ты этотъ ящикъ досталъ. Ты, я вижу, плутъ!»
«А кто говорилъ сейчасъ, что я настоящій ангелъ, и что ты меня по всему хуже? Коли я плутъ, такъ ты ужъ кто?»
Начался другой споръ, совершенно противоположный первому, и весьма обыкновенный, въ которомъ двое нападали на третьяго, унижали, стращали и бранили его. Шубинъ отбранивался, повторяя: «Давеча вы не то говорили!» По долгомъ преніи заключили миръ на томъ условіи, чтобы всѣмъ троимъ отправиться ночью за кладомъ, положивъ въ карманы по кусочку ла́дона, для защиты отъ нечистой силы.
Смеркалось. По мѣрѣ того, какъ сіяніе зари слабѣло на Западѣ, въ сердцахъ искателей клада усиливался страхъ. Каждый изъ нихъ, однакожъ, по наружности храбрился, стараясь придать духу товарищамъ. Пробило на Троицкой колокольнѣ десять часовъ вечера.
«Не пора ли намъ идти въ походъ?» сказалъ Староста. «Не увидимъ, какъ и полночь наступитъ».
«Пора, пора!» отвѣчалъ братъ его. «Мѣшкать нечего. Я возьму съ собой на всякой случай мое охотничье ружье, а ты, Карпъ Силычъ, возьми заступъ. Тьфу пропасть! Какой же ты трусъ! Ничего не видя, ужъ ты дрожишь, какъ осиновый листъ. Коли взялся за гужъ, не говори, что не дюжъ. На другихъ только тоску наводишь!»
«Да кто тебѣ сказалъ, что я трушу? Лучше взгляни самъ на себя. Лице-то у тебя, ни дать, ни взять, снятое молоко».
«Ахъ вы трусы, трусы!» сказалъ староста, качая головою, и съ усиліемъ скрывая пронимавшую его дрожь. «Вы на меня посмотрите. Чего тутъ бояться? Вѣдь у насъ есть ла́донъ въ карманахъ, такъ что намъ сдѣлается! Притомъ взгляните, какъ мѣсяцъ сіяетъ. Свѣтло, точно днемъ!»
Надѣвъ сверхъ кафтановъ длиннополые сюртуки и взявъ съ собою черный ящикъ, ружье и заступъ, вышли они изъ дома. Пройдя всю Дворянскую улицу, поворотили они направо и вскорѣ вошли въ лѣсъ, который покрывалъ почти половину Санктпетербургскаго острова. Начиная отъ того мѣста, гдѣ нынѣ стоитъ Второй Кадетскій Корпусъ, по всему берегу противъ Петровскаго и Крестовскаго острововъ не было ни одного дома. Ни большаго проспекта, ни Каменноостровскаго не существовало. По лѣвую сторону этого послѣдняго строеніе оканчивалось тою улицею, гдѣ теперь стоитъ церковь Св. Апостола Матвѣя. Въ этой улицѣ находились только избы, построенныя для солдатъ Санктпетербургскаго гарнизона. Означенная церковь была гораздо менѣе нынѣшней и деревянная. Съ лѣвой стороны Каменноостровскаго проспекта, строенія простирались не далѣе того мѣста, гдѣ стоитъ церковь Св. Николая Чудотворца, называемая въ Труниловѣ. Этой церкви еще тогда не было10. Берега Карповки, усѣянные нынѣ дачами, покрыты были соснами, елями и изрѣдка березами.
На Аптекарскомъ островѣ находились только четыре деревянные домика, гдѣ жили Смотритель и садовники Ботаническаго сада, донынѣ зеленѣющаго на томъ же мѣстѣ. Сверхъ того, на берегу Малой Невы подлѣ этого сада, находилось Нѣмецкое кладбище и хижина, гдѣ жили рыбаки. Вся остальная часть острова покрыта была лѣсомъ. На другомъ берегу Карповки стояло уединенное Новогородское подворье, устроенное Архіепископомъ Ѳеофаномъ, который купилъ землю послѣ умершаго Санктпетербургскаго Оберъ-Коменданта Романа Вилимовича Брюса. Острова Крестовскій, Елагинъ и Каменный также были всѣ покрыты лѣсомъ. На этихъ трехъ островахъ было одно только строеніе: деревянный двухъ-этажный дворецъ, (въ пять окошекъ по лицу, съ балкономъ), построенный для сестры Петра Великаго, Царевны Наталіи Алексѣевны, на принадлежавшемъ ей Крестовскомъ островѣ. Дворецъ этотъ стоялъ на мѣстѣ нынѣшней дачи Княгини Бѣлосельской. Елагинъ островъ назывался тогда Шафировымъ потому, что принадлежалъ Вице-Канцлеру Шафирову. Его называли также Мишинымъ съ тѣхъ поръ, какъ появился на немъ медвѣдь необыкновенной величины, котораго боялись самые отважные охотники. Наконецъ, двое изъ нихъ убили незваннаго гостя и представили огромную шкуру Шафирову. Тамъ, гдѣ нынѣ сады Строганова и Головина, Новая деревня и модныя лѣтнія жилища Петербургскихъ жителей на Черной рѣчкѣ, была совершенная глушь.
Черезъ лѣсъ пробравшись на берегъ Карповки, искатели клада поворотили на право, прошли мимо Новогородскаго подворья, и вскорѣ приблизились къ тому мѣсту, гдѣ устроенъ былъ небольшой паромъ, для переѣзда съ Петербургскаго острова на Аптекарскій, къ Ботаническому саду. Переправясь на другую сторону, они мимо этого сада прошли черезъ Нѣмецкое кладбище и приблизились къ рыбачьей хижинѣ. Сказавъ, что они отправляются стрѣлять волковъ, которыхъ водилось тогда множество въ окрестностяхъ Петербурга, и нанявъ у рыбаковъ лодку, спустились они по Малой Невѣ и вышли на лѣсистый берегъ Каменнаго острова, увидѣвъ возвышавшійся неподалеку отъ берега большой камень, около котораго вода струилась и журчала. Отъ этого камня произошло названіе острова.
«Теперь надобно отсчитать отъ берега тридцать шаговъ», сказалъ Александръ Степановичъ.
Всѣ трое, прижимаясь одинъ къ другому, начали углубляться въ лѣсъ и считать шаги. Лучи мѣсяца, пробиваясь между вѣтвями елей и сосенъ, яркими полосами разрѣзывали мракъ лѣса.
«Посмотрите-ка, посмотрите!» воскликнулъ староста, указывая впередъ.
«Кажется ужъ виденъ камень, котораго мы ищемъ».
«Гдѣ, гдѣ?» закричали братъ старосты и Шубинъ, остановясь, какъ вкопанные. Разсмотрѣвъ освѣщенный мѣсяцемъ камень, выглядывавшій, какъ привидѣніе, изъ-за низкаго кустарника, Шубинъ бросился бѣжать къ лодкѣ, которая осталась у берега. За нимъ пустились также бѣгомъ староста и братъ его. Всѣмъ троимъ казалось, что кто-то за ними гонится.
Добѣжавъ до берега и переведя духъ, дородный Спиридонъ Степановичъ нѣсколько разъ охнулъ и спросилъ. «Что тебѣ померещилось, Карпъ Силычъ?»
«Ничего! Я увидѣлъ только камень, и такой на меня страхъ напалъ, что въ глазахъ зарябѣло».
«Тьфу, пропасть! какъ ты меня перепугалъ!»
Собравшись съ духомъ, пошли они опять въ лѣсъ и приблизились на цыпочкахъ къ испугавшему ихъ камню. Казалось, что они подходили къ спящему медвѣдю.
«Смотрите-ка, смотрите!» прошепталъ братъ старосты, указывая на слово, начертанное на камнѣ, которое съ трудомъ разобрать было можно. «Написано: till wänster. Теперь надобно намъ отступить влѣво на восемь шаговъ и потомъ… что бишь сказано въ свиткѣ? Вынь-ка его изъ ящика, Карпъ Силычъ!»
Шубинъ подалъ свитокъ брату старосты.
«Здѣсь сказано, что сначала надобно надъ ямой проговорить въ полночь какія-то неизвѣстныя слова. Я думаю, скоро ужъ и полночь наступитъ?»
«А вотъ, услышимъ, какъ часы будутъ бить на Троицкой колокольнѣ. Часовой колоколъ такой звонкой, что версты за три слышенъ. Теперь же все тихо, какъ на кладбищѣ».
«Потомъ, когда слова эти повторитъ, знаете, онъ-то, тогда яму надобно разрыть и дѣло съ концемъ».
«А кто же изъ насъ слова-то скажетъ?» спросилъ Шубинъ. «Воля ваша! Я одинъ говорить ихъ не стану. Скажемъ ихъ всѣ вмѣстѣ, въ одинъ голосъ».
«Ну, ну хорошо!» сказалъ братъ старосты. «Я буду читать эти слова по свитку, а вы оба за мною повторяйте».
«Чу! Кажется, бьетъ полночь!» воскликнулъ староста, прислушиваясь къ отдаленному звону колокола. «Точно!»
Братъ старосты, глядя въ свитокъ, началъ дрожащимъ голосомъ подсказывать слова, которыя произнести было должно.
«Говорите же за мной: демонъ тесъ гесъ!»
«Демонъ тесъ тесъ!» пробормоталъ шопотомъ староста и чуть чуть не перекрестился, а у Шубина окаменѣлъ языкъ отъ ужаса.
Начали прислушиваться; но слова не повторялись духомъ земли. Легкій вѣтеръ просвистѣлъ лишь надъ ними въ вѣтвяхъ сосны, и снова все замолчало.
Немного ободрясь этою тишиною, всѣ трое произнесли погромче: «демонъ тесъ гесъ», и вдругъ къ неизобразимому ихъ ужасу чей-то голосъ повторилъ эти слова такъ громко, что отголосокъ въ лѣсу откликнулся.
Каждый опустилъ руку въ карманъ и схватилъ кусочекъ ладона. Всѣ трое дрожали, какъ въ лихорадкѣ. Когда остальныя неизвѣстныя слова, ими произнесенныя, были повторены тѣмъ же голосомъ, братъ старосты схватилъ заступъ и началъ рыть на томъ мѣстѣ, гдѣ надобно было искать клада. Потъ лилъ съ него градомъ и отъ усилій, и отъ страха. Ужъ онъ вырылъ яму около трехъ футовъ глубиною, но ни золото, ни синеватый камень не показывались. Наконецъ, заступъ ударился о что-то твердое, и всѣ трое увидѣли, когда земля была разгребена на томъ мѣстѣ, небольшой, продолговатый камень.
«Возьми же, Карпъ Силычъ!» сказалъ староста Шубину. «Вѣдь ты пятакъ-то съ зарубкой вынулъ».
Шубинъ стоялъ неподвижно, какъ верстовой столбъ, и поглядывалъ на камень. Скорѣе рѣшился бы онъ взять въ руку скорпіона. Братъ старосты, поднявъ находку, подалъ Шубину, который противъ воли взялъ ее и положилъ въ карманъ.
«Ну, теперь и до золота скоро доберемся!» продолжалъ староста. «Дай-ка, братъ, я примусь рыть. Ты ужъ усталъ».
«Оставьте все и бѣгите отсюда! Вотъ я васъ!» закричалъ вблизи ихъ прежній голосъ.
Братъ старосты выскочилъ изъ ямы, какъ испуганный пѣтухъ, подлѣ котораго невзначай выстрѣлили изъ ружья и всѣ побѣжали къ лодкѣ съ такою быстротою, что и хорошій рысакъ едва ли бы обогналъ ихъ. Ящикъ съ бумагами, ружья и заступъ остались у ямы. Староста зацѣпилъ за нагнувшуюся вѣтвь шляпою, и она слетѣла на землю. Въ ужасѣ онъ этого и не примѣтилъ, да еслибъ и примѣтилъ, то конечно бы не остановился. До шляпы ли тутъ! Лишь бы голову на плечахъ унести въ цѣлости.

Какое перо опишетъ ужасъ, овладѣвшій искателями клада, когда они, прибѣжавъ къ берегу, увидѣли, что лодка ихъ исчезла. Не взвидѣвъ земли подъ собою, пустились они бѣгомъ вдоль берега. Безъ отдыха пробѣжали они въ нѣсколько минутъ около версты, по направленію къ Крестовскому острову, отъ того мѣста, гдѣ близъ берега лежалъ въ водѣ камень, и гдѣ нынѣ перегибается черезъ Малую Неву прекрасный Каменноостровскій мостъ. Наконецъ толстякъ староста, выбившись изъ силъ, прислонился къ дереву и, задыхаясь, воскликнулъ отчаяннымъ голосомъ: «И бѣжать — смерть, и не бѣжать — смерть!»
Вскорѣ и братъ его и Шубинъ въ изнеможеніи повалились, ницъ лицомъ, на мокрую траву берега. Долго лежали они въ этомъ положеніи, не смѣя поднять глазъ; ибо думали, что злой духъ бѣжитъ къ нимъ съ распущенными когтями. Наконецъ, братъ старосты, не слыша никакой погони, осмѣлился приподнять голову и осмотрѣться. Увидѣвъ близъ него лежавшаго неподвижно Шубина, онъ спросилъ: оживъ ли, Карпъ Силычъ?»
«Чуръ меня!» загорланилъ Шубинъ, прижимаясь къ землѣ и хватаясь за траву. «Сгинь, сгинь, нечистая сила! У меня ла́донъ!»
«Это я съ тобой говорю, Карпъ Силычъ! Я тебя спросилъ: живъ ли ты?»
«И самъ не знаю! У меня всю память отшибло! Головы на плечахъ не слышу!»
Собравшись съ силами, они осмѣлились встать и начали робко озираться во всѣ стороны. Староста тихонько прибрелъ къ нимъ, почти на каждомъ шагу охая и потирая руками колѣна.
«Что намъ дѣлать, любезные друзья?» сказалъ онъ плачевнымъ голосомъ. «Лодка наша пропала! Какъ намъ теперь быть?»
«Скоро ужъ разсвѣтаетъ», отвѣчалъ братъ его: «авось, кто-нибудь проплыветъ по рѣкѣ. Ба! Да вонъ, кажется, наша лодка!»
Всѣ взглянули, куда онъ указалъ, и увидѣли въ самомъ дѣлѣ нанятую ими у рыбаковъ лодку, которую несло теченіемъ внизъ по рѣкѣ.
«Мы мало ее втащили на берегъ», сказалъ староста. «Вода, видно, прибыла. Досада какая! Клада не достали, а прогуляли, лодку, ружье, заступъ, да шляпу. Голова у меня такъ зябнетъ, что силъ нѣтъ!»
Сказавъ это, онъ повязалъ лысую голову платкомъ.
«Полно, Спиридонъ Степановичъ!» замѣтилъ Шубинъ». Ты еще о такихъ пустякахъ тужишь!»
«Рыбакъ-то меня знаетъ. Надобно вѣдь будетъ за лодку ему заплатить. Лукавый насъ понесъ отыскивать этого проклятаго клада! Одинъ только убытокъ!»
«Полно, Спиридонъ Степанычъ, полно!» повторилъ Шубинъ, озираясь. «Вѣдь онъ близко отъ насъ. Неравно услышитъ, да разсердится! Ты всѣхъ насъ погубишь!… Ты думаешь, что лодка-то пустая плыветъ?» продолжалъ онъ вполголоса, значительно взглянувъ на старосту.
«Я въ ней никого не вижу».
«Вѣдь не во всякое же время онъ тебѣ покажется! Видимое дѣло, что онъ у насъ и лодку, и ящикъ, и ружье, и заступъ отнялъ и поѣхалъ, куда надобно, да и шляпа твоя ему же попалась. Вонъ онъ, никакъ, на Крестовскій островъ въ лодкѣ пробирается. Хорошо, что онъ намъ-то ничего не сдѣлалъ! Ахъ, батюшки! Какъ вспомню про давешнее, такъ и теперь меня морозъ по кожѣ подираетъ».
Всѣ трое сѣли на траву. Можно, навѣрное, сказать, что никто изъ жителей Петербурга никогда не ждалъ разсвѣта съ такимъ нетерпѣніемъ, какъ наши искатели клада. Наконецъ Востокъ заалѣлъ. На Петербургскихъ колокольняхъ заблаговѣстили къ заутрени.
«Ну, теперь ужъ бояться нечего!» сказалъ староста, перекрестясь. «Пойдемъ вдоль берега; авось, кто-нибудь проплыветъ».
Вставъ съ земли, пошли они опять къ тому мѣсту, гдѣ ночью вышли на берегъ. Братъ старосты, не смотря на предостереженія Шубина, рѣшился посмотрѣть разрытую яму. Съ чувствомъ, подобнымъ тому, съ какимъ входитъ въ присутственное мѣсто опоздавшій канцеляристъ, предполагающій, что взыскательный начальникъ его давно ужъ тамъ, приблизился Александръ Степановичъ къ ямѣ. Оставленные заступъ, ружье и ящикъ исчезли. Александру Степановичу сдѣлалось страшно, и онъ скорымъ шагомъ возвратился къ двумъ его спутникамъ, которые между тѣмъ, увидѣвъ кого-то плывшаго въ лодкѣ, махали ему и кричали, чтобы онъ перевезъ ихъ на Аптекарскій островъ.
«Тьфу, пропасть!» воскликнулъ староста.
«Оглохъ что ли онъ? Какъ мы ни кричимъ, ничего не слышитъ! Даже и не оглянется!»
«Полно, человѣкъ ли это!» замѣтилъ Шубинъ. «Кликать ли намъ его? Это, кажется, тотъ же Савка, на тѣхъ же санкахъ. Видно онъ, окаянный, ужъ на Крестовскомъ вдоволь нашатался и поплылъ въ другое мѣсто. Вишь какія затѣи! Давеча былъ невидимкой, а теперь ужъ принялъ человѣческій образъ».
Лодка скрылась изъ вида. Черезъ нѣсколько времени появился въ челнокѣ рыбакъ, плывшій мимо Каменнаго острова. На крикъ искателей клада онъ подплылъ къ берегу, посадилъ ихъ въ челнокъ и перевезъ на Аптекарскій островъ.
«А гдѣ жъ моя лодка, Спиридонъ Степанычъ!» спросилъ онъ, высаживая на берегъ старосту.
«Куда-то уплыла. Мы, братецъ, тебѣ, за нее заплатимъ».
«Дай тебѣ, Господи, здоровья! Ты вѣстимо меня, бѣдняка, не обидишь, отецъ нашъ».
«Приди ко мнѣ завтра за деньгами», проворчалъ староста.
Выйдя на берегъ, искатели клада прошли чрезъ Нѣмецкое кладбище, переправились на другую сторону Карповки, и пошли по берегу Малой Невы къ Дворянской улицѣ. Берегъ былъ застроенъ низенькими избами, гдѣ жили большею частью Финны. Начиная же отъ нынѣшняго Самсоніевскаго моста, тянулся далѣе по берегу Малой Невы и загибался на Большую Неву рядъ строеній каменныхъ, мазанковыхъ и деревянныхъ. Это были домы Сенаторовъ и другихъ важныхъ чиновниковъ. Нынѣ на этомъ мѣстѣ городскіе амбары. На противоположномъ берегу Выборгской стороны видны были каменное зданіе, гдѣ помѣщались лазареты сухопутный и морской, деревянные провіантскіе магазины и водочный дворъ. На этомъ же берегу, ближе къ церкви Св. Самсона, находилось нѣсколько деревянныхъ избъ, гдѣ помѣщался Синявинъ баталіонъ; означенная же церковь была совсѣмъ не въ томъ видѣ, въ какомъ теперь находится. Нынѣшнюю начали строить въ 1728 году и освятили въ 1740, въ царствованіе Императрицы Анны Іоанновны, на томъ же мѣстѣ, гдѣ Петръ Великій въ 1710 году соорудилъ деревянную церковь въ память Полтавской побѣды. Она была гораздо менѣе нынѣшней, деревянная, съ квадратными окнами и съ одною главою, надъ которою возвышался шпицъ съ крестомъ. Невысокая колокольня, построенная изъ сложенныхъ на́ крестъ бревенъ, стояла отдѣльно, а вокругъ церкви огорожено было деревяннымъ заборомъ обширное кладбище. Около церкви не было вовсе жилищъ, и она, окруженная лѣсомъ, находилась въ то время за городомъ.
«Въ домѣ твоемъ, батюшка Спиридонъ Степанычъ, неблагополучно!» сказалъ дворникъ старосты, отворяя калитку, въ которую этотъ послѣдній постучался.
«Что такое?» спросилъ староста, испугавшись. Братъ его и Шубинъ съ безпокойнымъ ожиданіемъ устремили глаза на дворника.
«Да какъ разсвѣтало, батюшка Спиридонъ Степанычъ, началъ я дворъ мести. И былъ я на дворѣ одинъ одинехонекъ; и ворота были заперты, и калитка также. Вотъ я мету себѣ, и вдругъ слышу: подлѣ меня что-то упало. Оглянулся я, и вижу: лежитъ заступъ. Не успѣлъ я его поднять, летитъ еще сверху ружье. Словно съ неба свалились! Я не зналъ, что и подумать. Смекнулъ я, что развѣ кто-нибудь черезъ заборъ перебросилъ. И для чего бы, кажись? Побѣжалъ я къ воротамъ, выглянулъ на улицу: ни бѣшеной собаки нѣтъ! Истинно никого не было, батюшка Спиридонъ Степанычъ, а ружье и заступъ упали. Я поставилъ ихъ вонъ туда въ уголокъ».
Староста ничего не отвѣчалъ на донесеніе дворника. На лицѣ его изображались изумленіе и испугъ.
«Видно, ему, окаянному, не понравились ружье и заступъ», замѣтилъ Шубинъ. «Стало быть, онъ только ящикъ, лодченку, да шляпу твою, Спиридонъ Степанычъ, у себя оставилъ. Видно носить ее станетъ. Шляпа-то у тебя была новая?»
«Нѣтъ! Я ужъ ее года три таскалъ!»
«Ну, такъ и жалѣть нечего! Пусть онъ въ твоей старой шляпѣ щеголяетъ! По Сенькѣ и шапка! Какъ онъ ее только на рога-то напялитъ?»
Всѣ трое вошли въ ту же комнату, гдѣ они совѣщались, спорили и кидали жребій, затворили дверь, и пожелавъ другъ другу спокойнаго дня, (ибо ночь уже прошла, и очень для нихъ безпокойная), легли на постланныхъ перинахъ, чтобы подкрѣпить истощенныя силы сномъ.
«Вотъ, Марья Павловна, твой ящикъ!» сказалъ Никитинъ, неожиданно войдя въ комнату своей невѣсты.
Марія сидѣла въ задумчивости у окна и глядѣла на улицу.
«Я тебѣ вѣчно за это буду благодарна!» сказала съ живостію удивленная и обрадованная Марія. «Гдѣ ты нашелъ его?»
Никитинъ объяснилъ все невѣстѣ. Онъ цѣлый день изподтишка наблюдалъ за поступками Шубина, и замѣтилъ, что этотъ послѣдній очень долго пробылъ въ домѣ старосты. Ходя около дома до поздняго вечера, увидѣлъ, наконецъ, Никитинъ, что староста съ братомъ и Шубинъ вышли на улицу, и что одинъ изъ нихъ несъ заступъ. Догадавшись объ ихъ намѣреніи тѣмъ легче, что ему отчасти извѣстно было содержаніе бумагъ, хранившихся въ ящикѣ, послѣдовалъ онъ непримѣтно за искателями клада на Каменный островъ, скрылся близъ нихъ въ кустарникѣ и, подслушавъ ихъ разговоръ, началъ наблюдать за ихъ дѣйствіями. Когда духъ земли не повторилъ неизвѣстныхъ словъ, ими произнесенныхъ, то Никитинъ, удостовѣрясь, что написанное въ пергаментномъ свиткѣ заключало въ себѣ одни мечты, вздумалъ напугать похитителей ящика, чтобы наказать безсовѣстныхъ. Читателямъ извѣстно уже, какъ привелъ онъ въ ужасъ суевѣровъ, какъ они подумали, что въ лодкѣ ихъ, унесенной поднявшеюся въ рѣкѣ водою, поплылъ на Крестовскій нечистый духъ, а потомъ какъ они сочли плывшаго въ лодкѣ Никитина за того же духа. Послѣ бѣгства старосты и его спутниковъ отъ ямы, Никитинъ разрылъ ее еще глубже, но никакого золота не нашелъ. Взявъ оставленные ими заступъ и ружье, онъ мимоходомъ перебросилъ ихъ черезъ заборъ на дворъ Гусева и пошелъ съ ящикомъ къ Маріи. Она поставила его на прежнее мѣсто. Хотя ящикъ и не могъ уже, какъ прежде, возбуждать въ ней мечтаній о перемѣнѣ судьбы ея, но онъ ей былъ по прежнему дорогъ, какъ единственная вещь, оставшаяся послѣ отца ея.
Между тѣмъ, староста, братъ его и Шубинъ проснулись и встали. Шубинъ, почувствовавъ, что у него въ карманѣ что-то тяжелое, опустилъ туда руку и съ ужасомъ вынулъ продолговатый камень, ими найденный, про который онъ совершенно забылъ, безъ памяти кинувшись отъ ямы. По общемъ совѣщаніи, приказали они дворнику принести ружье и заступъ, брошенные на дворъ нечистою силою, вышли изъ дома на берегъ Малой Невы, и кинули въ воду и камень, и ружье, и заступъ на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ Самсоніевскій мостъ.
Если и въ нынѣшнемъ вѣкѣ найдутся люди, вѣрующіе въ таинства Алхиміи и ищущіе философскаго камня, то мы считаемъ долгомъ увѣдомить ихъ объ этомъ обстоятельствѣ, чтобы они, не тратя понапрасну времени и трудовъ на изысканія, поспѣшили прямо на Петербургскую сторону, наняли водолаза и велѣли ему, нырнувъ подъ Самсоніевскій мостъ, отыскать на днѣ рѣки брошенный глупымъ Шубинымъ камень, котораго въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій безуспѣшно искали сотни мудрецовъ и ученыхъ, снискавшихъ Европейскую извѣстность. Конечно, будетъ трудно найти эту драгоцѣнность. Не даромъ въ пословицѣ говорится: одинъ дуракъ броситъ въ воду камень, а семеро умныхъ не вытащатъ.
Черезъ нѣсколько дней послѣ происшествія, Никитинъ, взявъ съ собою лучшую картину своей работы, списокъ съ знаменитой Корреджіевой ночи въ уменьшенномъ размѣрѣ, цѣлое утро носилъ ее по домамъ вельможъ и другихъ жителей Петербурга, славившихся богатствомъ. Иной предлагалъ ему за произведеніе его кисти рублевикъ, другой два, третій говорилъ, что его предки и безъ картинъ счастливо прожили на свѣтѣ. Художникъ увидѣлъ съ горестію, что соотечественники его весьма еще были далеки отъ той степени образованности, на которой рождается любовь къ изящнымъ искусствамъ, и что самъ Корреджіо или даже Рафаэль умеръ бы въ Россіи нищимъ, никѣмъ неоцѣненный, еслибъ вмѣсто геніальныхъ твореній не рѣшился писать плохихъ подражаній неискуснымъ Греческимъ иконописцамъ. Онъ удостовѣрился, что трудъ его едва доставитъ ему самому пропитаніе, и что пріобрѣсти живописью сумму, нужную на выкупъ изъ острога воспитателя Маріи, такъ же было невозможно, какъ и добыть посредствомъ Алхиміи философскій камень или кусокъ золота изъ свинца. Возвратясь домой, поставилъ онъ свою картину въ темный чуланъ, убралъ туда же и прочія свои работы, и почти съ отчаяніемъ въ душѣ началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. — Нѣтъ, милая Марія! — размышлялъ онъ, — видно не суждено намъ быть счастливыми! Богатый Шубинъ, эта ничтожная тварь, назоветъ тебя своею женою!… Безумецъ я! Я посвятилъ жизнь свою живописи, которой здѣсь никто не цѣнитъ! Лучше было бы мнѣ, по примѣру Шубина и другихъ ему подобныхъ, учиться не живописи, а плутовству въ торговлѣ и безсовѣстности! Выгоднѣе было бы сдѣлаться ростовщикомъ или приказнымъ, бездушнымъ взяточникомъ! Тогда бы не боялся я умереть съ голоду! Тогда бы Марія могла быть моею! О Боже мой! что будетъ со мною!
Съ сердцемъ, растерзаннымъ горестію, пошелъ онъ къ Маріи. Глядя на нее и внутренно прощаясь съ нею навсегда, онъ долго старался казаться спокойнымъ и веселымъ. Тяжело ему было рѣшиться разрушать откровеннымъ признаніемъ всѣ свѣтлыя мечты, которыя онъ передавалъ Маріи въ каждое свиданіе съ нею, и которыя наполняли ея сердце сладостною надеждою и вѣрою въ будущее счастіе. Часто говорили они, съ какою радостію обниметъ ихъ старикъ Воробьевъ, освобожденный изъ острога, и назоветъ ихъ милыми дѣтьми; съ какимъ восторгомъ пойдутъ они всѣ трое въ храмъ благодарить Всевышняго за ниспосланное благополучіе. Наконецъ, Никитинъ, не имѣя силъ скрывать долѣе неизобразимаго мученія души своей, сказалъ все Маріи. Не станемъ описывать ихъ прощанія: есть положенія, есть чувства, которыхъ словами изобразить невозможно.
Бѣдная дѣвушка опасно занемогла.
Когда ея здоровье, при пособіи лѣкаря, чрезъ полтора мѣсяца возстановилось, она пригласила къ себѣ Шубина и умоляла его освободить изъ острога ея воспитателя.
«Это отъ тебя зависитъ, Марья Павловна!» отвѣчалъ Шубинъ. «Не я виноватъ! Давно бы тебѣ вступить въ законный бракъ со мною. За чѣмъ медлила? Дотянули мы съ тобой дѣло до Филипова поста. Теперь вѣнчаться нельзя. Впрочемъ до Рождества не долго. Сыграемъ свадьбу, и въ тотъ же день Илью Ѳомича выпустятъ на волю. Вотъ тебѣ рука моя!»
«Какъ? Неужели онъ долженъ будетъ до тѣхъ поръ томиться въ острогѣ?» воскликнула горестно Марія.
«Да какъ же иначе? Если его теперь на волю выпустить, то онъ тебѣ выйти за меня замужъ не позволитъ, я не соглашусь ждать своего долга, и опять все дѣло спутается».
Какъ ни увѣряла Марія, что она выпроситъ у своего воспитателя согласіе на бракъ ея съ Шубинымъ, онъ остался непреклоннымъ въ своемъ намѣреніи освободить его не прежде какъ въ день свадьбы, по совершеніи вѣнчанія.
Шубинъ началъ съ того времени почти каждый день посѣщать свою невѣсту. Бѣдная дѣвушка, твердо рѣшась на пожертвованіе собою для спасенія ея втораго отца, скрывала снѣдавшую ее грусть въ глубинѣ сердца, ласками отвѣчала на ласки, возбуждавшія въ ней отвращеніе, благодарила за подарки и все думала о Никитинѣ. Одна только мысль нѣсколько утоляла ея страданія, мысль, что она не перенесетъ ихъ и скоро избавится отъ мучительной жизни.
Никитинъ, забросивъ кисть свою, совершенно охладѣлъ ко всему въ жизни. Она казалась ему тягостнымъ бременемъ. Безъ цѣли бродилъ онъ днемъ по пустыннымъ окрестностямъ Петербурга, и большую часть ночи проводилъ въ воспоминаніяхъ о Маріи, тѣмъ сильнѣе его терзавшихъ, чѣмъ были они сладостнѣе. Сердце наше не можетъ чувствовать вполнѣ блага, которымъ обладаетъ, и цѣнитъ его въ тысячу разъ болѣе, когда его лишается невозвратно. Часто Никитинъ вскакивалъ съ постели, изнемогая отъ страданій, и въ его душѣ мелькала ужасная мысль: лишить себя жизни. Голосъ Вѣры начиналъ тогда говорить, и страдалецъ, смиряясь предъ нимъ, утихалъ, плакалъ, какъ ребенокъ, и, наконецъ, погружался въ самозабвеніе. Тогда появлялась предъ нимъ толпа неясныхъ образовъ, не производившихъ на сердце его никакого впечатлѣнія. Жизнь, смерть, природа, люди, самая Марія представлялись ему чѣмъ-то чужимъ, не имѣющимъ къ нему никакого отношенія.
Наступилъ праздникъ Рождества Христова. Никитинъ, преданный одной своей горести, не считалъ ни дней, ни числъ. И что ему было считать! Страданія его казались ему вѣчными мученіями ада.
Благовѣстъ предъ заутреней раздавался на всѣхъ Петербургскихъ колокольняхъ, но онъ и не слыхалъ его. Сидя у окна, слѣдилъ онъ взоромъ, безъ всякой мысли, мимолетныя облака, осребрявшіяся полнымъ мѣсяцемъ, и чувствовалъ только, что сердцу его отъ чего-то тяжко, очень тяжко.
Когда разсвѣтало; вдругъ отворилась дверь его комнаты, и вошелъ мужчина высокаго роста.
«Не ты ли, братъ, живописецъ Никитинъ?» спросилъ вошедшій.
«Что тебѣ надобно?» сказалъ живописецъ, продолжая смотрѣть въ окно.
«Ты, видно, не узналъ меня! Я давно уже слышалъ, что ты возвратился изъ Италіи, и каждый почти день сбирался къ тебѣ, да все было недосугъ. Поздравляю, братъ, съ праздникомъ! Поцѣлуемся!»
«Ваше Величество!» воскликнулъ Никитинъ, бросаясь къ ногамъ Петра Великаго.
Царь поднялъ его и продолжалъ: «Покажи-ка, братъ, твою работу. Любопытно посмотрѣть, какъ ты теперь пишешь».
Никитинъ вынесъ изъ чулана нѣсколько картинъ и поставилъ одну на столъ, прислонивъ къ стѣнѣ. Это былъ списокъ съ Корреджіевой ночи. Не смотря на то, что размѣръ картины былъ уменьшенъ, и что Никитинъ далеко не приблизился къ подлиннику, картина его имѣла неоспоримыя достоинства. Рисунокъ былъ вѣренъ и правиленъ. Неподражаемое сіяніе, разливающееся отъ Младенца–Іисуса, изображено было очень удачно. Монархъ долго стоялъ въ безмолвіи, разсматривая картину.
«Вотъ гдѣ родился Спаситель міра, Царь царствующихъ!» сказалъ онъ вполголоса про себя, преданный размышленіямъ. «Не въ золотыхъ палатахъ, воздвигаемыхъ суетностію и гордостію человѣческою, а въ хлѣвѣ, посреди пастырей смиренныхъ! Не блещетъ вкругъ Него земное величіе, а самъ Онъ сіяетъ величіемъ небеснымъ. Одни пастыри и мудрецы пришли поклониться Ему. Не раздаются поздравленія льстецовъ, притворно радующихся, а уста Ангеловъ возвѣщаютъ Его славу небу, миръ землѣ и благоволеніе человѣкамъ».
Монархъ замолчалъ и снова погрузился въ размышленія.
«Прекрасно!» сказалъ онъ, обратясь къ Никитину и потрепавъ его по плечу. «Спасибо, братъ, тебѣ! Я вижу, что ты не даромъ съѣздилъ въ Италію».
Осмотрѣвъ всѣ прочія картины, Царь спросилъ: «Ну, чтожъ ты еще писать будешь? Не началъ ли чего нибудь?»
«Не буду ничего писать, Ваше Величество!» отвѣчалъ печально Никитинъ.
«Какъ не будешь? Почему?» спросилъ удивленный Царь.
Никитинъ бросился къ ногамъ его, и съ откровенностію сына, жалующагося отцу на свои бѣдствія и горести, высказалъ Монарху все, что тяготило его душу и убивало его дарованіе.
Царь, выслушавъ его внимательно, нахмурилъ брови и продолжалъ: «Такъ тебѣ не болѣе двухъ рублей давали за эту картину?»
«Точно такъ, Ваше Величество!»
«А много ли нужно денегъ на выкупъ изъ острога воспитателя твоей невѣсты?»
«Четыре тысячи рублей».
«Да отъ чего онъ такъ много задолжалъ? Видно захотѣлъ вдругъ разбогатѣть и разорился, какъ обыкновенно бываетъ?»
«Нѣтъ, Ваше Величество. У него нѣсколько барокъ съ товаромъ на Невѣ разбило; отъ этого всѣ дѣла его разстроились».
Царь подошелъ къ окну и смотрѣлъ нѣсколько времени на утицу. Примѣтно было, что онъ о чемъ-то размышляетъ.
«Послушай, Никитинъ!» сказалъ онъ, отойдя отъ окна. «Приди сегодня на ассамблею въ домъ Меншикова, и принеси съ собою лучшія изъ твоихъ картинъ. Прощай!»
Никитинъ проводилъ Царя до воротъ, и долго смотрѣлъ вслѣдъ за его санями, быстро удалявшійся.
Въ четвертомъ часу вечера живописецъ, отобравъ десять лучшихъ картинъ своихъ, завязалъ ихъ въ большой холстъ, нанялъ сани и отправился на Васильевскій островъ.
Домъ Князя Меншикова, послѣ многократныхъ перестроекъ до сихъ поръ сохранившійся и составляющій часть 1го Кадетскаго Корпуса, занималъ въ то время по Невской набережной въ длину пятьдесятъ семь саженей. Въ царствованіе Императрицы Анны Іоанновны, когда домъ этотъ отданъ былъ для Кадетскаго Корпуса, его перестроили и увеличили, уничтоживъ множество пилястръ и другихъ архитектурныхъ украшеній, которыми загромождена была лицевая сторона зданія. Позади его зеленѣлъ обширный садъ, украшенный аллеями, оранжереею и бесѣдкою. Съ правой и съ лѣвой стороны сада тянулись два длинные, деревянные, въ два яруса флигеля, которые при Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ за ветхостію были сломаны. Съ Невы проведенъ былъ къ этимъ домамъ каналъ. Подлѣ дома Меншикова съ правой стороны, на берегу Невы, стоялъ небольшой каменный домъ его дворецкаго, Соловьева. Съ лѣвой стороны подлѣ сада находилась мазанковая церковь, построенная Меншиковымъ, во имя Воскресенія Христова, со шпицомъ и небольшимъ куполомъ, обитыми жестью. Внутри шпица были устроены куранты, и на каждомъ изъ четырехъ сторонъ его находилось по круглой мраморной доскѣ съ одной стрѣлкою, показывавшею часы. Церковь эту сломали въ 1730 году. Мѣсто, гдѣ нынѣ находятся Коллегіи, огорожено было деревяннымъ заборомъ; ихъ только что начинали тогда строить.
Домъ Меншикова, превосходившій великолѣпіемъ всѣ тогдашнія зданія Петербурга, предназначенъ былъ для пріема посланниковъ, которые со свитами помѣщались въ двухъ флигеляхъ, описанныхъ выше. До построенія всѣхъ этихъ зданій, Посольскій домъ, принадлежавшій также Меншикову, находился на Санктпетербургскомъ островѣ близъ домика Петра Великаго. Домъ этотъ сломали въ 1710 году. Онъ былъ мазанковый, одноэтажный, въ восмнадцать окошекъ по лицу. Каждое окно отдѣлялось отъ другаго деревянною колонною, такого ордена, какого не сыщешь нынѣ ни въ одномъ курсѣ Архитектуры. По срединѣ зданія былъ уступъ въ шесть окошекъ, и между ними въ центрѣ дверь съ крыльцомъ, украшеннымъ затѣйливыми, рѣзными перилами.
Никитинъ, въѣхавъ на берегъ Васильевскаго острова, приблизился къ дому Меншикова и увидѣлъ во всѣхъ окнахъ пышное освѣщеніе, а надъ крыльцомъ прозрачную картину, на которой сіяла надпись: Ассамблея. Свѣтъ изъ окошекъ длинными полосами ложился на берегъ и на бѣлое, ледяное покрывало Невы, на другомъ берегу которой тянулся рядъ домиковъ Адмиралтейскихъ мастеровыхъ (нынѣшняя Англійская набережная). Онъ взошелъ на лѣстницу, объявилъ въ передней слугамъ, что онъ художникъ, оставилъ на сохраненіе ихъ свои картины, и впущенъ былъ въ комнаты. Въ первой гвардейскіе и морскіе офицеры и нѣсколько приказнослужителей шаркали и важно раскланивались съ дамами, которыя умильно присѣдали подъ звукъ полковой музыки, гремѣвшей съ хоръ, и тѣмъ ниже, чѣмъ выше поднимались аккорды менуэта. Государственный Канцлеръ Графъ Головкинъ и Адмиралъ Апраксинъ сидѣли рядомъ у окна и смотрѣли на танцевавшихъ. У другихъ окошекъ и вдоль стѣнъ сидѣли и стояли многіе другіе вельможи, художники, мастеровые, корабельные плотники, гражданскіе чиновники, купцы, таможенные смотрители. Никитинъ перешелъ въ другую комнату, и увидѣлъ и тамъ ту же смѣсь
Въ этой комнатѣ за разставленными столами пестрѣли карты и стучали шашки. Здѣсь толстый купецъ игралъ въ дурачки съ сухощавымъ Коллежскимъ Совѣтникомъ (который въ тѣ времена, по важности своего званія, былъ не то, что нынѣ); тамъ Секретарь, поднявъ носъ, не съ высокомѣріемъ однакожъ, а съ покорностію, проигранное имъ въ носки число ударовъ принималъ счетомъ отъ челобитчика, и въ досадѣ, что тотъ безъ пощады бьетъ полколодою, произносилъ внутренно обѣщаніе, кромѣ ударовъ, принять еще кое-что счетомъ же и провести своего противника за носъ. На третьемъ столѣ играли таможенные смотрители въ зѣваки; на четвертомъ три Нѣмца, схватясь съ однимъ Русскимъ, лѣзли въ горку; на пятомъ одинъ Нѣмецъ училъ трехъ Русскихъ гранъ-пасьянсу.
Въ слѣдующей комнатѣ увидѣлъ Никитинъ дымъ, который пускали въ глаза иностранные мастеровые и художники изъ табачныхъ трубокъ, молчаливо бесѣдуя съ Русскимъ медомъ и пивомъ, цѣнившимся въ большихъ кружкахъ. Выйдя, или лучше сказать, спустясь съ этого облака въ танцовальную залу, живописецъ пошелъ къ двери, у которой тѣснилась толпа и смотрѣла на что-то происходившее за порогомъ. Не безъ труда пробравшись къ этому непереступному порогу, увидѣлъ Никитинъ собраніе дѣвицъ и дамъ. Первыя (въ особенности пожилыя) гадали разнымъ образомъ о женихахъ; вторыя, составивъ кружокъ, занимались игрою: кошка и мышка. Мышкою былъ десятилѣтній мальчикъ, единственный представитель мужской половины рода человѣческаго въ этой дамской комнатѣ. Какая-то пригожая молодая вдова, потрясая своими фижмами, какъ Амуръ крыльями, ловила мальчика. Бѣдняжка совсѣмъ почти задохся, а привлекательная противница все-таки продолжала неутомимо преслѣдовать свою жертву, представителя сословія мужчинъ, забывъ пословицу: кошкѣ игрушки, а мышкѣ слезки.
Раздавшійся по залѣ всеобщій шопотъ, который отъ того сдѣлался громче инаго крику, отвлекъ Никитина отъ двери. Всѣ повторяли: «Государь, Государь!» и живописецъ увидѣлъ Царя, вошедшаго безъ свиты, подъ руку съ хозяиномъ дома, Княземъ Меншиковымъ.
Когда кавалеры вдоволь накланялись, а дамы до усталости наприсѣдались, менуэтъ кончился. Посрединѣ залы явился человѣкъ, въ старинномъ боярскомъ кафтанѣ, въ высокой шапкѣ изъ заячьяго мѣха и съ зеленою бородою, достававшею ему почти до пояса. Еслибъ эта борода была не шелковая и цвѣтомъ синяя то можно было бы подумать, что женоубійца Рауль-синяя борода вздумалъ повеселиться въ ассамблеѣ. Это былъ придворный шутъ Балакиревъ. Взоры всѣхъ устремились на него.
Балакиревъ, обратясь лицемъ къ Царю, снялъ шапку и повалился на полъ по старинному обычаю, отмѣненному Петромъ Великимъ, который, замѣтивъ, что и на грязныхъ улицахъ этотъ обычай свято соблюдался, велѣлъ народу при проѣздѣ Царя только кланяться, прибавивъ: «Я хочу народъ мой поставить на ноги, а не заставить его при мнѣ валяться въ грязи!»
«Великій Государь!» сказалъ шутъ. «Бьетъ челомъ твой нижайшій и подлѣйшій рабъ, боярскій сынъ Доримедошка, по прозванію пустая-голова!»
«Не по формѣ просишь!» замѣтилъ, смѣясь, Апраксинъ.
«Не въ формѣ сила! Сила не коровай: и безъ формы хороша. Матушка сила меня съ ногъ безъ формы сбила!»
Громкій смѣхъ раздался въ залѣ. Шутъ, вставъ между тѣмъ съ пола, проговорилъ форменное начало просьбы и продолжалъ: «Пунктъ первый. Укажи, Великій Государь, пѣсню спѣть. Пунктъ второй. И спѣлъ бы да голосу нѣтъ. Пунктъ третій. Былъ у меня голосъ, да сплылъ. Князь Александръ Данилычъ оттягалъ; отъ того голосъ у него гораздо моего сильнѣе сталъ. Какъ закричитъ: всѣ его слушаются; а я закричу: такъ только одинъ дуракъ Балакиревъ меня слушается; одному ему страшно. Никто не хлопочетъ, а всякъ надо мной же хохочетъ».
«Ну, спой пѣсню и безъ голоса», сказалъ Совѣтникъ Коллегіи, у котораго было на головѣ волосовъ не менѣе, какъ звѣздъ на небѣ въ полдень.
«Горло безъ голоса то же, что голова безъ волоса. Я полтораста такихъ головъ набралъ и привелъ ко дворцу. Царь, я чаю, помнитъ? Да не въ томъ дѣло. Есть у меня, признаться, голосъ, только не свой, а краденый. У меня борода длинна, да и у козла не короче. Свелъ я съ нимъ дружбу, и сослужилъ ему службу. У меня Князь Данилычъ мой голосъ оттягалъ, а я у козла голосокъ укралъ. Запою, заслушаешься! Что твой пѣтухъ! Случается, что и курица пѣтухомъ поетъ, почему жъ мнѣ не спѣть по козлиному? А и то бываетъ, что иной по рѣчамъ — человѣкъ, по рогамъ — козелъ, а по уму — оселъ. Ну, слушайте жъ, добрые люди, козлиную пѣсню:
Пропѣвъ пѣсню, шутъ важно поклонился на всѣ четыре стороны.
«А про какое время ты пѣлъ?» спросилъ Меншиковъ. «Нынѣ ужъ, кажется, такихъ судей не водится».
«Почему мнѣ, дураку, это знать! Мое дѣло спѣть, а про нынѣшнее ли время, про старинное ли козелъ пѣсню сложилъ, не мое дѣло! Тотъ пускай это смекнетъ, кто всѣхъ умнѣе; а я, окаянный, всѣхъ глупѣе. Эй вы, православные!» закричалъ шутъ, обратясь къ толпѣ приказнослужителей. «Кто изъ васъ всѣхъ разумнѣе, тотъ выступи впередъ, да отвѣтъ дай Князю Александру Данилычу. Никто не выступаетъ! Сіятельнѣйшій Князь! Меня не слушаются! Прикажи умнѣйшему умнику впередъ выступить. За чѣмъ онъ притаился?»
«Затѣмъ, что только самый глупый человѣкъ можетъ почитать себя всѣхъ умнѣе».
«Ой ли! А я почитаю себя всѣхъ глупѣе, стало быть я всѣхъ умнѣе».
«Именно», сказалъ Апраксинъ, смѣясь. «Потому ты и долженъ отвѣтить на вопросъ Князя Александра Даниловича. Скажи-ка, водятся ли нынѣ такіе Дьяки, про какого ты пѣлъ?»
«Дьяковъ давно ужъ нѣтъ, а нынѣ все Секретари, Ассессоры, Коллегій Совѣтники, Рекетмейстеры, Прокуроры, и другіе приказные люди, которыхъ и назвать не умѣю. По этому я разумѣю, что козелъ сложилъ пѣсню про старину, и что этотъ Дьякъ жилъ-былъ при Князѣ Шемякѣ. Вѣрнѣе было бы спросить объ этомъ самого козла, да гдѣ теперь найдешь его! Впрочемъ я и безъ него знаю, что нынѣ такимъ Дьякамъ не житье, пока живъ посошокъ. Онъ ростомъ не великонекъ, вершками двумя меня пониже, и такой худенькой, гораздо потоньше вотъ этого Голландца. Только куда какой охотникъ гулять по доламъ, по горамъ, а подъ часъ и по горбамъ! И по моему верблюжьему загорбку онъ гуливалъ, мой батюшка! Съ тѣхъ поръ мы съ нимъ познакомились. Всего больше не любитъ онъ взятокъ. Возьми хоть маленькую, а посошокъ и пожалуетъ въ гости, и готовъ переломать кости, если кто на него не угодитъ. Видишь, онъ очень сердитъ. Пусть бы онъ колотилъ взяточниковъ, а за что жъ онъ дураковъ-то, примѣромъ сказать меня, иногда задѣваетъ? Въ сказкѣ сказывается, что Дурень-бабень разсердилъ чернеца, а чернецъ сломалъ объ него свой костыль, и
И посошку, моему любезному дружку, слѣдовало бы себя пожалѣть, и со мной, глупымъ, не ссориться».
«Ты развѣ забылъ, что ты всѣхъ умнѣе?» замѣтилъ Апраксинъ.
«Забылъ! У меня память, что старое рѣшето. Положи хоть арбузовъ горсть, такъ и тѣ просѣются. Это рѣшето не то, что карманъ инаго кафтана. Кладутъ въ него всякую всячину; весь разлезется и продырится пуще рѣшета, а небось, ничего не просѣешь. Все въ немъ остается! И золотая песчинка не проскочитъ!»
«У кого же такой карманъ?» спросилъ Царь, посмотрѣвъ на многихъ вельможъ, надъ которыми особая Коммиссія производила слѣдствіе по обвиненію ихъ въ противозаконныхъ поборахъ и доходахъ.
«Не знаю! Не перечтешь и шитыхъ кафтановъ, не только кармановъ. Притомъ въ чужой карманъ грѣшно заглядывать! Темно тамъ, ничего не видно, хоть глазъ уколи. Я не охотникъ глаза колоть. Инаго и въ бровь уколешь, такъ напляшешься»
«Ты сегодня много говоришь лишняго. Надобно тебя наказать за нарушеніе порядка въ ассамблеѣ. Подайте-ка большаго орла».
Принесли огромный бокалъ, наполненный виномъ.
«Великій Государь, помилуй!» закричалъ Балакиревъ. «Въ чемъ провинился я предъ тобою?»
«Пей!» сказалъ Царь.
Съ лицемъ, выражавшимъ горесть и отчаяніе, шутъ опорожнилъ бокалъ и, упавъ передъ Царемъ, сказалъ: «Заслужилъ я гнѣвъ твой и чувствую все мое тяжкое преступленіе. По милосердію твоему, Государь, я еще мало, окаянный, наказанъ. Совѣсть угрызаетъ меня. Вели еще наказать. Не страшно мнѣ наказаніе, а страшенъ гнѣвъ твой! Подайте мнѣ еще орла. Да нѣтъ ли побольше этого?»
«Смотри, чтобъ орелъ не прилетѣлъ съ посошкомъ, про который ты говорилъ».
«Съ посошкомъ!» воскликнулъ шутъ, проворно вскочивъ съ пола и тѣснясь сквозь толпу въ другую комнату. «Убраться было скорѣе отсюда!»
«Принесъ ли ты твои картины?» спросилъ Петръ Великій, подойдя къ Никитину.
«Принесъ, Ваше Величество».
«Разставь ихъ вдоль этой стѣны».
Когда живописецъ пополнилъ приказанное, Царь велѣлъ позвать Балакирева и сказалъ ему: «Продай всѣ эти картины съ аукціона».
Шутъ, слыхавшій кое-что при Дворѣ о картинахъ Рафаэля, понялъ слова Государя по-своему и закричалъ: «Господа честные! Продаются картины знаменитаго и славнаго живописца Рафаэля, онъ же и Санціо. Товаръ лицемъ продаю, безъ обмана, безъ изъяна. Картины знатныя! Продамъ безъ барыша, за свою цѣну. А ужъ какой живописецъ-то, этотъ пострѣлъ Санціо! Даже самому господину Суперъ-Интенденту, первому иконописцу Ивану Ивановичу11, онъ въ мастерствѣ не уступитъ!»
«Все ты не дѣло говоришь!» сказалъ Петръ, и, обратясь къ Меншикову, продолжалъ: «Объясни ему, Данилычъ, что значитъ продажа съ аукціона. Вѣдь онъ въ самомъ дѣлѣ не бывалъ за границей».
Когда Меншиковъ растолковалъ Балакиреву порядокъ аукціонной продажи, то шутъ, передвинувъ изъ угла къ картинамъ небольшой, круглый столикъ, взялъ стоявшую въ томъ же углу трость Петра Великаго, и закричалъ: «Нуженъ бы мнѣ былъ молотокъ, да за него дѣло сдѣлаетъ вотъ этотъ посошокъ, знакомецъ мой и пріятель».
Стукнувъ по столику, Балакиревъ объявилъ условія продажи и, указавъ на первую картину, сказалъ: «Оцѣнка рубль».
«Два рубля!» сказалъ одинъ изъ купцевъ.
«И того три рубля. Первый разъ — три рубля, второй разъ — три рубля, никто больше? Третій разъ…»
«Десять рублей!» сказалъ Апраксинъ
«И того тринадцать. Никто больше? Третій…»
«Полтина!» сказалъ купецъ.
«Не много ли прибавилъ?» замѣтилъ Балакиревъ. «Не разорись». Затянувъ рѣшительное: третій разъ! онъ поднялъ трость.
Апраксинъ надбавилъ полтора рубля, и Балакиревъ, какъ ни растягивалъ свое: третій разъ! принужденъ былъ стукнуть тростью.

Ужъ продано было восемь картинъ, и остались только двѣ. Иная пошла за десять рублей, иная за пять, иная еще за меньшую цѣну. Шутъ-Аукціонеръ при всѣхъ стараніяхъ выручилъ только сорокъ девять рублей. Бѣдный Никитинъ вздохнулъ.
Дошла очередь до списка съ Корреджіевой ночи. Высшую цѣну, двадцать рублей, предложилъ невысокаго роста, плечистый и довольно дородный посадскій, въ Нѣмецкомъ кафтанѣ тонкаго коричневаго сукна, и съ сѣдыми на головѣ волосами. Это былъ славившійся богатствомъ подрядчикъ Семенъ Степановичъ Крюковъ, поселившійся въ Петербургѣ вскорѣ послѣ его основанія. Онъ много разъ бралъ на себя разные казенные подряды и работы, и былъ лично извѣстенъ Царю. Донынѣ сохранился въ Петербургѣ, какъ объяснится ниже, памятникъ этого малорослаго подрядчика, превосходящій величиною монументъ самого Петра Великаго. Впрочемъ онъ былъ человѣкъ почти безъ всякаго образованія. Когда Никитинъ приходилъ къ нему въ домъ со спискомъ съ Корреджіевой ночи, то Крюковъ сказалъ. «Предки и отцы наши жили и безъ картинъ, и я, грѣшный, проживу благополучно безъ нихъ на свѣтѣ».
«И такъ двадцать рублей», сказалъ Балакиревъ, поднимая трость. «Третій разъ…»
Чѣмъ болѣе шутъ тянулъ это слово и поднималъ выше трость, тѣмъ ниже упадалъ духомъ Никитинъ. Двадцать рублей за полугодовой безпрерывный трудъ! Плохое поощреніе для художника! Никитинъ стоялъ въ толпѣ, уподобляясь преступнику, которому объявили смертный приговоръ. Онъ пришелъ въ ассамблею съ неясною, но тѣмъ не менѣе утѣшительною, надеждою, которую возбудило въ его сердцѣ приказаніе Государя: принести въ домъ Меншикова картины. Надежда эта уступила мѣсто прежней горести и отчаянію, когда живописецъ увидѣлъ, что вырученными за его работы деньгами невозможно уплатить и пятидесятой части долга Шубину.
Балакиревъ готовъ ужъ былъ стукнуть тростью, какъ вдругъ раздались слова: «Триста рублей!»
Триста рублей были въ то время важная сумма. Всѣ оглянулись съ удивленіемъ въ ту сторону, откуда раздался голосъ, и увидѣли Никитина, обнимавшаго колѣна Петра Великаго.
«Встань, братъ, встань!» говорилъ Государь, поднимая Никитина. «Не благодари меня! Я лишняго ничего не далъ за твою картину. Боюсь, не обидѣлъ ли я тебя? можетъ быть, ты дороже цѣнишь трудъ свой?»
У Никитина катились градомъ слезы. Онъ не имѣлъ силы выразить словами благодарность свою Монарху, и въ молчаніи, съ жаромъ прижималъ державную руку его къ устамъ своимъ.
Всѣ были тронуты. Даже вѣчно-смѣявшійся Балакиревъ, поглядывалъ изъ подлобья то на Никитина, то на Государя, украдкой хотѣлъ отереть рукавомъ слезу, не шутя покатившуюся по щекѣ его, но не успѣлъ, и слеза капнула на его зеленую бороду.
Началась продажа послѣдней картины.
«Кто купитъ эту картину», сказалъ Петръ Великій, «тотъ докажетъ мнѣ, что онъ меня изъ всѣхъ моихъ подданныхъ болѣе любитъ».
Вся зала заволновалась, и цѣна вмигъ возросла до девяти сотъ рублей. Аукціонеръ едва успѣвалъ выговаривать свои первые, вторые и третьи разы, и, сбившись наконецъ отъ торопливости въ счетѣ денегъ, закричалъ: «Эй ты, Балакиревъ! Неужто ты любишь менѣе другихъ своего Царя? Сколько ты пустая голова, даешь за картину?»
«Полторы тысячи!» отвѣчалъ онъ самъ себѣ, измѣнивъ свой басистый голосъ въ самый тонкій. «Докажу, что и дуракъ любитъ искренно Царя не меньше всякаго умника! Третій разъ…»
Онъ хотѣлъ стукнуть тростью, но Меншиковъ остановилъ его, сказавъ: «Двѣ тысячи!»
«Третій разъ…»
«Три тысячи!» воскликнулъ Апраксинъ.
«Третій разъ…»
«Четыре тысячи!» закричалъ Головкинъ.
«А я даю пять!» прибавилъ подрядчикъ Крюковъ. «Никому на свѣтѣ не уступлю!»
Балакиревъ, поднявъ трость, затянулъ: третій разъ. Меншиковъ и всѣ другіе вельможи готовились надбавить цѣну; но Государь, примѣтивъ это, далъ знакъ рукою аукціонеру, и трость съ такою силою стукнула по столику, что онъ зашатался.
«Данилычъ!» сказалъ Монархъ на ухо Меншикову, взявъ его за руку: «я увѣренъ, что ты и всѣ твои сослуживцы меня любите. Однакожъ ты, я чаю, не забылъ, что на тебѣ и на многихъ другихъ есть казенный начетъ. Чѣмъ платить нѣсколько тысячъ за картину, лучше внести эти деньги въ казну. Отъ этого для народа будетъ польза. Вы этимъ всего лучше любовь свою ко мнѣ докажете. Скажи-ка это всѣмъ прочимъ, кому надобно».
«Будетъ исполнено, Государь!» отвѣчалъ Меншиковъ, поклонясь.
Между тѣмъ богачъ Крюковъ, съ торжественнымъ лицемъ, гордо поглядывалъ на толпившихся около него людей разнаго званія и принималъ поздравленія съ лестною покупкою. А Никитинъ, Никитинъ! Что онъ тогда чувствовалъ? Всякій легко вообразитъ это, поставивъ себя на его мѣсто.
«Подойди-ка, братъ Семенъ, ко мнѣ!» сказалъ Монархъ подрядчику. «Спасибо! Изъ любви ко мнѣ ты сдѣлалъ то, что въ иностранныхъ, просвѣщенныхъ Государствахъ дѣлается изъ любви къ изящнымъ художествамъ. При помощи Божіей и въ моемъ Царствѣ будетъ со временемъ то же. Все таки спасибо тебѣ! Я тебя не забуду!»
Царь поцѣловалъ Крюкова въ лобъ и потрепалъ по плечу. Подрядчикъ чувствовалъ себя на седьмомъ небѣ отъ восторга.
«Въ награду за твой поступокъ прикажу назвать каналъ, который ты вырылъ здѣсь въ Петербургѣ, твоимъ именемъ12. Доволенъ ли ты?»
«Я и такъ осыпанъ милостями Вашего Величества. Не за что награждать меня! Что мнѣ пять тысячъ! Тоже, что иному пятакъ!»
«Ну что, Никитинъ?» продолжалъ Царь, обратясь къ живописцу. «Оставишь ты свое искусство, или будешь и впередъ писать?»
Никитинъ снова бросился къ ногамъ Государя. Благодарность и любовь къ нему, достигнувъ безпредѣльности, не могли вмѣщаться въ одномъ сердцѣ. Въ лицѣ, въ глазахъ, во всѣхъ движеніяхъ видно было стремленіе этихъ чувствъ наружу. Онъ весь былъ живой, изящной эмблемой любви и благодарности.
Монархъ, выйдя изъ залы, спустился съ лѣстницы, сѣлъ въ небольшія сани, и поѣхалъ по Невскому льду къ своему любимому дворцу — маленькой хижинѣ, до сихъ поръ стоящей на берегу и напоминающей славу великаго человѣка потомству краснорѣчивѣе всякаго мавзолея.
На другой день рано утромъ, Никитинъ, внеся въ Ратушу весь долгъ Воробьева Шубину, исходатайствовалъ указъ объ освобожденіи его изъ острога и побѣжалъ къ старостѣ Гусеву. Прочитавъ поданную Никитинымъ бумагу, Гусевъ всталъ со стула отъ удивленія, и съ примѣтною досадой спросилъ: «Кто жъ это заплатилъ за него деньги?»
«Я далъ слово этого не сказывать», отвѣчалъ Никитинъ. «Этотъ человѣкъ желаетъ остаться неизвѣстнымъ. Внесъ деньги въ Ратушу я, по его порученію».
«Видно у него много лишнихъ денегъ!»
«Сдѣлай милость, пойдемъ же скорѣе, Спиридонъ Степановичъ, къ острогу».
«Мнѣ еще недосугъ теперь. Оставь указъ у меня. Я его исполню, какъ слѣдуетъ, въ свое время».
«И тебѣ не грѣшно медлить, когда отъ тебя зависитъ теперь же обрадовать несчастнаго, который такъ давно томится въ острогѣ!»
«Молоденекъ еще ты меня учить! Я знаю, что дѣлаю!»
«Я учить никого не намѣренъ, а скажу только, что если ты не пойдешь сейчасъ же со мною, то я съ указомъ побѣгу прямо къ Антону Мануиловичу13, а въ случаѣ нужды къ самому Царю».
Испуганный этою угрозою, староста, ворча что-то сквозь зубы, схватилъ съ досадою шляпу, надѣлъ шубу и пошелъ съ Никитинымъ къ острогу. Вскорѣ приблизились они къ Губернской Канцеляріи, отыскали смотрителя острога, и староста, приказавъ ему освободить Воробьева, не взялъ, а вырвалъ изъ рукъ Никитина указъ, спряталъ въ карманъ и пошелъ поспѣшно домой. Если бы всѣ роптанія и разнообразныя ругательства, которыя онъ на возвратномъ пути произнесъ вполголоса, какимъ-нибудь волшебствомъ превращались въ цвѣты, то вся дорога отъ Губернской Канцеляріи до жилища старосты была бы усѣяна самыми пестрыми цвѣтами, особенно же увядшими колокольчиками, которые изобразили бы исчезнувшую надежду на звонкія монеты, обѣщанныя Шубинымъ старостѣ за свадьбу съ Маріею. Эта исчезнувшая надежда служила средоточіемъ всѣхъ морщинъ на гнѣвномъ и лысомъ челѣ старосты, и уподоблялась драгоцѣнности, уроненной въ воду и произведшей на ея поверхности множество расходящихся во всѣ стороны круговъ, которые бываютъ весьма похожи на морщины, происходящія отъ гнѣва и досады.
Не таковы морщины, производимыя долговременными горестями и страданіями. Не скоро онѣ изчезаютъ! Онѣ не перемѣнились на блѣдномъ лицѣ Воробьева, когда онъ, выйдя изъ острога, радостно бросился въ объятія Никитина. Долго обнимались они, не говоря ни слова.
«Неужто я на волѣ?» воскликнулъ наконецъ старикъ. «Развѣ долгъ мой уплаченъ?»
«Весь уплаченъ!»
«Кѣмъ? Скажи, ради Бога!»
«Не знаю. Деньги были присланы ко мнѣ отъ неизвѣстнаго».
Старикъ поднялъ руки къ небу, и слезы, бѣжавшія изъ глазъ его, свидѣтельствовали, что онъ молился за своего благотворителя.
Вскорѣ подошли они къ дому, котораго такъ уже давно не видалъ его хозяинъ. Воробьевъ снова заплакалъ, увидя свое жилище, какъ будто при неожиданномъ свиданіи съ искреннимъ другомъ, навсегда разлучившимся. Не смотря на слабость старика, происходившую и отъ лѣтъ и отъ страданій въ заточеніи, онъ взбѣжалъ на крыльцо, какъ юноша, чѣмъ-нибудь восхищенный, и вмѣстѣ съ Никитинымъ вошелъ въ комнаты.
Раздалось восклицаніе: «Батюшка! Любезный батюшка!» и Марія, внѣ себя отъ восторга, была уже въ объятіяхъ своего воспитателя, цѣловала его руки и отирала поцѣлуями слезы умиленія, катившіяся по блѣднымъ щекамъ старика. Онъ крѣпко прижималъ ее къ своему сердцу.
Женихъ Маріи, Шубинъ, бывшій также въ комнатѣ, едва вѣрилъ глазамъ своимъ. Вскочивъ со стула, при входѣ Воробьева въ комнату, онъ съ трудомъ удержался на ногахъ, и, схватясь одною рукою за спинку стула, другою стиснулъ свой подбородокъ, какъ будто для того, чтобъ удержать голову и не допустить ее совсѣмъ спрятаться между поднявшихся отъ испуга и удивленія плечъ. Довольно долго пробылъ онъ въ этомъ положеніи, не зная, что ему дѣлать и что говорить.
«Ты можешь, Карпъ Силычъ», сказалъ ему Никитинъ, «теперь же идти въ Ратушу и получить свои деньги».
«Самъ ихъ возьми!» проворчалъ Шубинъ, посмотрѣвъ на живописца, какъ голодная собака, у которой отняли кость.
«Здравствуй, Карпъ Силычъ!» сказалъ Воробьевъ, увидѣвъ Шубина, котораго прежде и не замѣтилъ. «Много отъ тебя я горя перенесъ! Впрочемъ не виню тебя. Ты взыскивалъ свои деньги. Покойный батюшка твой такъ бы не поступилъ, однакожъ. Добрый былъ человѣкъ! Онъ вѣрно бы далъ мнѣ время поправиться».
«И я безъ крайней нужды не сталъ бы съ тебя долга взыскивать. Прости меня великодушно, Илья Ѳомичъ».
«Богъ тебя проститъ! Да скажи, пожалуй, какими судьбами ты въ моемъ домѣ очутился?»
«Я… я нареченный женихъ Марьи Павловны. Въ будущую Среду назначена свадьба. Мы ужъ кольцами помѣнялись. Я не принуждалъ ее. Присягну въ этомъ. Спроси ее, если не вѣришь».
«Какъ, Машенька? Неужели ты противъ моей воли…»
«Да, батюшка!» прервала Марія. «Для твоего спасенія, я рѣшилась собой пожертвовать».
Тронутый старикъ снова прижалъ ее къ сердцу и продолжалъ: «Ты вѣрно не захочешь идти къ вѣнцу безъ моего благословенія? Вотъ женихъ твой, котораго ты любишь, съ которымъ будешь счастлива. Я васъ благословилъ и теперь снова благословляю. Сюда, Павелъ Павлычъ, сюда! Дай прижать себя къ сердцу. Вотъ тебѣ рука моей Машеньки?»
«Не позволю этого, не допущу!» закричалъ Шубинъ, поблѣднѣвъ отъ досады. «На что это похоже! Она мнѣ слово дала! Ее не обвѣнчаютъ! Я не допущу!»
«Не сердись, Карпъ Силычъ!» сказалъ спокойно Воробьевъ. «Не велико было бъ счастье твое и Маши, когда бы ее обвѣнчали съ тобою противъ ея склонности! Притомъ, еслибъ ты или я, напримѣръ… о чемъ бишь я заговорилъ?»
«Да ужъ не бывать ей ни за кѣмъ другимъ!» кричалъ Шубинъ, выбѣгая изъ комнаты. «Я подамъ прошеніе, буду жаловаться! Ужъ поставлю на своемъ! Десяти тысячъ не пожалѣю!»
Онъ вбѣжалъ къ старостѣ Гусеву въ такомъ разстроенномъ видѣ, какъ будто бы спасался отъ гнавшагося за нимъ по пятамъ бѣшенаго волка.
«Что съ тобой сдѣлалось?» вскричалъ староста, поднявшись со стула и снявъ съ головы колпакъ.
«Помоги, Спиридонъ Степанычъ! Двѣ тысячи, три дамъ, только помоги!»
«Да въ чемъ дѣло?»
Карпъ Силычъ объяснился, и началось между ними совѣщаніе, какъ помѣшать браку Никитина.
Часто посѣщая Марію и по праву жениха бродя по всѣмъ горницамъ, Шубинъ съ удивленіемъ увидѣлъ однажды стоявшій на прежнемъ мѣстѣ черный ящикъ, отнятый у нихъ, по его убѣжденію, злымъ духомъ.
Во время совѣщанія онъ сообщилъ старостѣ свое открытіе, которое до того времени хранилъ въ тайнѣ.
«Точно ли ты увѣренъ, что это тотъ самый ящикъ?» спросилъ Гусевъ.
«Тотъ самый. Я его осматривалъ».
«Теперь я понимаю», продолжалъ староста, «откуда Никитинъ взялъ деньги на уплату тебѣ долга. Онъ закабалилъ себя лукавому и досталъ золото, котораго мы искали. Пусть его себя губитъ! Таковской!»
«Да какъ же онъ могъ достать золото безъ ящика? Я разспрашивалъ работницу Марьи Павловны и узналъ, что ящикъ давно ужъ у нея стоялъ на столикѣ, а кто ей принесъ — неизвѣстно. Никитинъ ни разу у нея не бывалъ съ тѣхъ поръ, какъ я сосватался, и она ни разу съ нимъ не видалась. Работница за нею подглядывала денно и нощно. Я ей за это двадцать рублей заплатилъ».
«Что жъ! Можетъ быть, ящикъ пустой, а бумаги у Никитина. Послушай, Карпъ Силычъ! Точно ли дашь три тысячи, если я улажу твою свадьбу?»
«Помоги только! Въ долгу не останусь».
«По рукамъ! Я знатно придумалъ».
Позвавъ брата своего, Спиридонъ Степановичъ поручилъ ему написать донесеніе Генералъ-Полицеймейстеру Девьеру. Когда тотъ кончилъ бумагу, староста прочиталъ ее вслухъ. Она содержала въ себѣ слѣдующее:
«Господину Санктпетербургскому Генералу-полиціймейстеру
Троицкой площади, что на Санктпетербургскомъ островѣ, Старосты Спиридона Степанова сына Гусева
ДОНОШЕНІЕ.
Понеже надлежитъ мнѣ, старостѣ, о всякихъ дѣлахъ, въ коихъ касательство есть до важныхъ интересовъ, такъ о всякихъ куріозныхъ необыкновенностяхъ аккуратно репортовать Ваше Высокоблагоурожденное Генеральство, того для со всякимъ поспѣшеніемъ доношеніе учинить имѣю безъ всякаго нападка, страсти, лжи и затѣванія о нижеслѣдующемъ. Вѣдомо мнѣ учинилось, что у здѣшняго рядового купца14 Иліи Воробьева проживаетъ Свейскаго дворянина дочь Марья, у которой въ секретномъ храненіи пребывалъ нѣкакій ящикъ чернаго дерева и невеликой фигуры. По зрѣлой рефлекціи возымѣвъ подозрѣніе въ чернокнижествѣ, имѣлъ я неослабное надзираніе и чрезъ агента моего тотъ ящикъ досталъ для обслѣдованія. Въ ономъ объявились двѣ бумаги съ чернокнижественною инструкціею, какъ золото доставать и нѣкакій чудный камень, силу медикамента противъ всякаго недуга имѣющій, получить. Въ силу сей инструкціи слѣдовало идти въ нощное время на Каменный Островъ, что въ дачѣ Господина Канцлера Графа Головкина, отыскать камень съ надписаніемъ Свейскаго слова, такожде яму съ чернокнижественнымъ золотомъ и таковымъ же камнемъ. Надлежало для споможенія къ таковому дѣлу нѣкоего духа призвать. Не щадя живота своего въ толико интересномъ обстоятельствѣ, упросилъ я брата моего Александра да купецкаго сына Карпа Шубина, идти вмѣстѣ на такой кондиціи, чтобы обслѣдованіе учинить при нихъ двухъ свидѣтеляхъ, какъ регламенты повелѣваютъ. Пришелъ къ ямѣ, разрыли оную; нечистая же сила помѣшательство учинила, отнявъ у насъ ящикъ и прогнавъ насъ зѣло ужаснымъ устрашеніемъ отъ ямы такъ, что живота едва не лишены были. Нынѣ же извѣстно учинилось, что реченный ящикъ доставленъ обратно нечистою силою той же Свейской дворянской дочери Марьѣ, а полюбовникъ оной, живописнаго дѣла мастеръ Павелъ Никитинъ, въ сильномъ подозрѣніи обрѣтается въ дѣланіи воровскихъ денегъ изъ чернокнижественнаго золота, и въ томъ при разспросѣ легко уличенъ быть можетъ. Во всемъ ономъ, какъ я, староста, такъ вышеобъявленные два свидѣтеля подъ присягою неложное показаніе, какъ надлежитъ, учинить весьма обязуемся. И о томъ о всемъ репортуя симъ доношеніемъ, прошу у Нашего Высокоблагоурожденнаго Генеральства резолюціи о взятьѣ въ Синявинъ баталіонъ15, или хотя въ острогъ той Свейской дворянской дочери и съ полюбовникомъ, для обслѣдованія, дабы по суду возможно было указъ учинить, кто чему будетъ достоинъ».
Староста подписалъ бумагу. «Теперь они запляшутъ по нашей дудкѣ!» сказалъ онъ, потирая руки. «Я пугну этимъ доношеніемъ Воробьева и принужу его выдать за тебя его воспитанницу. Ты вѣдь согласишься, братъ, и и ты, Карпъ Силычъ, присягнуть, въ случаѣ нужды, въ томъ, что ящикъ отняла у насъ нечистая сила?»
«Въ правдѣ почему не присягнуть!» отвѣчалъ братъ.
«Присягну и я», сказалъ Шубинъ, только боюсь погубить мою невѣсту. Въ бумагѣ-то много и на ея голову написано!»
«Положись ужъ на меня. Она легко оправдается. Обслѣдованіе буду производить я, если дойдетъ до того. Одного Никитина спутаемъ. Онъ ужъ не отвертится. Тогда я легко уговорю его принять всю вину на одного себя и очистить на судѣ Марью Павловну. Ее освободятъ, а его казнятъ. А впрочемъ, Воробьевъ, вѣрно, согласится безъ всякихъ хлопотъ на твою свадьбу».
Шубинъ бросился цѣловать старосту, и тотъ къ вечеру того же дня пошелъ къ Воробьеву. Прочитанное донесеніе сильно испугало его и смутило; но когда староста объявилъ условіе, на которомъ онъ соглашался замять все это дѣло, то Воробьевъ рѣшительно сказалъ, что онъ во всемъ этомъ видитъ однѣ новыя козни, полагается на Царское правосудіе и слышать ни о чемъ не хочетъ.
Въ первомъ пылу досады, произшедшей отъ обманутаго ожиданія, Гусевъ пошелъ прямо къ Генералъ-Полицеймейстеру и подалъ ему свое донесеніе.
Девьеръ, родомъ Португалецъ, былъ мужчина высокаго роста и пріятной наружности. Хотя проницательные, черные глаза, того же цвѣта волосы и смуглый цвѣтъ лица обличали въ немъ уроженца страны южной, но, давно живя въ Россіи, онъ совершенно обрусѣлъ и по языку и по характеру.
«Что за странность!» воскликнулъ онъ, прочитавъ донесеніе старосты. «Неужели ты и два свидѣтеля утвердите присягою то, что здѣсь написано?»
«Хоть въ Троицкомъ Соборѣ, при колокольномъ звонѣ!»
«Надобно это дѣло хорошенько изслѣдовать. Или васъ обманули, или вы обманываетесь, или меня обманываютъ».
«Помилуйте, Ваше Генеральство! Я, кажется, никогда не подавалъ милости вашей необстоятельныхъ доношеній. Прикажите произвесть обслѣдованіе, такъ все выйдетъ наружу».
«Хорошо, я согласенъ! Отбери допросы, и завтра мнѣ обо всемъ донеси. Только смотри, чтобы все было сдѣлано согласно съ закономъ и совѣстью».
Сказавъ это, Девьеръ, торопившійся куда-то ѣхать, вышелъ.
«Ладно!» ворчалъ староста, выйдя на улицу и поспѣшая къ своему дому. «Согласно съ закономъ и совѣстью! Гм! Благо велѣлъ начать обслѣдованіе, а ужъ все будетъ сдѣлано, какъ слѣдуетъ. Все слажу такъ, что ни закону, ни совѣсти не къ чему будетъ придраться!»
На другой день, утромъ, взявъ съ собой четырехъ десятниковъ, вооруженныхъ дубинами, пошелъ онъ къ дому Воробьева. Марія принуждена была отдать ему свой ящикъ, хотя со слезами просила не отнимать у нея единственной вещи, оставшейся послѣ отца.
Гусевъ вышелъ уже на крыльцо, въ намѣреніи отправиться къ Никитину, чтобы взять его подъ стражу, и встрѣтилъ живописца, который спѣшилъ къ своей невѣстѣ.
«Стой, любезный!» воскликнулъ староста. «Схватите-ка его, ребята, и ведите за мной! Хе, хе, хе! Шелъ къ невѣстѣ, а очутишься въ другомъ мѣстѣ!»
Марія изъ окна увидѣла, какъ десятники связали жениха ея и потащили вслѣдъ за старостою. Старикъ Воробьевъ еще наканунѣ разсказалъ ей о замыслахъ Гусева. Кровь бросилась ей въ лице отъ негодованія.
«Куда ты, куда, Машенька?» закричалъ Воробьевъ, видя, что она бѣжитъ изъ горницы.
«Сейчасъ возвращусь, батюшка!» отвѣчала Марія и скрылась.
Зная, что Царь, послѣ засѣданія въ Сенатѣ, (который помѣщался въ зданіи Коллегій на Троицкой площади), почти каждый день заходилъ съ приближенными вельможами въ австерію, она пошла прямо къ этому домику, и въ ожиданіи Государя сѣла на деревянную скамью, подъ высокую сосну, которая росла на лугу не подалеку отъ австеріи, подлѣ кронверка крѣпости. на Веселомъ Островѣ и на берегу острова Санктпетербургскаго, при заложеніи города, весь лѣсъ былъ вырубленъ, за исключеніемъ трехъ сосенъ, которыя Петръ Великій велѣлъ оставить для будущихъ жителей Петербурга въ память того, что тамъ, гдѣ видятъ они городъ, былъ прежде лѣсъ. Одна изъ этихъ сосенъ стояла у Соборной церкви, въ крѣпости, другая на лугу противъ нынѣшняго Сытнаго рынка, а третья, какъ сказано выше, близъ кронверка.
Взоръ Маріи устремлялся то на Коллегіи, то на австерію. Каждый прохожій высокаго роста, появлявшійся на Троицкой площади, возбуждалъ ея вниманіе. Съ сильнымъ біеніемъ сердца ожидала она появленія Государя. Наконецъ, увидѣвъ вдали Царя, шедшаго по площади къ австеріи съ Княземъ Меншиковымъ, Адмираломъ Апраксинымъ и нѣкоторыми другими вельможами, Марія быстро пошла ему на встрѣчу.
«Защити, Государь, спаси насъ!» воскликнула она, бросясь передъ Петромъ на колѣна.
«Здѣсь не мѣсто просить меня, душенька!» сказалъ Государь, взявъ за руки Марію и поднявъ ее съ земли. «Поди къ моему старому дворцу и тамъ меня дожидайся. Я сейчасъ туда буду и разспрошу тебя о твоемъ дѣлѣ».
Сказавъ это, Монархъ вошелъ въ австерію съ вельможами, а Марія тихими шагами приблизилась къ домику Петра Великаго. Черезъ нѣсколько времени явился и Царь въ сопровожденіи одного деньщика, отперъ низкую дверь своего дворца и, нагнувшись, вошелъ въ домикъ, давъ знакъ рукою Маріи за нимъ послѣдовать. Изъ прихожей вошелъ онъ направо въ большую комнату, которая сначала была залою, а потомъ обращена была въ кабинетъ, когда постояннымъ жилищемъ Царя сдѣлался дворецъ въ Лѣтнемъ саду. Для небывавшихъ въ домикѣ Петра Великаго не излишне замѣтить, что эта зала не отличается обширностію, хотя она и превосходитъ величиною обѣ остальныя комнаты этого единственнаго въ мірѣ дворца. Ширина ея — семь шаговъ, длина — столько же. И это небольшое пространство стѣснялось еще голландскою печью, нагрѣвавшею весь дворецъ. У кого въ домѣ есть зала хотя на одинъ шагъ длиннѣе этой, и на одинъ грошъ гдѣ-нибудь позолочена, тотъ можетъ смѣло похвалиться, что домъ его великолѣпнѣе Царскихъ чертоговъ. Въ залѣ всего три окна: одно обращено на Югъ, другое на Западъ, третье на Сѣверъ; они закрывались на ночь ставнями. Каждое изъ нихъ занимаетъ гораздо болѣе пространства въ ширину, нежели въ вышину. У южнаго окна стоялъ столъ съ разложенными на немъ бумагами, планами, чертежами и математическими инструментами. Стеклянная чернилица, представлявшая корабль, блестѣла посрединѣ стола, только вмѣсто парусовъ бѣлѣлось на ней нѣсколько перьевъ. Въ одномъ углу висѣлъ небольшой образъ Св. Апостоловъ Петра и Павла, въ другомъ помѣщался токарный станокъ. Къ окну, обращенному на западъ, придвинутъ былъ узкій и длинный столикъ, на которомъ были разставлены сдѣланныя изъ дерева модели кораблей, галеръ, фрегатовъ и другихъ судовъ.
Войдя въ этотъ кабинетъ, Царь снялъ съ себя шубу, повѣсилъ ее на гвоздь, прибитый въ углу, и передвинулъ отъ стѣны къ столу деревянный стулъ съ рѣзною, высокою спинкой и съ подушкою изъ черной кожи. Сѣвъ передъ столомъ, подозвалъ онъ къ себѣ Марію, которая свою теплую епанчу положила на полъ въ прихожей, потому что деньщикъ сѣлъ на скамейку, тамъ стоявшую, и на ней для епанчи нисколько не осталось мѣста. Ласково разспросивъ Марію объ ея дѣлѣ, Царь продолжалъ: «Я вижу, что отецъ твой вѣрилъ Алхиміи и занимался ею. Винить его за это нельзя: въ Швеціи, какъ мнѣ извѣстно, до сихъ поръ многіе занимаются этою наукою. Они нисколько не хотятъ обманывать другихъ, а сами себя обманываютъ. Было время, что въ самыхъ просвѣщенныхъ государствахъ умнѣйшіе люди ревностно трудились надъ алхимическими опытами. И такъ, будь спокойна. За то, что отецъ твой заблуждался, ты отвѣчать не будешь. Но скажи, почему замѣшался въ это дѣло Никитинъ?»
Этотъ вопросъ привелъ Марію въ сильное смущеніе. Потупивъ прекрасные глаза, она перебирала рукою свой тафтяный передникъ и не говорила ни слова. Щеки ея, разкраснѣвшіяся отъ мороза и едва успѣвшія во время разговора съ Царемъ принять ихъ обыкновенный цвѣтъ, снова разкраснѣлись пуще прежняго; а такъ какъ Философы утверждаютъ, что одно и то же дѣйствіе производится одною и тою же причиною, то должно согласиться, что морозъ и стыдъ — одно и тоже. Поэтому, отброся всѣ старыя опредѣленія стыда, слѣдуетъ его признать внутреннимъ морозомъ, умѣряющимъ жаръ любви и другихъ сильныхъ страстей.
«Что жъ ты ничего не отвѣчаешь?» сказалъ Царь, пристально посмотрѣвъ на Марію.
«Ваше величество! Онъ… женихъ мой!» отвѣчала дѣвушка такимъ голосомъ, какъ будто бы просила помилованія въ важномъ преступленіи.
«Женихъ? Вотъ что!» продолжалъ Монархъ, улыбнувшись. «Поздравляю тебя! Ай да Никитинъ! Не даромъ онъ живописи учился. Въ картинахъ и не въ картинахъ умѣетъ оцѣнитъ красоту. Ступай теперь съ Богомъ домой и, повторяю, будь спокойна. Я поговорю съ Девьеромъ о твоемъ дѣлѣ и просьбы твоей не забуду».
Марія удалилась, а Царь, вынувъ изъ кармана книжку, написалъ: О дѣвицѣ16. Петръ Великій всегда носилъ съ собою небольшую книжку и записывалъ въ ней дѣла, обращавшія на себя особенное его вниманіе, или означалъ краткими намеками предначертанія, представлявшіяся ему при безпрерывныхъ думахъ о благѣ поданныхъ.
Прошло нѣсколько дней. Никитинъ не возвращался изъ острога. Съ каждымъ часомъ усиливалось безпокойство Маріи и старика Воробьева.
«Его Царское Величество забылъ твою просьбу, Машенька!» говорилъ послѣдній со вздохомъ. «Не одно наше дѣло у него на умѣ: всего ему, отцу нашему, не упомнить! Или не наговорили ль ему лиходѣи на насъ не вѣсть что! Погубятъ насъ, безсовѣстные!»
«Не безпокойся, любезный батюшка! Невиннымъ нечего бояться!» возразила Марія, хотя внутренно еще болѣе своего воспитателя опасалась хитраго старосты.
«Быть худу! Сердце мое чувствуетъ!» продолжалъ старикъ. «За себя-то я не боюсь; за тебя мнѣ страшно, Машенька. Если староста подалъ начальству доношеніе, которое онъ мнѣ читалъ, — тебя засудятъ! Какъ оправдаешься? Два свидѣтеля готовы присягнуть. Павелъ Павлычъ, конечно, станетъ говорить, что напугалъ дураковъ-то онъ и ящикъ тебѣ досталъ, да ему не повѣрятъ. Скажутъ, что изъ любви онъ тебя защищаетъ. Притомъ его и самого обвиняютъ въ чернокнижествѣ. Бѣда, со всѣхъ сторонъ бѣда! Охъ этотъ ящикъ твой! Не даромъ мнѣ всегда на него глядѣть было страшно! Я бы никакъ, если бы знать да вѣдать… о чемъ бишь я заговорилъ?… Чу! Кто-то подъѣхалъ къ крыльцу. Взгляни-ка въ окно. Охъ мои батюшки!»
Марія не успѣла еще отдернуть тафтяную занавѣску, висѣвшую на окнѣ, когда Девьеръ вошелъ въ комнату.
«Ты ли купецъ Воробьевъ?» спросилъ онъ.
«Точно такъ, батюшка!» отвѣчалъ старикъ, низко поклонясь.
«А эта дѣвушка, вѣрно твоя воспитанница?»
«Точно такъ, батюшка!» повторилъ Воробьевъ дрожащимъ голосомъ.
Девьеръ, посмотрѣлъ пристально на Марію, вынулъ изъ кармана ящикъ ея и поставилъ на столъ. Молчаніе и суровый видъ Генералъ-Полицеймейстера смутили дѣвушку. Она перемѣнилась въ лицѣ.
«Мнѣ некого послать за старостою. Я пріѣхалъ сюда одинъ», продолжалъ Девьеръ, обратясь къ Воробьеву. «Онъ не далеко живетъ отсюда. Пошли кого-нибудь за нимъ и вели сказать, чтобъ онъ пришелъ сюда».
«Слушаю, батюшка!»
Съ сердцемъ, нывшимъ отъ безпокойства, побѣжалъ Воробьевъ въ поварню и отправилъ свою работницу за старостою, у котораго сидѣлъ въ это время Шубинъ.
«Что это значитъ?» воскликнулъ Спиридонъ Степановичъ, когда явилась къ нему работница Воробьева. «Кто послалъ тебя?»
«Самъ хозяинъ послалъ».
«Что ему надобно?»
«Не вѣдаю, кормилецъ! Выбѣжалъ въ поварню, словно полоумный, и промолвилъ только: бѣги скорѣй за Спиридономъ Степанычемъ!»
«Хорошо! Скажи, что буду».
Когда работница ушла, то Гусевъ продолжалъ: «Ага! знать одумался! Вѣрно хочетъ согласиться на твою свадьбу. Пойдемъ-ка къ нему вмѣстѣ, Карпъ Силычъ! Трусость видно на него напала. Надобно этимъ часомъ пользоваться. Кстати, ты у меня случился. Пойдемъ скорѣе, ударимъ съ нимъ по рукамъ, и дѣло въ шляпѣ!» Вскорѣ подошли они къ дому Воробьева. При входѣ въ комнату староста изумился, увидѣвъ Девьера.
«По твоему донесенію Его Величество повелѣлъ мнѣ самому произвести изслѣдованіе», сказалъ генералъ-полицеймейстеръ. Подтверждаешь ли ты и теперь, что написалъ?»
«Подтверждаю! Какую угодно присягу приму, и не я одинъ, а еще два свидѣтеля. Вотъ одинъ изъ нихъ здѣсь, на лице. Это купеческій сынъ Шубинъ».
«Присягнешь ты?» спросилъ Денверъ.
«Хоть десять разъ сряду. Все буду стоять въ одномъ и томъ же».
«Въ чемъ же?»
«А въ томъ, что нечистый духъ — наше мѣсто свято! — отнялъ у насъ вотъ этотъ ящикъ, и что мы трое со страху чуть живы остались».
«Хорошо!» сказалъ Девьеръ. «Я сейчасъ возвращусь».
Черезъ нѣсколько минутъ ввелъ онъ въ комнату Никитина.
«Разскажи, какъ ты напугалъ старосту на Каменномъ Островѣ».
Никитинъ началъ подробный разсказъ о томъ, что уже извѣстно читателямъ.
«Что вы на это скажете?» продолжалъ Девьеръ.
«Онъ все это выдумалъ, Ваше Генеральство!» сказалъ староста. «Притомъ свидѣтелемъ въ собственномъ дѣлѣ быть нельзя. Законъ это воспрещаетъ».
«Справедливо; но три свидѣтеля докажутъ, что Никитинъ точно на Каменномъ Островѣ былъ, когда вы искали клада. Не отнялъ ли еще чего-нибудь у васъ нечистый духъ, кромѣ ящика?»
Староста, упомянувъ въ донесеніи объ одномъ ящикѣ, приведенъ былъ въ смущеніе этимъ вопросомъ, а Шубинъ, видя, что онъ молчитъ, началъ говорить:
«Нечистый отнялъ у насъ еще лодку, ружье, заступъ, да старую шляпу Спиридона Степаныча. Ружье и заступъ подкинулъ онъ на дворъ, и мы бросили ихъ въ воду, а лодка и шляпа остались у него».
«Представь, Никитинъ, свидѣтеля».
Живописецъ, выйдя въ сѣни, принесъ старую шляпу старосты, потерянную имъ во время бѣгства отъ ямы.
«А другой свидѣтель», продолжалъ Девьеръ: «лодка, которую вы наняли у рыбака. Онъ случайно отыскалъ ее у берега Крестовскаго Острова. Эти два свидѣтеля подтверждаютъ, что нечистый духъ во всемъ этомъ дѣлѣ принималъ столько же участія, сколько вонъ этотъ чистенькій Чухонецъ, который везетъ теперь мимо дома возъ угольевъ».
«Нѣтъ, Ваше Генеральство!» возразилъ Шубинъ. «Коли нечистая сила отдала ящикъ Никитину, такъ вѣстимо, что и шляпу и лодку она же ему доставила».
«Положимъ такъ; но что ты скажешь противъ третьяго свидѣтеля, рыбака? Онъ показываетъ, что Никитинъ вслѣдъ за вами также нанялъ у него лодку и поѣхалъ на Каменный Островъ».
Шубинъ, не зная, что отвѣчать, поглядывалъ на старосту.
«И такъ изслѣдованіе кончено. Впрочемъ, и нужды въ немъ не было. Я для того только допрашивалъ, чтобъ вы увѣрились, что не сила нечистая, а Никитинъ напугалъ васъ, и по дѣломъ. Безъ того вы стали бы разглашать въ народѣ небылицу и утверждать его въ суевѣріи. Теперь, надѣюсь, вы будете умнѣе. Его Величество рѣшилъ ваше дѣло», продолжалъ онъ, обратясь къ Никитину и Маріи. «Вотъ что. Онъ изволилъ написать на моемъ донесеніи: — старостѣ съ двумя свидѣтелями сказать дурака, и ихъ вразумить, чтобъ они впредь умнѣе были и особенно въ народѣ небылицъ не разглашали; а если былъ у нихъ какой злой умыселъ, то оштрафовать. Старосту, яко неспособнаго, отставить и выбрать на его мѣсто другаго благонадежнаго человѣка. Никитина не медля изъ острога освободить, а его невѣстѣ отдать ящикъ».
Староста и Шубинъ, повѣся голову, вышли. Носились два слуха: одинъ, что они разошлись въ разныя стороны по выходѣ изъ дома Воробьева, а другой, что они въ досадѣ разбранились на улицѣ и, для утѣшенія себя, поколотили другъ друга, желая надъ кѣмъ-нибудь вымѣстить свое горе и неудачу.
«Это еще не все!» продолжалъ Девьеръ. «Открой, невѣста свой ящикъ».
Марія исполнила приказаніе и увидѣла, кромѣ завѣщанія отца и пергаментнаго свитка, еще что-то завернутое въ бумагѣ. Она развернула ее, по приказанію Девьера, и серебряные рубли посыпались на полъ.
«Это Царь пожаловалъ тебѣ на приданое», продолжалъ Девьеръ. «Когда я донесъ ему, что вы оба сироты, то онъ сказалъ, что будетъ вашимъ посаженымъ отцемъ и самъ пріѣдетъ къ вамъ на свадьбу. Желаю вамъ счастія! Прощайте!»
Девьеръ удалился. Старикъ Воробьевъ, бросясь на колѣна передъ образомъ, началъ со слезами молиться. За кого онъ молился — не нужно объяснять. Никитинъ прижалъ Марію къ сердцу. Оба плакали, упоенные счастіемъ.
Ящикъ, напоминавшій прежде Маріи раннюю потерю отца, сталъ съ тѣхъ поръ напоминать ей, что добрый и великодушный Царь замѣнилъ ея потерю. Съ тѣхъ поръ Никитинъ, каждый разъ, принимаясь за кисть, благословлялъ въ душѣ Державнаго покровителя искусствъ и просвѣщенія. Онъ дожилъ до учрежденія Академіи Художествъ въ славное царствованіе Императрицы Екатерины ІІ, тщательно возрощавшей въ отечествѣ нашемъ все посѣянное Великимъ ея предшественникомъ. Новые художники далеко опередили Никитина и почти вытѣснили съ поприща искусства. Кисть его вмѣстѣ съ нимъ устарѣла; но онъ не покидалъ ее, исполняя завѣтъ Царя и чтя его священную память. Въ глубокой старости жилъ онъ съ Маріею на Выборгской сторонѣ, въ небольшомъ домикѣ, съ двумя сыновьями, которые, посвятя себя Медицинѣ, содержали престарѣлыхъ родителей. Напрасно убѣждали они отца оставить кисть, замѣчая, что труды его даромъ пропадаютъ, а зрѣніе съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе слабѣетъ. «Нѣтъ, любезныя дѣти!» говорилъ старикъ. «Я обѣщалъ благодѣтелю моему Царю Петру Алексѣевичу не покидать живописи. Безъ него не прожилъ бы я съ моею старухою до сихъ поръ счастливо; давно бы, давно лежали мы оба въ землѣ сырой, а васъ бы и на свѣтѣ не было, любезныя дѣти!»
За нѣсколько дней до смерти, онъ все еще занимался живописью и дрожащею кистью усиливался изобразить черты Петра Великаго. Съ улыбкою, выражавшею состраданіе и умиленіе, смотрѣли сыновья на напрасныя усилія старца.
«Полно тебѣ, Павлычъ, себя понапрасну мучить!» сказала Марія, почтенная и сѣдая старушка. «Портретъ твой болѣе похожъ на меня, чѣмъ на Царя Петра Алексѣевича».
Старикъ глубоко вздохнулъ.
«Да, устарѣлъ я ужъ, Маша! Ничего почти не вижу. Однакожъ какъ-нибудь кончу этотъ портретъ. Пусть дѣти наши сохранятъ его. Ящикъ твой будетъ имъ напоминать, что мы были съ тобой сироты, и что Царь Петръ Алексѣевичъ былъ отцемъ и благодѣтелемъ нашимъ, а этотъ портретъ пусть имъ напоминаетъ, что до послѣднихъ дней жизни мы сохранили благодарность къ нашему благодѣтелю».
И старикъ снова принялся за работу.
КОНЕЦЪ.
Иванъ Никитичъ Никитинъ. (середина 1680-хъ годовъ – 1742), русскій художникъ, одинъ изъ основоположниковъ новой русской живописной школы, связанной съ реформами Петра I.

Иванъ Никитинъ

Иванъ Никитинъ

Иванъ Никитинъ
☆☆☆
-
Нынѣ на этомъ мѣстѣ Мраморный Дворецъ. ↩
-
Ljusteilande. ↩
-
Саксонскій. ↩
-
Въ 1718 году съ каждаго двора въ Петербургѣ назначенъ былъ караульщикъ. Они обязаны были прекращать на улицахъ драки, ловить воровъ, гасить пожары, ходить ночью по улицамъ съ трещотками, и вообще наблюдать за порядкомъ. Надъ десятью караульщиками начальствовалъ десятникъ, а при каждой слободѣ, площади или улицѣ опредѣлялся староста, который завѣдывалъ десятниками и доносилъ обо всемъ Генералъ–Полицеймейстеру. Караульщики, десятники и старосты избирались изъ городскихъ обывателей. ↩
-
Коллегіи эти состояли изъ шести двухэтажныхъ мазанокъ, съ кровлями, которыя почти равнялись вышиною самому зданію. Въ верхнемъ этажѣ каждой мазанки было четыре окна, въ низшемъ также четыре, но гораздо меньшаго размѣра, и дверь по срединѣ. Въ этомъ зданіи открыто въ 1718 году засѣданіе учрежденныхь Петромъ Великимъ Коллегій. Въ то же время туда переведенъ былъ Правительствующій Сенатъ, который съ 1711 года помѣщался въ деревянномъ одноэтажномъ зданіи (о десяти окнахъ, съ колоннами), находившемся въ С. Петербургской крѣпости. Каменныя Коллегіи, до сихъ поръ сохранившіяся на Васильевскомъ островѣ, заложены были при Петрѣ Великомъ въ 1722 году; но засѣданіе въ оныхъ открыто не прежде 1732 года, въ царствованіе Анны Іоанновны. ↩
-
Соборную церковь Св. Троицы построилъ Петръ Великій въ 1710 году, въ память заложенія Санктпетербурга, ибо городу сему положено было основаніе въ праздникъ Св. Троицы. Храмъ сей былъ очень не обширенъ; стѣна его со стороны Невы представляла только пять оконъ и одну дверь. Столько же оконъ было и въ противоположной стѣнѣ. Надъ церковью возвышались четвероугольная колокольня въ два яруса и другой небольшой шпицъ. Въ 1714 году пристроили къ храму большую трапезу и съ обѣихъ сторонъ по придѣлу, отъ чего зданіе получило крестообразный видъ. На колокольнѣ находились часы, привезенные, по приказанію Петра Великаго, изъ Москвы, съ Сухаревой башни, и висѣлъ примѣчательный колоколъ, взятый въ Або у Шведовъ. Петръ Великій принесъ въ даръ сему храму сдѣланныя имъ самимъ изъ кости паникадило и образъ Св. Апостола Андрея. Въ царствованіе Императрицы Елисаветы Петровны церковь сія за ветхостію была сломана и построена вновь въ 1746 году въ ея первобытномъ видѣ; но въ 1750 году она сгорѣла, и на томъ же мѣстѣ воздвигнута была церковь, перенесенная изъ Лѣтняго сада, та самая, которая и донынѣ сохранилась. ↩
-
Стокгольмъ. ↩
-
Это доказано новѣйшими Германскими писателями. ↩
-
Алхимисты называли адептами тѣхъ, которые, по мнѣнію ихъ, нашли философскій камень (Lapis Philosophorum). Камень этотъ также назывался у нихъ Menstruum universale. ↩
-
Она первоначально устроена была въ 1738 году, во время царствованія Анны Іоанновны, въ деревянномъ домѣ Коммисара Крѣпостной Конторы Ивана Трунилова; нынѣшнюю же заложили при Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, въ 1760 году. Вотъ отъ чего произошло сохранившееся до сихъ поръ названіе: въ Труниловѣ. ↩
-
Въ 1707 году опредѣленъ былъ Иванъ Ивановичъ Зарудневъ, лучшій изъ тогдашнихъ иконописцевъ, Суперъ–Интендентомъ, для надзора за своими собратіями. Въ 1722 году подтверждено было указомъ Синода и Сената, чтобы Зарудневъ надзиралъ за правильнымъ писаніемъ иконъ. ↩
-
Крюковъ каналъ, донынѣ сохранившій это названіе, оконченъ былъ въ 1717 году означеннымъ подрядчикомъ. ↩
-
Девіеръ, первый Санктпетербургскій Генералъ–Полицеймейстеръ, зять Князя Меншикова. ↩
-
Купцы, торговавшіе въ Гостинномъ дворѣ, назывались рядовыми. ↩
-
Синявинымъ баталіономъ назывались нѣсколько избъ на Выборгской сторонѣ противъ нынѣшнихъ Петровскихъ казармъ. Въ этихъ избахъ помѣщался баталіонъ Санктпетербургскаго гарнизона, состоявшій во времена Петра Великаго, въ вѣдѣніи Оберъ–Коммиссара и Директора надъ городскими строеніями, Синявина. Въ одной избѣ содержались государственные и другіе важные преступники. ↩
-
Эти слова и нынѣ можно видѣть въ одной изъ тринадцати сохранившихся запасныхъ книжекъ Петра Великаго. ↩
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.