Разсказы. Томъ ІІ
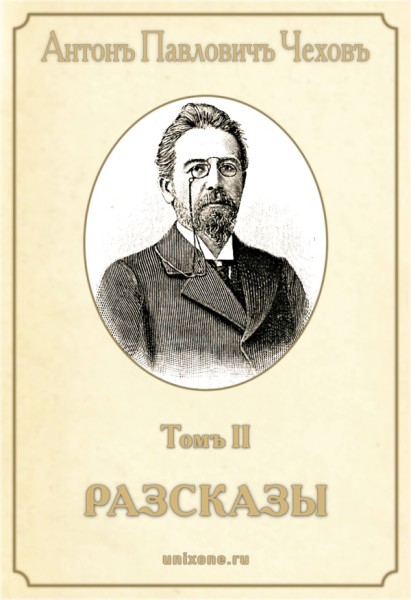
Содержаніе:
- Изъ записокъ вспыльчиваго человѣка.
- Тссс!…
- Месть.
- Длинный языкъ.
- Нервы.
- Кривое зеркало. Святочный разсказъ.
- На кладбищѣ.
- Сапоги.
- Радость.
- Умный дворникъ.
- Въ цирульнѣ.
- Сапожникъ и нечистая сила.
- Мальчики.
- Иванъ Матвѣичъ.
- Беззащитное существо.
- Дамы.
- Полинька.
- Приданое.
- Свадьба.
- Темнота.
- Мыслитель.
- Дочь Альбіона.
- На чужбинѣ.
- Кухарка женится.
- Шило въ мѣшкѣ.
- Драма.
- Произведеніе искусства.
- Орденъ.
- Смерть чиновника.
- Канитель.
- Хирургія.
- Винтъ.
- Капитанскій мундиръ.
- Живая хронологія.
- Восклицательный знакъ. Святочный разсказъ.
- Ну, публика!
- Пересолилъ.
- Налимъ.
- Хамелеонъ.
- Клевета.
- Шведская спичка. Уголовный разсказъ.
- Художество.
- Упразднили!
Изъ записокъ вспыльчиваго человѣка.
Я человѣкъ серьезный, и мой мозгъ имѣетъ направленіе философское. По профессіи я финансистъ, изучаю финансовое право и пишу диссертацію подъ заглавіемъ: «Прошедшее и будущее собачьяго налога». Согласитесь, что мнѣ рѣшительно нѣтъ никакого дѣла до дѣвицъ, романсовъ, луны и прочихъ глупостей.
Утро. Десять часовъ. Моя maman наливаетъ мнѣ стаканъ кофе. Я выпиваю и выхожу на балкончикъ, чтобы тотчасъ же приняться за диссертацію. Беру чистый листъ бумаги, макаю перо въ чернила и вывожу заглавіе: «Прошедшее и будущее собачьяго налога». Немного подумавъ, пишу: «Историческій обзоръ. Судя по нѣкоторымъ намекамъ, имѣющимся у Геродота и Ксенофонта, собачій налогъ ведетъ свое начало отъ…»
Но тутъ слышу въ высшей степени подозрительные шаги. Гляжу съ балкончика внизъ и вижу дѣвицу съ длиннымъ лицомъ и съ длинной таліей. Зовутъ ее, кажется, Наденька, или Варенька, что, впрочемъ, рѣшительно все равно. Она что-то ищетъ, дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ меня, и напѣваетъ:
Я прочитываю то, что написалъ, хочу продолжать, но тутъ дѣвица дѣлаетъ видъ, что замѣтила меня, и говоритъ печальнымъ голосомъ:
— Здравствуйте, Николай Андреичъ! Представьте, какое у меня несчастье! Вчера гуляла и потеряла больбошку съ браслета.
Перечитываю еще разъ начало своей диссертаціи, поправляю хвостикъ у буквы «б» и хочу продолжать, но дѣвица не унимается.
— Николай Андреичъ, — говоритъ она: — будьте любезны, проводите меня домой. У Карелиныхъ такая громадная собака, что я не рѣшаюсь идти одна.
Дѣлать нечего, кладу перо и схожу внизъ. Наденька, или Варенька, беретъ меня подъ руку, и мы направляемся къ ея дачѣ.
Когда на мою долю выпадаетъ обязанность ходить подъ руку съ дамой или дѣвицей, то почему-то всегда я чувствую себя крючкомъ, на который повѣсили большую шубу; Наденька же, или Варенька, натура, между нами говоря, страстная (дѣдъ ея былъ армянинъ), обладаетъ способностью нависать на вашу руку всею тяжестью своего тѣла и, какъ піявка, прижиматься къ боку. И такъ мы идемъ… Проходя мимо Карелиныхъ, я вижу большую собаку, которая напоминаетъ мнѣ о собачьемъ налогѣ. Я съ тоской вспоминаю о начатомъ трудѣ и вздыхаю.
— О чемъ вы вздыхаете? — спрашиваетъ Наденька, или Варенька, и испускаетъ сама вздохъ.
Тутъ я долженъ сдѣлать оговорку. Наденька, или Варенька (теперь я припоминаю, что ее зовутъ, кажется, Машенькой) откуда-то вообразила, что я въ нее влюбленъ, а потому считаетъ долгомъ человѣколюбія всегда глядѣть на меня съ состраданіемъ и лѣчить словесно мою душевную рану.
— Послушайте, — говоритъ она, останавливаясь: — я знаю, отчего вы вздыхаете. — Вы любите, да! Но прошу васъ именемъ нашей дружбы, вѣрьте, та дѣвушка, которую вы любите, глубоко уважаетъ васъ! За вашу любовь она не можетъ платить вамъ тѣмъ же, но виновата ли она, что сердце ея давно уже принадлежитъ другому?
Носъ Машеньки краснѣетъ и пухнетъ, глаза наливаются слезами; она, повидимому, ждетъ отъ меня отвѣта, но, къ счастью, мы уже пришли… На террасѣ сидитъ Машенькина maman, женщина добрая, но съ предразсудками; взглянувъ на взволнованное лицо дочери, она останавливаетъ на мнѣ долгій взглядъ и вздыхаетъ, какъ бы желая сказать: — «Ахъ, молодежь, даже скрыть не умѣете!» Кромѣ нея на террасѣ сидятъ нѣсколько разноцвѣтныхъ дѣвицъ и между ними мой сосѣдъ по дачѣ, отставной офицеръ, раненый въ послѣднюю войну въ лѣвый високъ и въ правое бедро. Этотъ несчастный, подобно мнѣ, задался цѣлью посвятить это лѣто литературному труду. Онъ пишетъ «Мемуары военнаго человѣка». Подобно мнѣ, онъ каждое утро принимается за свою почтенную работу, но едва только успѣетъ написать: «Я родился въ…», какъ подъ балкончикъ является какая-нибудь Варенька, или Машенька, и раненый рабъ Божій берется подъ стражу.
Всѣ сидящія на террасѣ чистятъ для варенья какую-то пошлую ягоду. Я раскланиваюсь и хочу уходить, но разноцвѣтныя дѣвицы съ визгомъ хватаютъ мою шляпу и требуютъ, чтобы я остался. Я сажусь. Мнѣ подаютъ тарелку съ ягодой и шпильку. Начинаю чистить.
Разноцвѣтныя дѣвицы говорятъ на тему о мужчинахъ. Такой-то хорошенькій, такой-то красивъ, но не симпатиченъ, третій некрасивъ, но симпатиченъ, четвертый былъ бы недуренъ, если бы его носъ не походилъ на наперстокъ и т. д.
— А вы, m-r Nicolas, — обращается ко мнѣ Варенькина maman: — некрасивы, но симпатичны… Въ вашемъ лицѣ что-то есть… Впрочемъ, — вздыхаетъ она: — въ мужчинѣ главное не красота, а умъ…
Дѣвицы вздыхаютъ и потупляютъ взоры… Онѣ тоже согласны, что въ мужчинѣ главное не красота, а умъ. Я косо поглядываю на себя въ зеркало, чтобы убѣдиться, насколько я симпатиченъ. Вижу косматую голову, косматую бороду, усы, брови, волосы на щекахъ, волосы подъ глазами — цѣлая роща, изъ которой на манеръ каланчи выглядываетъ мой солидный носъ. Хорошъ, нечего сказать!
— Впрочемъ, Nicolas, вы возьмете своими душевными качествами, — вздыхаетъ Наденькина maman, какъ бы подкрѣпляя какую-то свою тайную мысль.
А Наденька страдаетъ за меня, но въ то же время сознаніе, что противъ сидитъ влюбленный въ нее человѣкъ, доставляетъ ей, повидимому, величайшее наслажденіе. Покончивъ съ мужчинами, дѣвицы говорятъ о любви. Послѣ длиннаго разговора о любви, одна изъ дѣвицъ встаетъ и уходитъ. Оставшіяся начинаютъ перемывать косточки ушедшей. Всѣ находятъ, что она глупа, несносна, безобразна, что у нея лопатка не на мѣстѣ.
Но вотъ, слава Богу, идетъ, наконецъ, горничная, посланная моею maman, и зоветъ меня обѣдать. Теперь я могу оставить непріятное общество и идти продолжать свою диссертацію. Встаю и раскланиваюсь. Варенькина maman, сама Варенька и разноцвѣтныя дѣвицы окружаютъ меня и заявляютъ, что я не имѣю никакого права уходить, такъ какъ далъ имъ вчера честное слово обѣдать съ ними, а послѣ обѣда идти въ лѣсъ за грибами. Кланяюсь и сажусь… Въ душѣ моей кипитъ ненависть, я чувствую, что еще минута и — я за себя не ручаюсь, произойдетъ взрывъ, но деликатность и боязнь нарушить хорошій тонъ заставляютъ меня повиноваться дамамъ. И я повинуюсь.
Садимся обѣдать. Раненый офицеръ, у котораго отъ раны въ високъ образовалось сведеніе челюстей, ѣстъ съ такимъ видомъ, какъ будто бы онъ занузданъ и имѣетъ во рту удила. Я катаю шарики изъ хлѣба, думаю о собачьемъ налогѣ и, зная свой вспыльчивый характеръ, стараюсь молчать. Наденька глядитъ на меня съ состраданіемъ. Окрошка, языкъ съ горошкомъ, жареная курица и компотъ. Аппетита нѣтъ, но я изъ деликатности ѣмъ. Послѣ обѣда, когда я одинъ стою на террасѣ и курю, ко мнѣ подходитъ Машенькина maman, сжимаетъ мои руки и говоритъ задыхаясь:
— Но вы не отчаивайтесь, Nicolas… Это такое сердце… такое сердце!
Идемъ въ лѣсъ по грибы… Варенька виснетъ на моей рукѣ и присасывается къ боку. Страдаю невыносимо, но терплю.
Входимъ въ лѣсъ.
— Послушайте, m-r Nicolas, — вздыхаетъ Наденъка: — отчего вы такъ грустны? Отчего вы молчите?
Странная дѣвушка: о чемъ же я могу говорить съ ней? Что у насъ общаго?
— Ну, скажите что-нибудь… — проситъ она.
Я начинаю придумывать что-нибудь популярное, доступное ея пониманію. Подумавъ, говорю:
— Лѣсоистребленіе приноситъ громадный вредъ Россіи…
— Nicolas! — вздыхаетъ Варенька, и носъ ея краснѣетъ. — Nicolas, я вижу, вы избѣгаете откровеннаго разговора… Вы какъ будто желаете казнить своимъ молчаніемъ… Вамъ не отвѣчаютъ на ваше чувство и вы хотите страдать молча, въ одиночку… это ужасно, Nicolas! — восклицаетъ она, порывисто хватая меня за руку, и я вижу, какъ ея носъ начинаетъ пухнуть, — Что бы вы сказали, если бы та дѣвушка, которую вы любите, предложила вамъ вѣчную дружбу?
Я бормочу что-то несвязное, потому что рѣшительно не знаю, что сказать ей… Помилуйте: во-первыхъ, никакой дѣвушки я не люблю и, во-вторыхъ, для чего бы мнѣ могла понадобиться вѣчная дружба? Въ-третьихъ, я очень вспыльчивъ. Машенька, или Варенька, закрываетъ лицо руками и говоритъ вполголоса, какъ бы про себя:
— Онъ молчитъ… Очевидно, онъ хочетъ жертвы съ моей стороны. Не могу же я любить его, если я все еще люблю другого! Впрочемъ… я подумаю… Хорошо, я подумаю… Я соберу всѣ силы моей души и, быть-можетъ, цѣною своего счастья спасу этого человѣка отъ страданій!
Ничего не понимаю. Какая-то кабалистика. Идемъ дальше и собираемъ грибы. Все время молчимъ. На лицѣ у Наденьки выраженіе душевной борьбы. Слышенъ лай собакъ: это мнѣ напоминаетъ о моей диссертаціи, и я громко вздыхаю. Сквозь стволы деревьевъ я вижу раненаго офицера. Бѣдняга мучительно хромаетъ направо и налѣво: справа у него раненое бедро, слѣва виситъ одна изъ разноцвѣтныхъ дѣвицъ. Лицо выражаетъ покорность судьбѣ.
Изъ лѣса идемъ обратно на дачу пить чай, затѣмъ играемъ въ крокетъ и слушаемъ, какъ одна изъ разноцвѣтныхъ дѣвицъ поетъ романсъ: «Нѣтъ, не любишь ты! Нѣтъ! Нѣтъ!…» При словѣ «нѣтъ» она кривитъ ротъ до самаго уха.
— Charmant1! — стонутъ остальныя дѣвицы. — Charmant!
Наступаетъ вечеръ. Изъ-за кустовъ выползаетъ отвратительная луна. Въ воздухѣ тишина и непріятно пахнетъ свѣжимъ сѣномъ. Беру шляпу и хочу уходить.
— Мнѣ нужно вамъ сообщить кое-что, — значительно шепчетъ мнѣ Машенька. — Не уходите.
Предчувствую что-то недоброе, но изъ деликатности остаюсь. Машенька беретъ меня подъ руку и ведетъ куда-то по аллеѣ. Теперь ужъ вся фигура ея выражаетъ борьбу. Она блѣдна, тяжело дышитъ и, кажется, намѣрена оторвать у меня правую руку. Что съ ней?
— Послушайте… — бормочетъ она. — Нѣтъ, не могу… Нѣтъ…
Она хочетъ что-то сказать, но колеблется. Но вотъ по лицу ея я вижу, что она рѣшилась. Сверкнувъ глазами, съ опухшимъ носомъ, она хватаетъ меня за руку и говоритъ быстро:
— Nicolas, я ваша! Любить васъ не могу, но обѣщаю вамъ вѣрность!
Затѣмъ она прижимается къ моей груди и вдругъ отскакиваетъ.
— Кто-то идетъ… — шепчетъ она. — Прощай… Завтра въ 11 часовъ буду въ бесѣдкѣ… Прощай!
И она исчезаетъ. Ничего не понимая, чувствуя мучительное сердцебіеніе, я иду къ себѣ домой. Меня ждетъ «Прошедшее и будущее собачьяго налога», но работать я уже не могу. Я взбѣшенъ. Можно даже сказать, я ужасенъ. Чортъ возьми, я не позволю обращаться со мной, какъ съ мальчишкой! Я вспыльчивъ и шутить со мной опасно! Когда входитъ ко мнѣ горничная звать меня къ ужину, я кричу ей: «Подите вонъ!» Такая вспыльчивость обѣщаетъ мало хорошаго.
На другой день утромъ. Погода дачная, т. е. температура ниже нуля, рѣзкій, холодный вѣтеръ, дождь, грязь и запахъ нафталина, потому что моя maman повынимала изъ сундука свои салопы. Чертовское утро. Это какъ разъ 7-е августа 1887 года, когда было затменіе солнца. Надо вамъ замѣтить, что во время затменія каждый изъ насъ можетъ принести громадную пользу, не будучи астрономомъ. Такъ, каждый изъ насъ можетъ: 1) опредѣлить діаметръ солнца и луны, 2) нарисовать корону солнца, 3) измѣрить температуру, 4) наблюдать въ моментъ затменія животныхъ и растенія, 5) записать собственныя впечатлѣнія и т. д. Это такъ важно, что я пока оставилъ въ сторонѣ «Прошедшее и будущее собачьяго налога» и рѣшилъ наблюдать затменіе. Всѣ мы встали очень рано. Весь предстоящій трудъ я подѣлилъ такъ: я опредѣлю діаметръ солнца и луны, раненый офицеръ нарисуетъ корону, все же остальное возьмутъ на себя Машенька и разноцвѣтныя дѣвицы. Вотъ всѣ мы собрались и ждемъ.
— Отчего бываетъ затменіе? — спрашиваетъ Машенька.
Я отвѣчаю:
— Солнечныя затменія происходятъ въ томъ случаѣ, когда луна, обращаясь въ плоскости эклиптики, помѣщается на линіи, соединяющей центры солнца и земли?
— А что значитъ эклиптика?
Я объясняю. Машенька, внимательно выслушавъ, спрашиваетъ:
— Можно ли сквозь копченое стекло увидѣть линію, соединяющую центры солнца и земли?
Я отвѣчаю ей, что эта линія проводится умственно.
— Если она умственная, — недоумѣваетъ Варенька: — то какъ же на ней можетъ помѣститься луна?
Не отвѣчаю. Я чувствую, какъ отъ этого наивнаго вопроса начинаетъ увеличиваться моя печень.
— Все это вздоръ, — говоритъ Варенькина maman. — Нельзя знать того, что будетъ, и къ тому же вы ни разу не были на небѣ, почему же вы знаете, что будетъ съ луной и солнцемъ? Все это фантазіи.
Но вотъ черное пятно надвигается на солнце. Всеобщее смятеніе. Коровы, овцы и лошади, задравъ хвосты и ревя, въ страхѣ носились по полю. Собаки выли. Клопы, вообразивъ, что настала ночь, вылѣзли изъ щелей и начали кусать тѣхъ, кто спалъ. Дьяконъ, который въ это время везъ къ себѣ изъ огорода огурцы, ужаснувшись, выскочилъ изъ телѣги и спрятался подъ мостъ, а его лошадь въѣхала съ телѣгой въ чужой дворъ, гдѣ огурцы были съѣдены свиньями. Акцизный, ночевавшій не дома, а у одной дачницы, выскочилъ въ одномъ нижнемъ бѣльѣ и, вбѣжавъ въ толпу, закричалъ дикимъ голосомъ:
— Спасайся, кто можетъ!
Многія дачницы, даже молодыя и красивыя, разбуженныя шумомъ, выскочили на улицу, не надѣвъ башмаковъ. Произошло еще много такого, чего я не рѣшусь разсказать.
— Ахъ, какъ страшно! — визжатъ разноцвѣтныя дѣвицы. — Ахъ! Это ужасно!
— Mesdames, наблюдайте! — кричу я имъ. — Время дорого! А самъ я тороплюсь, измѣряю діаметръ… Вспоминаю о коронѣ и ищу глазами раненаго офицера. Онъ стоитъ и ничего не дѣлаетъ.
— Что же вы? — кричу я. — А корона?
Онъ пожимаетъ плечами и безпомощно указываетъ мнѣ глазами на свои руки. У бѣдняги на обѣ руки нависли разноцвѣтныя дѣвицы, жмутся къ нему отъ страха и мѣшаютъ работать. Беру карандашъ и записываю время съ секундами. Это важно. Записываю географическое положеніе наблюдательнаго пункта. Это тоже важно. Хочу опредѣлить діаметръ, но въ это время Машенька беретъ меня за руку и говоритъ:
— Не забудьте же, сегодня въ одиннадцать часовъ!
Я отнимаю свою руку и, дорожа каждой секундой, хочу продолжать наблюденія, но Варенька судорожно беретъ меня подъ руку и прижимается къ моему боку. Карандашъ, стекла, чертежи — все это валится на траву. Чортъ знаетъ что! Пора же, наконецъ, понять этой дѣвушкѣ, что я вспыльчивъ, что я, вспыливъ, становлюсь бѣшенымъ и тогда не могу за себя ручаться.
Хочу я продолжать, но затменіе уже кончилось!
— Взгляните на меня! — шепчетъ она нѣжно.
О, это уже верхъ издѣвательства! Согласитесь, что такая игра человѣческимъ терпѣніемъ можетъ кончиться только худомъ. Не обвиняйте же меня, если случится что-нибудь ужасное! Я никому не позволю шутить, издѣваться надо мною и, чортъ подери, когда я взбѣшенъ, никому не совѣтую близко подходить ко мнѣ, чортъ возьми совсѣмъ! Я готовъ на все!
Одна изъ дѣвицъ, вѣроятно, замѣтивъ по моему лицу, что я взбѣшенъ, говоритъ, очевидно, съ той цѣлью, чтобы успокоить меня:
— А я, Николай Андреевичъ, исполнила ваше порученіе. Я наблюдала млекопитающихъ. Я видѣла, какъ передъ затменіемъ сѣрая собака погналась за кошкой и потомъ долго виляла хвостомъ.
Такъ изъ затменія ничего не вышло. Иду домой. Благодаря дождю не выхожу на балкончикъ работать. Раненый офицеръ рискнулъ выйти на свой балконъ и даже написалъ: «Я родился въ…», и теперь я вижу въ окно, какъ одна изъ разноцвѣтныхъ дѣвицъ тащитъ его къ себѣ на дачу. Работать я не могу, потому что все еще взбѣшенъ и чувствую сердцебіеніе. Въ бесѣдку я не иду. Это невѣжливо, но, согласитесь, не могу же я идти по дождю! Въ 12 часовъ получаю письмо отъ Машеньки; въ письмѣ упреки, просьба придти въ бесѣдку и обращеніе на «ты»… Въ часъ получаю другое письмо, въ два третье… Надо идти. Но прежде чѣмъ идти, я долженъ подумать, о чемъ я буду говорить съ ней. Поступлю, какъ порядочный человѣкъ. Во-первыхъ, я скажу ей, что она напрасно воображаетъ, что я ее люблю. Впрочемъ, такихъ вещей не говорятъ женщинамъ. Сказать женщинѣ: «Я васъ не люблю» — такъ же неделикатно, какъ сказать писателю: «Вы плохо пишете». Лучше всего я выскажу Варенькѣ свой взглядъ на бракъ. Надѣваю теплое пальто, беру зонтикъ и иду къ бесѣдкѣ. Зная свой вспыльчивый характеръ, боюсь, какъ бы не сказать чего-нибудь лишняго. Постараюсь сдерживать себя.
Въ бесѣдкѣ меня ждутъ. Наденька блѣдна и заплакана. Увидѣвъ меня, она радостно вскрикиваетъ, бросается ко мнѣ на шею и говоритъ:
— Наконецъ-то! Ты играешь моимъ терпѣніемъ. Послушай, я не спала всю ночь… Я все думала. Мнѣ кажется, что когда я узнаю тебя поближе, то… полюблю тебя…
Я сажусь и начинаю излагать свой взглядъ на бракъ. Сначала, чтобы не заходить далеко, быть по возможности краткимъ, я дѣлаю маленькій историческій обзоръ. Говорю о бракѣ индусовъ и египтянъ, затѣмъ перехожу къ позднѣйшимъ временамъ; нѣсколько мыслей изъ Шопенгауэра. Машенька слушаетъ со вниманіемъ, но вдругъ, по странной непослѣдовательности идей, находитъ нужнымъ прервать меня.
— Nicolas, поцѣлуй меня! — говоритъ она.
Я смущенъ и не знаю, что сказать ей. Она повторяетъ свое требованіе. Дѣлать нечего, я поднимаюсь и прикладываюсь къ ея длинному лицу, причемъ ощущаю то же самое, что чувствовалъ въ дѣтствѣ, когда меня заставили однажды поцѣловать на панихидѣ мою умершую бабушку. Не довольствуясь моимъ поцѣлуемъ, Варенька вскакиваетъ и порывисто обнимаетъ меня. Въ это время въ дверяхъ бесѣдки показывается Машенькина maman… Она дѣлаетъ испуганное лицо, говоритъ кому-то «тссс!» и исчезаетъ, какъ Мефистофель въ трюмѣ.
Смущенный и взбѣшенный, я возвращаюсь къ себѣ на дачу. Дома я застаю Варенькину maman, которая со слезами на глазахъ обнимаетъ мою maman, а моя maman плачетъ и говоритъ:
— Я сама этого желала!
Затѣмъ — какъ вамъ это нравится? — Наденькина maman подходитъ ко мнѣ, обнимаетъ меня и говоритъ:
— Богъ васъ благословитъ! Ты же смотри, люби ее… Помни, что для тебя она приноситъ жертву…
И теперь меня женятъ. Въ то время, какъ я пишу эти строки, надъ моей душой стоятъ шафера и торопятъ меня. Эти люди положительно не знаютъ моего характера! Вѣдь я вспыльчивъ и не могу за себя ручаться! Чортъ возьми, вы увидите, что будетъ дальше! Везти подъ вѣнецъ вспыльчиваго, взбѣшеннаго человѣка — это, по-моему, такъ же не умно, какъ просовывать руку въ клѣтку къ разъяренному тигру. Увидимъ, увидимъ, что будетъ!
………
Итакъ, я женатъ. Всѣ меня поздравляютъ, и Варенька все жмется ко мнѣ и говоритъ:
— Пойми же, что ты теперь мой, мой! Скажи же, что ты меня любишь! Скажи!
И при этомъ у нея пухнетъ носъ.
Узналъ отъ шаферовъ, что раненый офицеръ ловкимъ манеромъ избѣжалъ Гименея. Онъ представилъ разноцвѣтной дѣвицѣ медицинское свидѣтельство, что, благодаря ранѣ въ високъ, онъ умственно ненормаленъ, а потому по закону не имѣетъ права жениться. Идея! Я тоже могъ бы представить свидѣтельство. Мой дядя пилъ запоемъ, другой дядя былъ очень разсѣянъ (однажды вмѣсто шапки надѣлъ себѣ на голову дамскую муфту), тетка много играла на рояли и при встрѣчѣ съ мужчинами показывала имъ языкъ. Къ тому же еще мой въ высшей степени вспыльчивый характеръ — очень подозрительный симптомъ. Но почему хорошія идеи приходятъ такъ поздно? Почему?
«Будильникъ», 1887, № 26.
Тссс!…
Иванъ Егоровичъ Краснухинъ, газетный сотрудникъ средней руки, возвращается домой поздно ночью нахмуренный, серьезный и какъ-то особенно сосредоточенный. Видъ у него такой, точно онъ ждетъ обыска или замышляетъ самоубійство. Пошагавъ по своей комнатѣ, онъ останавливается, взъерошиваетъ волосы и говоритъ тономъ Лаэрта, собирающагося мстить за свою сестру:
— Разбитъ, утомленъ душой, на сердцѣ гнетущая тоска, а ты изволь садиться и писать! И это называется жизнью?! Отчего еще никто не описалъ того мучительнаго разлада, который происходитъ въ писателѣ, когда онъ грустенъ, но долженъ смѣшить толпу, или когда веселъ, а долженъ по заказу лить слезы? Я долженъ быть игривъ, равнодушно-холоденъ, остроуменъ, но представьте, что меня гнететъ тоска или, положимъ, я боленъ, у меня умираетъ ребенокъ, родитъ жена!
Говоритъ онъ это, потрясая кулакомъ и вращая глазами… Потомъ онъ идетъ въ спальню и будитъ жену.
— Надя, — говоритъ онъ: — я сажусь писать… Пожалуйста, чтобы мнѣ никто не мѣшалъ. Нельзя писать, если ревутъ дѣти, храпятъ кухарки… Распорядись также, чтобы былъ чай и… бив-штексъ, что ли… Ты знаешь, я безъ чая не могу писать… Чай — это единственное, что подкрѣпляетъ меня въ работѣ.
Вернувшись къ себѣ въ комнату, онъ снимаетъ сюртукъ, жилетку и сапоги. Разоблачается онъ медленно, затѣмъ, придавъ своему лицу выраженіе оскорбленной невинности, садится за письменный столъ.
На столѣ ничего случайнаго, будничнаго, но все, каждая самомалѣйшая бездѣлушка, носитъ на себѣ характеръ обдуманности и строгой программы. Бюстики и карточки великихъ писателей, куча черновыхъ рукописей, томъ Бѣлинскаго съ загнутой страницей, затылочная кость вмѣсто пепельницы, газетный листъ, сложенный небрежно, но такъ, чтобы видно было мѣсто, очерченное синимъ карандашомъ, съ крупной надписью на поляхъ: «подло!» Тутъ же съ десятокъ свѣже-очиненныхъ карандашей и ручекъ съ новыми перьями, очевидно положенныхъ для того, чтобы внѣшнія причины и случайности, въ родѣ порчи пера, не могли прерывать ни на секунду свободнаго, творческаго полета…
Краснухинъ откидывается на спинку кресла и, закрывъ глаза, погружается въ обдумываніе темы. Ему слышно, какъ жена шлепаетъ туфлями и колетъ лучину для самовара. Она еще не совсѣмъ проснулась, это видно изъ того, что самоварная крышка и ножъ то и дѣло валятся изъ рукъ. Скоро доносится шипѣніе самовара и поджариваемаго мяса. Жена не перестаетъ колоть лучину и стучать около печки заслонками, вьюшками и дверцами. Вдругъ Краснухинъ вздрагиваетъ, открываетъ испуганно глаза и начинаетъ нюхать воздухъ.
— Боже мой, угаръ! — стонетъ онъ, страдальчески морща лицо. — Угаръ! Эта несносная женщина задалась цѣлью отравить меня! Ну, скажите же, Бога ради, могу ли я писать при такой обстановкѣ?
Онъ бѣжитъ въ кухню и разражается тамъ драматическимъ воплемъ. Когда, немного погодя, жена, осторожно ступая на цыпочкахъ, приноситъ ему стаканъ чаю, онъ по-прежнему сидитъ въ креслѣ, съ закрытыми глазами, и погруженъ въ свою тему. Онъ не шевелится, слегка барабанитъ по лбу двумя пальцами и дѣлаетъ видъ, что не слышитъ присутствія жены… На лицѣ его по-прежнему выраженіе оскорбленной невинности.
Какъ дѣвочка, которой подарили дорогой вѣеръ, онъ, прежде чѣмъ написать заглавіе, долго кокетничаетъ передъ самимъ собой, рисуется, ломается… Онъ сжимаетъ себѣ виски, то корчится и поджимаетъ подъ кресло ноги, точно отъ боли, то томно жмурится, какъ котъ на диванѣ… Наконецъ, не безъ колебанія, протягиваетъ онъ къ чернильницѣ руку и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто подписываетъ смертный приговоръ, дѣлаетъ заглавіе…
— Мама, дай воды! — слышитъ онъ голосъ сына.
— Тссс! — говоритъ мать. — Папа пишетъ! Тссс…
Папа пишетъ быстро-быстро, безъ помарокъ и остановокъ, едва успѣвая перелистывать страницы. Бюсты и портреты знаменитыхъ писателей глядятъ на его быстро бѣгающее перо, не шевелятся и, кажется, думаютъ: «Эка, братъ, какъ ты насобачился!»
— Тссс! — скрипитъ перо.
— Тссс! — издаютъ писатели, когда вздрагиваютъ вмѣстѣ со столомъ отъ толчка колѣномъ.
Вдругъ Краснухинъ выпрямляется, кладетъ перо и прислушивается… Онъ слышитъ ровный, монотонный шопотъ… Это въ сосѣдней комнатѣ жилецъ, Ѳома Николаевичъ, молится Богу.
— Послушайте! — кричитъ Краснухинъ. — Не угодно ли вамъ потише молиться? Вы мѣшаете мнѣ писать!
— Виноватъ-съ… — робко отвѣчаетъ Ѳома Николаевичъ.
— Тссс!
Исписавъ пять страничекъ. Краснухинъ потягивается и глядитъ на часы.
— Боже, уже три часа! — стонетъ онъ. — Люди спятъ, а я… одинъ я долженъ работать!
Разбитый, утомленный, склонивъ голову на бокъ, онъ идетъ въ спальню, будитъ жену и говоритъ томнымъ голосомъ:
— Надя, дай мнѣ еще чаю! Я… ослабѣлъ!
Пишетъ онъ до четырехъ часовъ, и охотно писалъ бы до шести, если бы не изсякла тема. Кокетничанье и ломанье передъ самимъ собой, передъ неодушевленными предметами, вдали отъ нескромнаго, наблюдающаго ока, деспотизмъ и тиранія надъ маленькимъ муравейникомъ, брошеннымъ судьбою подъ его власть, составляютъ соль и медъ его существованія. И какъ этотъ деспотъ здѣсь, дома, не похожъ на того маленькаго, приниженнаго, безсловеснаго, бездарнаго человѣчка, котораго мы привыкли видѣть въ редакціяхъ!
— Я такъ утомленъ, что едва ли усну… — говоритъ онъ, ложась спать. — Наша работа, эта проклятая, неблагодарная, каторжная работа, утомляетъ не такъ тѣло, какъ душу… Мнѣ бы бромистаго калія принять… Охъ, видитъ Богъ, если бъ не семья, бросилъ бы я эту работу… Писать по заказу! Это ужасно!
Спитъ онъ до двѣнадцати, или до часу дня, спитъ крѣпко и здорово… Ахъ, какъ бы еще онъ спалъ, какіе бы видѣлъ сны, какъ бы развернулся, если бы сталъ извѣстнымъ писателемъ, редакторомъ, или хотя бы издателемъ!
— Онъ всю ночь писалъ! — шепчетъ жена, дѣлая испуганное лицо. — Тссс!
Никто не смѣетъ ни говорить, ни ходить, ни стучать. Его сонъ — святыня, за оскорбленіе которой дорого поплатится виновный!
— Тссс! — носится по квартирѣ. — Тссс!
«Осколки», 1886, № 46.
Месть.
Левъ Саввичъ Турмановъ, дюжинный обыватель, имѣющій капиталецъ, молодую жену и солидную плѣшь, какъ-то игралъ на именинахъ у пріятеля въ винтъ. Послѣ одного хорошаго минуса, когда его въ потъ ударило, онъ вдругъ вспомнилъ, что давно не пилъ водки. Поднявшись, онъ на цыпочкахъ, солидно покачиваясь, пробрался между столовъ, прошелъ черезъ гостиную, гдѣ танцовала молодежь (тутъ онъ снисходительно улыбнулся и отечески похлопалъ по плечу молодого, жидкаго аптекаря), затѣмъ юркнулъ въ маленькую дверь, которая вела въ буфетную. Тутъ, на кругломъ столикѣ, стояли бутылки, графины съ водкой… Около нихъ, среди другой закуски, зеленѣя лукомъ и петрушкой, лежала на тарелкѣ наполовину уже съѣденная селедка. Левъ Саввичъ налилъ себѣ рюмку, пошевелилъ въ воздухѣ пальцами, какъ бы собираясь говорить рѣчь, выпилъ и сдѣлалъ страдальческое лицо, потомъ ткнулъ вилкой въ селедку и… Но тутъ за стѣной послышались голоса.
— Пожалуй, пожалуй… — бойко говорилъ женскій голосъ. — Только когда это будетъ?
«Моя жена, — узналъ Левъ Саввичъ. — Съ кѣмъ это она?»
— Когда хочешь, мой другъ… — отвѣчалъ за стѣной густой, сочный басъ. — Сегодня не совсѣмъ удобно, завтра я цѣлешенькій день занятъ…
«Это Дегтяревъ! — узналъ Турмановъ въ басѣ одного изъ своихъ пріятелей. — И ты, Брутъ, туда же! Неужели и его ужъ подцѣпила? Экая ненасытная, неугомонная баба! Дня не можетъ продышать безъ романа!»
— Да, завтра я занятъ, — продолжалъ басъ. — Если хочешь, напиши мнѣ завтра что-нибудь… Буду радъ и счастливъ… Только намъ слѣдовало бы упорядочить нашу корреспонденцію. Нужно придумать какой-нибудь фокусъ. Почтой посылать не совсѣмъ удобно. Если я тебѣ напишу, то твой индюкъ можетъ перехватить письмо у почтальона; если ты мнѣ напишешь, то моя половина получитъ безъ меня и навѣрное распечатаетъ.
— Какъ же быть?
— Нужно фокусъ какой-нибудь придумать. Черезъ прислугу посылать тоже нельзя, потому что твой Собакевичъ навѣрное держитъ въ ежовыхъ горничную и лакея… Что, онъ въ карты играетъ?
— Да. Вѣчно, дуралей, проигрываетъ!
— Значитъ, въ любви ему везетъ! — засмѣялся Дегтяревъ. — Вотъ, мамочка, какой фортель я придумалъ… Завтра, ровно въ шесть часовъ вечера, я, возвращаясь изъ конторы, буду проходить черезъ городской садъ, гдѣ мнѣ нужно повидаться со смотрителемъ. Такъ вотъ ты, душа моя, постарайся непремѣнно къ шести часамъ, не позже, положить записочку въ ту мраморную вазу, которая, знаешь, стоитъ налѣво отъ виноградной бесѣдки…
— Знаю, знаю…
— Это выйдетъ и поэтично, и таинственно, и ново… Не узнаетъ ни твой пузанъ, ни моя благовѣрная. Поняла?
Левъ Саввичъ выпилъ еще одну рюмку и отправился къ игорному столу. Открытіе, которое онъ только-что сдѣлалъ, не поразило его, не удивило и нимало не возмутило. Время, когда онъ возмущался, устраивалъ сцены, бранился и даже дрался, давно уже прошло; онъ махнулъ рукой и теперь смотрѣлъ на романы своей вѣтреной супруги сквозь пальцы. Но ему все-таки было непріятно. Такія выраженія, какъ индюкъ, Собакевичъ, пузанъ и пр., покоробили его самолюбіе.
«Какая же, однако, каналья этотъ Дегтяревъ! — думалъ онъ, записывая минусы. — Когда встрѣчается на улицѣ, такимъ милымъ другомъ прикидывается, скалитъ зубы и по животу гладитъ, а теперь, поди-ка, какія пули отливаетъ! Въ лицо другомъ величаетъ, а за глаза я у него и индюкъ, и пузанъ»…
Чѣмъ больше онъ погружался въ свои противные минусы, тѣмъ тяжелѣе становилось чувство обиды…
«Молокососъ… — думалъ онъ, сердито ломая мѣлокъ. — Мальчишка… Не хочется только связываться, а то я показалъ бы тебѣ Собакевича!»
За ужиномъ онъ не могъ равнодушно видѣть физіономію Дегтярева, а тотъ, какъ нарочно, неотвязчиво приставалъ къ нему съ вопросами: выигралъ ли онъ? отчего онъ такъ грустенъ? и проч. И даже имѣлъ нахальство, на правахъ добраго знакомаго, громко пожурить его супругу за то, что та плохо заботится о здоровьѣ мужа. А супруга, какъ ни въ чемъ не бывало, глядѣла на мужа масляными глазками, весело смѣялась, невинно болтала, такъ что самъ чортъ не заподозрилъ бы ее въ невѣрности.
Возвратясь домой, Левъ Саввичъ чувствовалъ себя злымъ и неудовлетвореннымъ, точно онъ вмѣсто телятины съѣлъ за ужиномъ старую калошу. Быть-можетъ, онъ пересилилъ бы себя и забылся, но болтовня супруги и ея улыбки каждую секунду напоминали ему про индюка, гуся, пузана…
«По щекамъ бы его, подлеца, отхлопать… — думалъ онъ. — Оборвать бы его публично».
И онъ думалъ, что хорошо бы теперь побить Дегтярева, подстрѣлить его на дуэли, какъ воробья… спихнуть съ должности, или положить въ мраморную вазу что-нибудь неприличное, вонючее — дохлую крысу, напримѣръ… Недурно бы женино письмо заранѣе выкрасть изъ вазы, а вмѣсто него положить какіе-нибудь скабрезные стишки съ подписью «твоя Акулька», или что-нибудь въ этомъ родѣ.
Долго Турмановъ ходилъ по спальной и услаждалъ себя подобными мечтами. Вдругъ онъ остановился и хлопнулъ себя по лбу.
— Нашелъ, браво! — воскликнулъ онъ и даже просіялъ отъ удовольствія. — Это выйдетъ отлично! О-отлично!
Когда уснула его супруга, онъ сѣлъ за столъ и послѣ долгаго раздумья, коверкая свой почеркъ и изобрѣтая грамматическія ошибки, написалъ слѣдующее: «Купцу Дулинову. Милостивый Государъ! Если къ шести часамъ вечера сиводня 12-го сентября въ мраморную вазу, что находица въ городскомъ саду налѣво отъ виноградной бесѣдки, не будитъ положено вами двѣсти рублей, то вы будете убиты и ваша галантірейная лавка взлетитъ на воздухъ». Написавъ такое письмо. Левъ Саввичъ подскочилъ отъ восторга.
— Каково придумано, а? — бормоталъ онъ, потирая руки. — Шикарно! Лучшей мести самъ сатана не придумаетъ! Естественно, купчина струситъ и сейчасъ же донесетъ полиціи, а полиція засядетъ къ шести часамъ въ кусты — и цапъ-царапъ его, голубчика, когда онъ за письмомъ полѣзетъ!… То-то струситъ! Пока дѣло выяснится, такъ успѣетъ, каналья, и натерпѣться, и насидѣться… Браво!
Левъ Саввичъ прилѣпилъ марку къ письму и самъ снесъ его въ почтовый ящикъ. Уснулъ онъ съ блаженнѣйшей улыбкой и спалъ такъ сладко, какъ давно уже не спалъ. Проснувшись утромъ и вспомнивши свою выдумку, онъ весело замурлыкалъ и даже потрогалъ невѣрную жену за подбородочекъ. Отправляясь на службу и потомъ сидя въ канцеляріи, онъ все время улыбался и воображалъ себѣ ужасъ Дегтярева, когда тотъ попадетъ въ западню…
Въ шестомъ часу онъ не выдержалъ и побѣжалъ въ городской садъ, чтобы воочію полюбоваться отчаяннымъ положеніемъ врага.
«Ага!» — подумалъ онъ, встрѣтивъ городового.
Дойдя до виноградной бесѣдки, онъ сѣлъ подъ кустъ и, устремивъ жадные взоры на вазу, принялся ждать. Нетерпѣніе его не имѣло предѣловъ.
Ровно въ шесть часовъ показался Дегтяревъ. Молодой человѣкъ былъ, повидимому, въ отличнѣйшемъ расположеніи духа. Цилиндръ его ухарски сидѣлъ на затылкѣ и изъ-за распахнувшагося пальто вмѣстѣ съ жилеткой, казалось, выглядывала сама душа. Онъ насвистывалъ и курилъ сигару…
«Вотъ сейчасъ узнаешь индюка да Собакевича! — злорадствовалъ Турмановъ. — Погоди!»
Дегтяревъ подошелъ къ вазѣ и лѣниво сунулъ въ нее руку… Левъ Саввичъ приподнялся и впился въ него глазами… Молодой человѣкъ вытащилъ изъ вазы небольшой пакетъ, оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ и пожалъ плечами, потомъ нерѣшительно распечаталъ, опять пожалъ плечами и изобразилъ на лицѣ своемъ крайнее недоумѣніе; въ пакетѣ были двѣ радужныя бумажки!
Долго осматривалъ Дегтяревъ эти бумажки. Въ концѣ концовъ, не переставая пожимать плечами, онъ сунулъ ихъ въ карманъ и произнесъ: — «Merci!»
Несчастный Левъ Саввичъ слышалъ это «Merci». Цѣлый вечеръ потомъ стоялъ онъ противъ лавки Дулинова, грозился на вывѣску кулакомъ и бормоталъ въ негодованіи:
— Трррусъ! Купчишка! Презрѣнный Китъ Китычъ! Трррусъ! Заяцъ толстопузый!…
«Осколки», 1886, № 41.
Длинный языкъ.
Наталья Михайловна, молодая дамочка, пріѣхавшая утромъ изъ Ялты; обѣдала и, неугомонно треща языкомъ, разсказывала мужу о томъ, какія прелести въ Крыму. Мужъ, обрадованный, глядѣлъ съ умиленіемъ на ея восторженное лицо, слушалъ и изрѣдка задавалъ вопросы…
— Но, говорятъ, жизнь тамъ необычайно дорога? — спросилъ онъ между прочимъ.
— Какъ тебѣ сказать? По-моему, дороговизну преувеличили, папочка. Не такъ страшенъ чортъ, какъ его рисуютъ. Я, напримѣръ, съ Юліей Петровной имѣла очень удобный и приличный номеръ за двадцать рублей въ сутки. Все, дружочекъ мой, зависитъ отъ умѣнья жить. Конечно, если ты захочешь поѣхать куда-нибудь въ горы… напримѣръ, на Ай-Петри… возьмешь лошадь, проводника, — ну, тогда, конечно, дорого. Ужасъ, какъ дорого! Но, Васичка, какія тамъ го-оры! Представь ты себѣ высокія-высокія горы, на тысячу разъ выше, чѣмъ церковь… Наверху туманъ, туманъ, туманъ… Внизу громаднѣйшіе камни, камни, камни… И пиніи… Ахъ, вспомнить не могу!
— Кстати… безъ тебя тутъ я въ какомъ-то журналѣ читалъ про тамошнихъ проводниковъ-татаръ.. Такія мерзости! Что, это въ самомъ дѣлѣ какіе-нибудь особенные люди?
Наталья Михайловна сдѣлала презрительную гримаску и мотнула головой.
— Обыкновенные татары, ничего особеннаго… — сказала она. — Впрочемъ, я видѣла ихъ издалека, мелькомъ… Указывали мнѣ на нихъ, но я не обратила вниманія. Всегда, папочка, я чувствовала предубѣжденіе ко всѣмъ этимъ черкесамъ, грекамъ… маврамъ!…
— Говорятъ, донъ-жуаны страшные.
— Можетъ-быть! Бываютъ мерзавки, которыя…
Наталья Михайловна вдругъ вскочила, точно вспомнила что-то страшное, полминуты глядѣла на мужа испуганными глазами и сказала, растягивая каждое слово:
— Васичка, я тебѣ скажу, какія есть без-нрав-ствен-ны-я! Ахъ, какія безнравственныя! Не то чтобы, знаешь, простыя, или средняго круга, а аристократки, эти надутыя бон-тонши! Просто ужасъ, глазамъ своимъ я не вѣрила! Умру и не забуду! Ну, можно ли забыться до такой степени, чтобы… ахъ, Васичка, я даже и говорить не хочу! Взять хотя бы мою спутницу Юлію Петровну… Такой хорошій мужъ, двое дѣтей… принадлежитъ къ порядочному кругу, корчитъ всегда изъ себя святую и — вдругъ, можешь себѣ представить… Только, папочка, это, конечно, entre nous2… Даешь честное слово, что никому не скажешь?
— Ну, вотъ еще выдумала! Разумѣется, не скажу.
— Честное слово? Смотри же! Я тебѣ вѣрю… Дамочка положила вилку, придала своему лицу таинственное выраженіе и зашептала:
— Представь ты себѣ такую вещь… Поѣхала эта Юлія Петровна въ горы… Была отличная погода! Впереди ѣдетъ она со своимъ проводникомъ, немножко позади — я. Отъѣхали мы версты три-четыре, вдругъ, понимаешь ты, Васичка, Юлія вскрикиваетъ и хватаетъ себя за грудь. Ея татаринъ хватаетъ ее за талію, иначе бы она съ сѣдла свалилась… Я со своимъ проводникомъ подъѣзжаю къ ней… Что такое? Въ чемъ дѣло? «Охъ, кричитъ, умираю! Дурно! Не могу дальше ѣхать!» Представь мой испугъ! Такъ поѣдемте, говорю, назадъ! — «Нѣтъ, говоритъ, Natalie, не могу я ѣхать назадъ! Если я сдѣлаю еще хоть одинъ шагъ, то умру отъ боли! У меня спазмы!» И проситъ, умоляетъ, ради Бога, меня и моего Сулеймана, чтобы мы вернулись назадъ въ городъ и привезли ей бестужевскихъ капель, которыя ей помогаютъ.
— Постой… Я тебя не совсѣмъ понимаю… — пробормоталъ мужъ, почесывая лобъ. — Раньше ты говорила, что видѣла этихъ татаръ только издалека, а теперь про какого-то Сулеймана разсказываешь.
— Ну, ты опять придираешься къ слову! — поморщилась дамочка, нимало не смущаясь. — Терпѣть не могу подозрительности! Терпѣть не могу! Глупо и глупо!
— Я не придираюсь, но… зачѣмъ говорить неправду? Каталась съ татарами, ну, такъ тому и быть, Богъ съ тобой, но… зачѣмъ вилять?
— Гм!… вотъ странный! — возмутилась дамочка. — Ревнуетъ къ Сулейману! Воображаю, какъ это ты поѣхалъ бы въ горы безъ проводника! Воображаю! Если не знаешь тамошней жизни, не понимаешь, то лучше молчи. Молчи и молчи! Везъ проводника тамъ шагу нельзя сдѣлать.
— Еще бы!
— Пожалуйста, безъ этихъ глупыхъ улыбокъ! Я тебѣ не Юлія какая-нибудь… Я ея и не оправдываю, но я… пссс! Я хоть и не корчу изъ себя святой, но еще не настолько забылась. У меня Сулейманъ не выходилъ изъ границъ… Нѣ-ѣтъ! Маметкулъ, бывало, у Юліи все время сидитъ, а у меня какъ только бьетъ одиннадцать часовъ, сейчасъ: «Сулейманъ, маршъ! Уходите!» И мой глупый татарка уходитъ. Онъ у меня, папочка, въ ежовыхъ былъ… Какъ только разворчится насчетъ денегъ или чего-нибудь, я сейчасъ: «Ка-акъ? Что-о? Что-о-о?» Такъ у него вся душа въ пятки… Ха-ха-ха… Глаза, понимаешь, Васичка, черные-пречерные, какъ у-уголь, морденка татарская, глупая такая, смѣшная… Я его вотъ какъ держала! Вотъ!
— Воображаю… — промычалъ супругъ, катая шарики изъ хлѣба.
— Глупо, Васичка! Я вѣдь знаю, какія у тебя мысли! Я знаю, что ты думаешь… Но, я тебя увѣряю, онъ у меня даже во время прогулокъ не выходилъ изъ границъ. Напримѣръ, ѣдемъ ли въ горы, или къ водопаду Учанъ-Су, я ему всегда говорю: «Сулейманъ, ѣхать сзади» Ну!» И всегда онъ ѣхалъ сзади, бѣдняжка… Даже во время… въ самыхъ патетическихъ мѣстахъ я ему говорила: «А все-таки ты не долженъ забывать, что ты только татаринъ, а я жена статскаго совѣтника!» Ха-ха…
Дамочка захохотала, потомъ быстро оглянулась и, сдѣлавъ испуганное лицо, зашептала:
— Но Юлія! Ахъ, эта Юлія! Я понимаю, Васичка, отчего не пошалить, отчего не отдохнуть отъ пустоты свѣтской жизни? Все это можно… шали, сдѣлай милость, никто тебя не осудитъ, но глядѣть на это серьезно, дѣлать сцены… нѣтъ, какъ хочешь, я этого не понимаю! Вообрази, она ревновала! Ну, не глупо ли? Однажды приходитъ къ ней Маметкулъ, ея пассія… Дома ея не было… Ну, я зазвала его къ себѣ… начались разговоры, то да сё… они, знаешь, препотѣшные! Незамѣтно этакъ провели вечеръ… Вдругъ, влетаетъ Юлія… Набрасывается на меня, на Маметкула… дѣлаетъ намъ сцену… фи! Я этого не понимаю, Васичка… Васичка крякнулъ, нахмурился и заходилъ по комнатѣ.
— Весело вамъ тамъ жилось, нечего сказать! — проворчалъ онъ, брезгливо улыбаясь.
— Ну, какъ это глу-упо! — обидѣлась Наталья Михайловна. — Я знаю, о чемъ ты думаешь! Всегда у тебя такія гадкія мысли! Не стану же я тебѣ ничего разсказывать. Не стану!
Дамочка надула губки и умолкла.
«Осколки», 1886, № 39.
Нервы.
Дмитрій Осиповичъ Ваксинъ, архитекторъ, воротился изъ города къ себѣ на дачу подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ только-что пережитаго спиритическаго сеанса. Раздѣваясь и ложась на свое одинокое ложе (мадамъ Ваксина уѣхала къ Троицѣ), Ваксинъ сталъ невольно припоминать все слышанное и видѣнное. Сеанса, собственно говоря, не было, а вечеръ прошелъ въ однихъ только страшныхъ разговорахъ. Какая-то барышня ни съ того, ни съ сего заговорила объ угадываніи мыслей. Съ мыслей незамѣтно перешли къ ду́хамъ, отъ духовъ къ привидѣніямъ, отъ привидѣній къ заживо-погребеннымъ… Какой-то господинъ прочелъ страшный разсказъ о мертвецѣ, перевернувшемся въ гробу. Самъ Ваксинъ потребовалъ блюдечко и показалъ барышнямъ, какъ нужно бесѣдовать съ духами. Вызвалъ онъ, между прочимъ, дядю своего Клавдія Мироновича и мысленно спросилъ у него: «Не пора ли мнѣ домъ перевести на имя жены?» — на что дядя отвѣтилъ: «Во благовременіи все хорошо».
«Много таинственнаго и… страшнаго въ природѣ… — размышлялъ Ваксинъ, ложась подъ одѣяло. — Страшны не мертвецы, а эта неизвѣстность»…
Пробило часъ ночи. Ваксинъ повернулся на другой бокъ и выглянулъ изъ-подъ одѣяла на синій огонекъ лампадки. Огонь мелькалъ и еле освѣщалъ кіотъ и большой портретъ дяди Клавдія Мироныча, висѣвшій противъ кровати.
«А что, если въ этомъ полумракѣ явится сейчасъ дядина тѣнь? — мелькнуло въ головѣ Ваксина. — Нѣтъ, это невозможно!»
Привидѣнія — предразсудокъ, плодъ умовъ недозрѣлыхъ, но, тѣмъ не менѣе, все-таки Ваксинъ натянулъ на голову одѣяло и плотнѣе закрылъ глаза. Въ воображеніи его промелькнулъ перевернувшійся въ гробу трупъ, заходили образы умершей тещи, одного повѣсившагося товарища, дѣвушки-утопленницы… Ваксинъ сталъ гнать изъ головы мрачныя мысли, но чѣмъ энергичнѣе онъ гналъ, тѣмъ яснѣе становились образы и страшнѣе мысли. Ему стало жутко.
«Чортъ знаетъ что… Боишься, словно маленькій… Глупо!»
«Чикъ… чикъ… чикъ», — стучали за стѣной часы. Въ сельской церкви на погостѣ зазвонилъ сторожъ. Звонъ былъ медленный, заунывный, за душу тянущій… По затылку и по спинѣ Ваксина пробѣжали холодныя мурашки. Ему показалось, что надъ его головой кто-то тяжело дышитъ, точно дядя вышелъ изъ рамы и склонился надъ племянникомъ… Ваксину стало невыносимо жутко. Онъ стиснулъ отъ страха зубы и притаилъ дыханіе. Наконецъ, когда въ открытое, окно влетѣлъ майскій жукъ и загудѣлъ надъ его постелью, онъ не вынесъ и отчаянно дернулъ за сонетку.
— Деметрій Осипычъ, was wollen Sie?3 — послышался черезъ минуту за дверью голосъ гувернантки.
— Ахъ, это вы, Розалія Карловна? — обрадовался Ваксинъ.
— Зачѣмъ вы безпокоитесь? Гаврила могъ бы…
— Хаврилу ви сами въ городъ отпустилъ, а Глафира куда-то съ вечера ушла… Никого нѣтъ дома… Was wollen Sie doch?4
— Я, матушка, вотъ что хотѣлъ сказать… Тово… Да вы войдите, не стѣсняйтесь! У меня темно…
Въ спальную вошла толстая, краснощекая Розалія Карловна и остановилась въ ожидательной позѣ.
— Садитесь, матушка… Видите ли, въ чемъ дѣло… — «О чемъ бы ее спросить?» — подумалъ Ваксинъ, косясь на портретъ дяди и чувствуя, какъ душа его постепенно приходитъ въ покойное состояніе.
— Я, собственно говоря, вотъ о чемъ хотѣлъ просить васъ… Когда завтра человѣкъ отправится въ городъ, то не забудьте приказать ему, чтобы онъ… тово… зашелъ гильзъ купить… Да вы садитесь!
— Гильзъ? Хорошо! Was wollen Sie noch?5
— Ich will6… Ничего я не will, но… Да вы садитесь! Я еще что-нибудь надумаю…
— Неприлишно дѣвицѣ стоять въ мужчинской комнатъ… Ви, я вижу, Деметрій Осипычъ, шалюнъ… насмѣшкинъ… Я понимай… Изъ-за гильзъ шеловѣка не будятъ… Я понимай…
Розалія Карловна повернулась и вышла. Ваксинъ, нѣсколько успокоенный бесѣдой съ ней и стыдясь своего малодушія, натянулъ на голову одѣяло и закрылъ глаза. Минутъ десять онъ чувствовалъ себя сносно, но потомъ въ его голову полѣзла опятъ та же чепуха… Онъ плюнулъ, нащупалъ спички и, не открывая глазъ, зажегъ свѣчу. Но и свѣтъ не помогъ. Напуганному воображенію Ваксина казалось, что изъ угла кто-то смотритъ и что у дяди мигаютъ глаза.
— Позвоню ей опять, чорртъ бы ее взялъ… — порѣшилъ онъ.
— Скажу ей, что я боленъ… Попрошу капель.
Ваксинъ позвонилъ. Отвѣта не послѣдовало. Онъ позвонилъ еще разъ, и словно въ отвѣтъ на его звонъ, зазвонили на погостѣ. Охваченный страхомъ, весь холодный, онъ выбѣжалъ опрометью изъ спальной и, крестясь, браня себя, за малодушіе, полетѣлъ босой и въ одномъ нижнемъ къ комнатѣ гувернантки.
— Розалія Карловна! — заговорилъ онъ дрожащимъ голосомъ, постучавшись въ дверь. — Розалія Карловна! Вы… спите? Я… тово… боленъ… Капель!
Отвѣта не послѣдовало. Кругомъ царила тишина…
— Я васъ прошу… понимаете? Прошу! И къ чему эта… щепетильность, не понимаю, въ особенности, если человѣкъ… боленъ? Какая же вы, право, цирлихъ-манирлихъ. Въ ваши годы…
— Я вашей жена буду говорилъ… Не даетъ покой честный дѣвушкъ… Когда я жилъ у баронъ Анцигъ и баронъ захотѣлъ ко мнѣ приходить за спишки, я понимай… я сразу понимай, какія спишки, и сказала баронессъ… Я честный дѣвушкъ…
— Ахъ, на какого чорта сдалась мнѣ ваша честность? Я боленъ… и капель прошу. Понимаете? Я боленъ!
— Ваша жена честный, хорошій женщинъ, и вы должны ее любить. Ja! Она благородный! Я не желай быть ея врагъ!
— Дура вы, вотъ и все! Понимаете? Дура!
Ваксинъ оперся о косякъ, сложилъ руки накрестъ и сталъ ждать, когда пройдетъ его страхъ. Вернуться въ свою комнату, гдѣ мелькала лампадка и глядѣлъ изъ рамы дядюшка, не хватало силъ, стоять же у дверей гувернантки въ одномъ нижнемъ платьѣ было неудобно во всѣхъ отношеніяхъ. Что было дѣлать? Пробило два часа, а страхъ все еще не проходилъ и не уменьшался. Въ коридорѣ было темно и изъ каждаго угла глядѣло что-то темное. Ваксинъ повернулся лицомъ къ косяку, но тотчасъ же ему показалось, что кто-то слегка дернулъ его сзади за сорочку и тронулъ за плечо…
— Чортъ подери… Розалія Карловна!
Отвѣта не послѣдовало. Ваксинъ нерѣшительно открылъ дверь и заглянулъ въ комнату. Добродѣтельная нѣмка безмятежно спала. Маленькій ночникъ освѣщалъ рельефы ея полновѣснаго, дышащаго здоровьемъ тѣла. Ваксинъ вошелъ въ комнату и сѣлъ на плетеный сундукъ, стоявшій около двери. Въ присутствіи спящаго, но живого существа, онъ почувствовалъ себя легче.
«Пусть спитъ, нѣмчура… — думалъ онъ. — Посижу у нея, а когда разсвѣтетъ, выйду… Теперь рано свѣтаетъ».
Въ ожиданіи разсвѣта, Ваксинъ прикорнулъ на сундукѣ, подложилъ руку подъ голову и задумался.
«Что значитъ нервы, однако! Человѣкъ развитой, мыслящій, а между тѣмъ… чортъ знаетъ что! Совѣстно даже»…
Скоро, прислушавшись къ тихому, мѣрному дыханію Розаліи Карловны, онъ совсѣмъ успокоился…
Въ шесть часовъ утра жена Ваксина, воротившись отъ Троицы и не найдя мужа въ спальной, отправилась къ гувернанткѣ попросить у нея мелочи, чтобы расплатиться съ извозчикомъ. Войдя къ нѣмкѣ, она увидала картину: на кровати, вся раскинувшись отъ жары, спала Розалія Карловна, а на сажень отъ нея, на плетеномъ сундукѣ, свернувшись калачикомъ, похрапывалъ сномъ праведника ея мужъ. Онъ былъ босъ и въ одномъ нижнемъ. Что сказала жена и какъ глупа была физіономія мужа, когда онъ проснулся, предоставляю изображать другимъ. Я же, въ безсиліи, слагаю оружіе.
«Осколки», 1885, № 23.
Кривое зеркало. Святочный разсказъ.
Я и жена вошли въ гостиную. Тамъ пахло мохомъ и сыростью. Милліоны крысъ и мышей бросились въ стороны, когда мы освѣтили стѣны, не видавшія свѣта въ продолженіе цѣлаго столѣтія. Когда мы затворили за собой дверь, пахнулъ вѣтеръ и зашевелилъ бумагу, стопами лежавшую въ углахъ. Свѣтъ упалъ на эту бумагу и мы увидѣли старинныя письмена и средневѣковыя изображенія. На позеленѣвшихъ отъ времени стѣнахъ висѣли портреты предковъ. Предки глядѣли надменно, сурово, какъ будто хотѣли сказать:
— Выпороть бы тебя, братецъ!
Шаги наши раздавались по всему дому. Моему кашлю отвѣчало эхо, то самое эхо, которое когда-то отвѣчало моимъ предкамъ…
А вѣтеръ вылъ и стоналъ. Въ каминной трубѣ кто-то плакалъ, и въ этомъ плачѣ слышалось отчаяніе. Крупныя капли дождя стучали въ темныя, тусклыя окна, и ихъ стукъ наводилъ тоску.
— О, предки, предки! — сказалъ я, вздыхая значительно. — Если бы я былъ писателемъ, то, глядя на портреты, написалъ бы длинный романъ. Вѣдь каждый изъ этихъ старцевъ былъ когда-то молодъ и у каждаго, или у каждой, былъ романъ… и какой романъ! Взгляни, напримѣръ, на эту старушку, мою прабабушку. Эта некрасивая, уродливая женщина имѣетъ свою въ высшей степени интересную повѣсть. Видишь ли ты, — спросилъ я у жены: — видишь ли зеркало, которое виситъ тамъ въ углу?
И я указалъ женѣ на большое зеркало въ черной бронзовой оправѣ, висѣвшее въ углу около портрета моей прабабушки.
— Это зеркало обладаетъ волшебными свойствами: оно погубило мою прабабушку. Она заплатила за него громадныя деньги и не разставалась съ нимъ до самой смерти. Она смотрѣлась въ него дни и ночи, не переставая, смотрѣлась даже, когда пила и ѣла. Ложась спать, она всякій разъ клала его съ собой въ постель и, умирая, просила положить его съ ней вмѣстѣ въ гробъ. Не исполнили ея желанія только потому, что зеркало не влѣзло въ гробъ.
— Она была кокетка? — спросила жена.
— Положимъ. Но развѣ у нея не было другихъ зеркалъ? Почему она такъ полюбила именно это зеркало, а не другое какое-нибудь? И развѣ у нея не было зеркалъ получше? Нѣтъ, тутъ, милая, кроется какая-то ужасная тайна. Не иначе. Преданіе говоритъ, что въ зеркалѣ сидитъ чортъ и что у прабабушки-де была слабость къ чертямъ. Конечно, это вздоръ, но несомнѣнно, что зеркало въ бронзовой оправѣ обладаетъ таинственной силой.
Я смахнулъ съ зеркала пыль, поглядѣлъ въ него и захохоталъ. Хохоту моему глухо отвѣтило эхо. Зеркало было криво и физіономію мою скривило во всѣ стороны: носъ очутился на лѣвой щекѣ, а подбородокъ раздвоился и полѣзъ въ сторону.
— Странный вкусъ у моей прабабушки! — сказалъ я.
Жена нерѣшительно подошла къ зеркалу, тоже взглянула въ него — и тотчасъ же произошло нѣчто ужасное. Она поблѣднѣла, затряслась всѣми членами и вскрикнула. Подсвѣчникъ выпалъ у нея изъ рукъ, покатился по полу и свѣча потухла. Насъ окуталъ мракъ. Тотчасъ же я услышалъ паденіе на полъ чего-то тяжелаго: то упала безъ чувствъ моя жена.
Вѣтеръ застоналъ еще жалобнѣй, забѣгали крысы, въ бумагахъ зашуршали мыши. Волосы мои стали дыбомъ и зашевелились, когда съ окна сорвалась ставня и полетѣла внизъ. Въ окнѣ показалась луна…
Я схватилъ жену, обнялъ и вынесъ ее изъ жилища предковъ. Очнулась она только на другой день вечеромъ.
— Зеркало! Дайте мнѣ зеркало! — сказала она, приходя въ себя. — Гдѣ зеркало?
Цѣлую недѣлю потомъ она не пила, не ѣла, не спала, а все просила, чтобы ей принесли зеркало. Она рыдала, рвала волосы на головѣ, металась, и наконецъ, когда докторъ объявилъ, что она можетъ умереть отъ истощенія и что положеніе ея въ высшей степени опасно, я, пересиливая свой страхъ, опять спустился внизъ и принесъ ей оттуда прабабушкино зеркало. Увидѣвъ его, она захохотала отъ счастья, потомъ схватила его, поцѣловала и впилась въ него глазами.
И вотъ прошло уже болѣе десяти лѣтъ, а она все еще глядится въ зеркало и не отрывается ни на одно мгновеніе.
— Неужели это я? — шепчетъ она, и на лицѣ ея вмѣстѣ съ румянцемъ вспыхиваетъ выраженіе блаженства и восторга. — Да, это я! Все лжетъ, кромѣ этого зеркала! Лгутъ люди, лжетъ мужъ! О, если бы я раньше увидѣла себя, если бы я знала, какая я на самомъ дѣлѣ, то не вышла бы за этого человѣка! Онъ не достоинъ меня! У ногъ моихъ должны лежать самые прекрасные, самые благородные рыцари!…
Однажды, стоя позади жены, я нечаянно поглядѣлъ въ зеркало и — открылъ страшную тайну. Въ зеркалѣ я увидѣлъ женщину ослѣпительной красоты, какой я не встрѣчалъ никогда въ жизни. Это было чудо природы, гармонія красоты, изящества и любви. Но въ чемъ же дѣло? Что случилось? Отчего моя некрасивая, неуклюжая жена въ зеркалѣ казалась такой прекрасной? Отчего?
А оттого, что кривое зеркало покривило некрасивое лицо моей жены во всѣ стороны, и отъ такого перемѣщенія его чертъ оно стало случайно прекраснымъ. Минусъ на минусъ дало плюсъ.
И теперь мы оба, я и жена, сидимъ передъ зеркаломъ и, не отрываясь ни на одну минуту, смотримъ въ него: носъ мой лѣзетъ на лѣвую щеку, подбородокъ раздвоился и сдвинулся въ сторону, но лицо жены очаровательно — и бѣшеная, безумная страсть овладѣваетъ мною.
— Ха-ха-ха! — дико хохочу я.
А жена шепчетъ едва слышно:
— Какъ я прекрасна!
«Зритель», 1883, № 2.
На кладбищѣ.
— Господа, вѣтеръ поднялся, и уже начинаетъ темнѣть. Не убраться ли намъ по добру, по здорову?
Вѣтеръ прогулялся по желтой листвѣ старыхъ березъ, и съ листьевъ посыпался на насъ градъ крупныхъ капель. Одинъ изъ нашихъ поскользнулся на глинистой почвѣ и, чтобы не упасть, ухватился за большой сѣрый крестъ.
— «Титулярный совѣтникъ и кавалеръ Егоръ Грязноруковъ…» — прочелъ онъ. — Я зналъ этого господина… Любилъ жену, носилъ Станислава, ничего не читалъ… Желудокъ его варилъ исправно… Чѣмъ не жизнь? Не нужно бы, кажется, и умирать, но — увы! — случай стерегъ его… Бѣдняга палъ жертвою своей наблюдательности. Однажды, подслушивая, получилъ такой ударъ двери въ голову, что схватилъ сотрясеніе мозга (у него былъ мозгъ) и умеръ… А вотъ подъ этимъ памятникомъ лежитъ человѣкъ, съ пеленокъ ненавидѣвшій стихи, эпиграммы… Словно въ насмѣшку, весь его памятникъ испещренъ стихами… Кто-то идетъ!
Съ нами поровнялся человѣкъ въ поношенномъ пальто и съ бритой, синевато-багровой физіономіей. Подъ мышкой у него былъ полуштофъ, изъ кармана торчалъ свертокъ съ колбасой.
— Гдѣ здѣсь могила актера Мушкина? — спросилъ онъ насъ хриплымъ голосомъ.
Мы повели его къ могилѣ актера Мушкина, умершаго года два назадъ.
— Чиновникъ будете? — спросили мы у него.
— Нѣтъ-съ, актеръ… Нынче актера трудно отличить отъ консисторскаго чиновника. Вы это вѣрно замѣтили… Характерно, хотя для чиновника и не совсѣмъ лестно-съ.
Насилу мы нашли могилу актера Мушкина. Она осунулась, поросла плевеломъ и утеряла образъ могилы… Маленькій дешевый крестикъ, похилившійся и поросшій зеленымъ, почернѣвшимъ отъ холода мохомъ, смотрѣлъ старчески-уныло и словно хворалъ.
— «…забвенному другу Мушкину»… — прочли мы.
Время стерло частицу не и исправило человѣческую ложь.
— Актеры и газетчики собрали ему на памятникъ и… пропили, голубчики… — вздохнулъ актеръ, кладя земной поклонъ и касаясь колѣнами и шапкой мокрой земли.
— То-есть, какъ же пропили?
— Очень просто. Собрали деньги, напечатали объ этомъ въ газетахъ и пропили… Это я не для осужденія говорю, а такъ… На здоровье, ангелы! Вамъ на здоровье, а ему память вѣчная.
— Отъ пропивки плохое здоровье, а память вѣчная — одна грусть. Дай Богъ временную память, а насчетъ вѣчной — что ужъ!
— Это вы вѣрно-съ. Извѣстный вѣдь былъ Мушкинъ, вѣнковъ за гробомъ штукъ десять несли, а ужъ забыли! Кому любъ онъ былъ, тѣ его забыли, а кому зло сдѣлалъ, тѣ помнятъ. Я, напримѣръ, его во-вѣки-вѣковъ не забуду, потому, кромѣ зла, ничего отъ него не видѣлъ. Не люблю покойника.
— Какое же онъ вамъ зло сдѣлалъ?
— Зло великое, — вздохнулъ актеръ, и по лицу его разлилось выраженіе горькой обиды. — Злодѣй онъ былъ для меня и разбойникъ, царство ему небесное. На него глядючи и его слушаючи, я въ актеры поступилъ. Выманилъ онъ меня своимъ искусствомъ изъ дома родительскаго, прельстилъ суетой артистической, много обѣщалъ, а далъ слезы и горе… Горька доля актерская! Потерялъ я и молодость, и трезвость, и образъ Божій… За душой ни гроша, каблуки кривые, на штанахъ бахрома и шахматы, ликъ словно собаками изгрызенъ… Въ головѣ свободомысліе и неразуміе… Отнялъ онъ у меня и вѣру, злодѣй мой! Добро бы талантъ былъ, а то такъ, ни за грошъ пропалъ… Холодно, господа почтенные… Не желаете ли? На всѣхъ хватитъ… Бррр… Выпьемъ за упокой! Хоть и не люблю его, хоть и мертвый онъ, а одинъ онъ у меня на свѣтѣ, одинъ, какъ перстъ. Въ послѣдній разъ съ нимъ вижусь… Доктора сказали, что скоро отъ пьянства помру, такъ вотъ пришелъ проститься. Враговъ прощать надо.
Мы оставили актера бесѣдовать съ мертвымъ Мушкинымъ и пошли далѣе. Заморосилъ мелкій холодный дождь.
При поворотѣ на главную аллею, усыпанную щебнемъ, мы встрѣтили похоронную процессію. Четыре носильщика въ бѣлыхъ коленкоровыхъ поясахъ и въ грязныхъ сапогахъ, облѣпленныхъ листвой, несли коричневый гробъ. Становилось темно, и они спѣшили, спотыкаясь и покачивая носилками…
— Гуляемъ мы здѣсь только два часа, а при насъ уже третьяго несутъ… По домамъ, господа?
«Осколки», 1884, № 40.
Сапоги.
Фортепіанный настройщикъ Муркинъ, бритый человѣкъ съ желтымъ лицомъ, табачнымъ носомъ и съ ватой въ ушахъ, вышелъ изъ своего номера въ коридоръ и дребезжащимъ голосомъ прокричалъ:
— Семенъ! Коридорный!
И глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка, или что онъ только-что у себя въ номерѣ увидѣлъ привидѣніе.
— Помилуй, Семенъ! — закричалъ онъ, увидѣвъ бѣгущаго къ нему коридорнаго. — Что же это такое? Я человѣкъ ревматическій, болѣзненный, а ты заставляешь меня выходить босикомъ! Отчего ты до сихъ поръ не даешь мнѣ сапогъ? Гдѣ они?
Семенъ вошелъ въ номеръ Муркина, поглядѣлъ на то мѣсто, гдѣ онъ имѣлъ обыкновеніе ставить вычищенные сапоги, и почесалъ затылокъ: сапогъ не было.
— Гдѣ жъ имъ быть, проклятымъ? — проговорилъ Семенъ. — Вечеромъ, кажись, чистилъ и тутъ поставилъ… Гм!… Вчерась, признаться, выпивши былъ… Должно полагать, въ другой номеръ поставилъ. Именно такъ и есть, Афанасій Егорычъ, въ другой номеръ! Сапогъ-то много, а чортъ ихъ въ пьяномъ видѣ разберетъ, ежели себя не помнишь… Должно, къ барынѣ поставилъ, что рядомъ живетъ… къ актрисѣ…
— Изволь я теперь изъ-за тебя идти къ барынѣ безпокоить! Изволь вотъ изъ-за пустяка будить честную женщину!
Вздыхая и кашляя, Муркинъ подошелъ къ двери сосѣдняго номера и осторожно постучалъ.
— Кто тамъ? — послышался черезъ минуту женскій голосъ.
— Это я-съ! — началъ жалобнымъ голосомъ Муркинъ, становясь въ позу кавалера, говорящаго съ великосвѣтской дамой. — Извините за безпокойство, сударыня, но я человѣкъ болѣзненный, ревматическій… Мнѣ, сударыня, доктора велѣли ноги въ теплѣ держать, тѣмъ болѣе, что мнѣ сейчасъ нужно идти настраивать рояль къ генеральшѣ Шевелицыной. Не могу же я къ ней босикомъ идти!…
— Да вамъ что нужно? Какой рояль?
— Не рояль, сударыня, а въ отношеніи сапогъ! Невѣжда Семенъ почистилъ мои сапоги и по ошибкѣ поставилъ въ вашъ номеръ. Будьте, сударыня, столь достолюбезны, дайте мнѣ мои сапоги!
Послышалось шуршанье, прыжокъ съ кровати и шлепанье туфель, послѣ чего дверь слегка отворилась, и пухлая женская ручка бросила къ ногамъ Муркина пару сапогъ. Настройщикъ поблагодарилъ и отправился къ себѣ въ номеръ.
— Странно… — пробормоталъ онъ, надѣвая сапогъ. — Словно какъ будто это не правый сапогъ. Да тутъ два лѣвыхъ сапога! Оба лѣвые! Послушай, Семенъ, да это не мои сапоги! Мои сапоги съ красными ушками и безъ латокъ, а это какіе-то порванные, безъ ушекъ!
Семенъ поднялъ сапоги, перевернулъ ихъ нѣсколько разъ передъ своими глазами и нахмурился.
— Это сапоги Павла Александрыча… — проворчалъ онъ, глядя искоса.
Онъ былъ косъ на лѣвый глазъ.
— Какого Павла Александрыча?
— Актера… каждый вторникъ сюда ходитъ… Стало-быть, это онъ вмѣсто своихъ ваши надѣлъ… Я къ ней въ номеръ поставилъ, значитъ, обѣ пары: его и ваши. Комиссія!
— Такъ поди и перемѣни!
— Здравствуйте! — усмѣхнулся Семенъ. — Поди и перемѣни… А гдѣ жъ мнѣ взять его теперь? Ужъ часъ времени, какъ ушелъ… Поди, ищи вѣтра въ полѣ!
— Гдѣ же онъ живетъ?
— А кто жъ его знаетъ! Приходитъ сюда каждый вторникъ, а гдѣ живетъ — намъ неизвѣстно. Придетъ, переночуетъ, и жди до другого вторника…
— Вотъ видишь, свинья, что ты надѣлалъ! Ну, что мнѣ теперь дѣлать! Мнѣ къ генеральшѣ Шевелицыной пора, анаѳема ты этакая! У меня ноги озябли!
— Перемѣнить сапоги недолго. Надѣньте эти сапоги, походите въ нихъ до вечера, а вечеромъ въ театръ… Актера Блистанова тамъ спросите… Ежели въ театръ не хотите, то придется до того вторника ждать. Только по вторникамъ сюда и ходитъ…
— Но почему же тутъ два лѣвыхъ сапога? — опросилъ настройщикъ, брезгливо берясь за сапоги.
— Какіе Богъ послалъ, такіе и носитъ. По бѣдности… Гдѣ актеру взять?… «Да и сапоги же, говорю, у васъ, Павелъ Александрычъ! Чистая срамота!» А онъ и говоритъ: «Умолкни, говоритъ, и блѣднѣй! Въ этихъ самыхъ сапогахъ, говоритъ, я графовъ и князей игралъ!» Чудной народъ! Одно слово, артистъ. Будь я губернаторъ, или какой начальникъ, забралъ бы всѣхъ этихъ актеровъ — и въ острогъ.
Безконечно кряхтя и морщась, Муркинъ натянулъ на свои ноги два лѣвыхъ сапога и, прихрамывая, отравился къ генеральшѣ Шевелицыной. Цѣлый день ходилъ онъ по городу, настраивалъ фортепіано и цѣлый день ему казалось, что весь міръ глядитъ на его ноги и видитъ на нихъ сапоги съ латками и съ покривившимися каблуками! Кромѣ нравственныхъ мукъ, ему пришлось еще испытать и физическія: онъ натеръ себѣ мозоль.
Вечеромъ онъ былъ въ театрѣ. Давали «Синюю Бороду». Только передъ послѣднимъ дѣйствіемъ, и то благодаря протекціи знакомаго флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя въ мужскую уборную, онъ засталъ въ ней весь мужской персоналъ. Одни переодѣвались, другіе мазались, третьи курили. Синяя Борода стоялъ съ королемъ Бобешемъ и показывалъ ему револьверъ.
— Купи! — говорилъ Синяя Борода. — Самъ купилъ въ Курскѣ по случаю за восемь, ну, а тебѣ отдамъ за шесть… Замѣчательный бой!
— Поосторожнѣй… Заряженъ вѣдь!
— Могу ли я видѣть господина Блистанова? — спросилъ вошедшій настройщикъ.
— Я самый! — повернулся къ нему Синяя Борода. — Что вамъ угодно?
— Извините, сударь, за безпокойство, — началъ настройщикъ умоляющимъ голосомъ: — но, вѣрьте… я человѣкъ болѣзненный, ревматическій… Мнѣ доктора приказали ноги въ теплѣ держать…
— Да вамъ, собственно говоря, что угодно?
— Видите ли-съ… — продолжалъ настройщикъ, обращаясь къ Синей Бородѣ. — Того-съ… эту ночь вы изволили быть въ меблированныхъ комнатахъ купца Бухтѣева… въ 64 номерѣ…
— Ну, что врать-то! — усмѣхнулся король Бобешъ. — Въ 64 номерѣ моя жена живетъ!
— Жена-съ? Очень пріятно-съ… — Муркинъ улыбнулся. — Онѣ-то, ваша супруга, собственно мнѣ и выдали ихніе сапоги… Когда они, — настройщикъ указалъ на Блистанова: — отъ нихъ ушли-съ, я хватился своихъ сапогъ… кричу, знаете ли, коридорнаго, а коридорный и говоритъ: «Да я, сударь, ваши сапоги въ сосѣдній номеръ поставилъ!» Онъ по ошибкѣ, будучи въ состояніи опьянѣнія, поставилъ въ 64 номеръ мои сапоги и ваши-съ, — повернулся Муркинъ къ Блистанову: — а вы, уходя вотъ отъ ихней супруги, надѣли мои-съ…
— Да вы что же это? — проговорилъ Блистановъ и нахмурился. — Сплетничать сюда пришли, что ли?
— Нисколько-съ! Храни меня Богъ-съ! Вы меня не поняли-съ… Я вѣдь насчетъ чего? Насчетъ сапогъ! Вы вѣдь изволили ночевать въ 64 номерѣ?
— Когда?
— Въ эту ночь-съ.
— А вы меня тамъ видѣли?
— Нѣтъ-съ, не видѣлъ-съ, — отвѣтилъ Муркинъ въ сильномъ смущеніи, садясь и быстро снимая сапоги. — Я не видѣлъ-съ, но мнѣ ваши сапоги вотъ ихняя супруга выбросила… Это вмѣсто моихъ-съ.
— Такъ какое же вы имѣете право, милостивый государь, утверждать подобныя вещи? Не говорю ужъ о себѣ, но вы оскорбляете женщину, да еще въ присутствіи ея мужа!
За кулисами поднялся страшный шумъ. Король Бобешъ, оскорбленный мужъ, вдругъ побагровѣлъ и изо всей силы ударилъ кулакомъ по столу, такъ что въ уборной по сосѣдству съ двумя актрисами сдѣлалось дурно.
— И ты вѣришь? — кричалъ ему Синяя Борода. — Ты вѣришь этому негодяю? О-о! Хочешь, я убью его, какъ собаку? Хочешь? Я изъ него бивштексъ сдѣлаю! Я его размозжу!
И всѣ, гулявшіе въ этотъ вечеръ въ городскомъ саду около лѣтняго театра, разсказываютъ теперь, что они видѣли, какъ передъ четвертымъ актомъ отъ театра по главной аллеѣ промчался босой человѣкъ съ желтымъ лицомъ и съ глазами, полными ужаса. За нимъ гнался человѣкъ въ костюмѣ Синей Бороды и съ револьверомъ въ рукѣ. Что случилось далѣе — никто не видѣлъ. Извѣстно только, что Муркинъ потомъ, послѣ знакомства съ Блистановымъ, двѣ недѣли лежалъ больной и къ словамъ: «я человѣкъ болѣзненный, ревматическій» сталъ прибавлять еще — «я человѣкъ раненый»…
«Петербургская газета», 1885, № 149.
Радость.
Было двѣнадцать часовъ ночи.
Митя Кулдаровъ, возбужденный, взъерошенный, влетѣлъ въ квартиру своихъ родителей и быстро заходилъ по всѣмъ комнатамъ. Родители уже ложились спать. Сестра лежала въ постели и дочитывала послѣднюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.
— Откуда ты? — удивились родители. — Что съ тобой?
— Охъ, не спрашивайте! Я никакъ не ожидалъ! Нѣтъ, я никакъ не ожидалъ! Это… это даже невѣроятно!
Митя захохоталъ и сѣлъ въ кресло, будучи не въ силахъ держаться на ногахъ отъ счастья.
— Это невѣроятно! Вы не можете себѣ представить! Вы поглядите!
Сестра спрыгнула съ постели и, накинувъ на себя одѣяло, подошла къ брату. Гимназисты проснулись.
— Что съ тобой? На тебѣ лица нѣтъ!
— Это я отъ радости, мамаша! Вѣдь теперь меня знаетъ вся Россія! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этомъ свѣтѣ существуетъ коллежскій регистраторъ Дмитрій Кулдаровъ, а теперь вся Россія знаетъ объ этомъ! Мамаша! О, Господи!
Митя вскочилъ, побѣгалъ по всѣмъ комнатамъ и опять сѣлъ.
— Да что такое случилось? Говори толкомъ!
— Вы живете, какъ дикіе звѣри, газетъ не читаете, не обращаете никакого вниманія на гласность, а въ газетахъ такъ много замѣчательнаго! Ежели что случится, сейчасъ все извѣстно, ничего не укроется! Какъ я счастливъ! О, Господи! Вѣдь только про знаменитыхъ людей въ газетахъ печатаютъ, а тутъ взяли да про меня напечатали!
— Что ты? Гдѣ?
Папаша поблѣднѣлъ. Мамаша взглянула на образъ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, какъ были, въ однѣхъ короткихъ ночныхъ сорочкахъ, подошли къ своему старшему брату.
— Да-съ! Про меня напечатали! Теперь обо мнѣ вся Россія знаетъ! Вы, мамаша, — спрячьте этотъ нумеръ на память! Будемъ читать иногда. Поглядите!
Митя вытащилъ изъ кармана нумеръ газеты, подалъ отцу и ткнулъ пальцемъ въ мѣсто, обведенное синимъ карандашомъ.
— Читайте!
Отецъ надѣлъ очки.
— Читайте же!
Мамаша взглянула на образъ и перекрестилась. Папаша кашлянулъ и началъ читать:
«29-го декабря, въ одиннадцать часовъ вечера, коллежскій регистраторъ Дмитрій Кулдаровъ…
— Видите, видите? Дальше!
… коллежскій регистраторъ Дмитрій Кулдаровъ, выходя изъ портерной, что на Малой Бронной, въ домѣ Козихина, и находясь въ нетрезвомъ состояніи…
— Это я съ Семеномъ Петровичемъ… Все до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!
… и находясь въ нетрезвомъ состояніи, поскользнулся и упалъ подъ лошадь стоявшаго здѣсь извозчика, крестьянина дер. Дурыкиной, Юхновскаго уѣзда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнувъ черезъ Кулдарова и протащивъ черезъ него сани съ находившимся въ нихъ второй гильдіи московскимъ купцомъ Степаномъ Луковымъ, помчалась по улицѣ и была задержана дворниками. Кулдаровъ, вначалѣ находясь въ безчувственномъ состояніи, былъ отведенъ въ полицейскій участокъ и освидѣтельствованъ врачомъ. Ударъ, который онъ получилъ по затылку…
— Это я объ оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!
… который онъ получилъ по затылку, отнесенъ къ легкимъ. О случившемся составленъ протоколъ. Потерпѣвшему подана медицинская помощь»…
— Велѣли затылокъ холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вотъ! Теперь по всей Россіи пошло! Дайте сюда!
Митя схватилъ газету, сложилъ ее и сунулъ въ карманъ.
— Побѣгу къ Макаровымъ, имъ покажу… Надо еще Иваницкимъ показать, Наталіи Ивановнѣ, Анисиму Васильичу… Побѣгу! Прощайте!
Митя надѣлъ фуражку съ кокардой и, торжествующій, радостный, выбѣжалъ на улицу.
«Зритель», 1883, № 3.
Умный дворникъ.
Посреди кухни стоялъ дворникъ Филиппъ и читалъ наставленіе. Его слушали лакеи, кучеръ, двѣ горничныя, поваръ, кухарка и два мальчика-поваренка, его родныя дѣти. Каждое утро онъ что-нибудь да проповѣдывалъ, въ это же утро предметомъ рѣчи его было просвѣщеніе.
— И живете вы всѣ какъ какой-нибудь свинячій народъ, — говорилъ онъ, держа въ рукахъ шапку съ бляхой. — Сидите вы тутъ сиднемъ и кромѣ невѣжества не видать въ васъ никакой цивилизаціи. Мишка въ шашки играетъ, Матрена орѣшки щелкаетъ, Никифоръ зубы скалитъ. Нешто это умъ? Это не отъ ума, а отъ глупости. Нисколько нѣтъ въ васъ умственныхъ способностей! А почему?
— Оно дѣйствительно, Филиппъ Никандрычъ, — замѣтилъ поваръ. — Извѣстно, какой въ насъ умъ? Мужицкій. Нешто мы понимаемъ?
— А почему въ васъ нѣтъ умственныхъ способностей? — продолжалъ дворникъ. — Потому что нѣтъ у вашего брата настоящей точки. И книжекъ вы не читаете, и насчетъ писаній нѣтъ у васъ никакого смысла. Взяли бы книжечку, сѣли бы себѣ, да почитали. Грамотны небось, разбираете печатное. Вотъ ты, Миша, взялъ бы книжечку, да прочелъ бы тутъ. Тебѣ польза, да и другимъ пріятность. А въ книжкахъ обо всѣхъ предметахъ распространеніе. Тамъ и объ естествѣ найдешь, и о божествѣ, о странахъ земныхъ. Что изъ чего дѣлается, какъ разный народъ на всѣхъ язы́кахъ. И идолопоклонство тоже. Обо всемъ въ книжкахъ найдешь, была бы охота. А то сидитъ себѣ около печи, жретъ да пьетъ. Чисто какъ скоты неподобные! Тьфу!
— Вамъ, Никандрычъ, на часы пора, — замѣтила кухарка.
— Знаю. Не твое дѣло мнѣ указывать. Вотъ, къ примѣру скажемъ, хоть меня взять. Какое мое занятіе при моемъ старческомъ возрастѣ? Чѣмъ душу свою удовлетворить? Лучше нѣтъ, какъ книжка, или вѣдомости. Сейчасъ, вотъ пойду на часы. Просижу у воротъ часа три. И вы думаете, зѣвать буду, или пустяки съ бабами болтать? Нѣ-ѣтъ, не таковскій! Возьму съ собой книжечку, сяду и буду читать себѣ въ полное удовольствіе. Такъ-то.
Филиппъ досталъ изъ шкапа истрепанную книжку и сунулъ ее за пазуху.
— Вотъ оно мое занятіе. Сызмальства привыкъ. Ученье свѣтъ, неученье тьма — слыхали, чай? То-то…
Филиппъ надѣлъ шапку, крякнулъ и, бормоча, вышелъ изъ кухни. Онъ пошелъ за ворота, сѣлъ на скамью и нахмурился, какъ туча.
— Это не народъ, а какіе-то химики свинячіе, — пробормоталъ онъ, все еще думая о кухонномъ населеніи.
Успокоившись, онъ вытащилъ книжку, степенно вздохнулъ и принялся за чтеніе.
«Такъ написано, что лучше и не надо, — подумалъ онъ, прочитавъ первую страницу и покрутивъ головой. — Умудритъ же Господь!»
Книжка была хорошая, московскаго изданія: «Разведеніе корнеплодовъ. Нужна ли намъ брюква». Прочитавъ первыя двѣ страницы, дворникъ значительно покачалъ головой и кашлянулъ.
— Правильно написано!
Прочитавъ третью страничку, Филиппъ задумался. Ему хотѣлось думать объ образованіи и почему-то о французахъ. Голова у него опустилась на грудь, локти уперлись въ колѣна. Глаза прищурились.
И видѣлъ Филиппъ сонъ. Все, видѣлъ онъ, измѣнилось: земля та же самая, дома такіе же, ворота прежнія, но люди совсѣмъ не тѣ стали. Всѣ люди мудрые, нѣтъ ни одного дурака и по улицамъ ходятъ все французы и французы. Водовозъ, и тотъ разсуждаетъ: — «Я, признаться, климатомъ очень недоволенъ и желаю, на градусникъ поглядѣть», а у самого въ рукахъ толстая книга.
— А ты почитай календарь, — говоритъ ему Филиппъ. Кухарка глупа, но и она вмѣшивается въ умные разговоры и вставляетъ свои замѣчанія. Филиппъ идетъ въ участокъ, чтобы прописать жильцовъ, — и странно, даже въ этомъ суровомъ мѣстѣ говорятъ только объ умномъ и вездѣ на столахъ лежатъ книжки. А вотъ кто-то подходитъ къ лакею Мишѣ, толкаетъ его и кричитъ: — «Ты спишь? Я тебя спрашиваю: ты спишь?»
— На часахъ спишь, болванъ? — слышитъ Филиппъ чей-то громовый голосъ. — Спишь, негодяй, скотина?
Филиппъ вскочилъ и протеръ глаза; передъ нимъ стоялъ помощникъ участковаго пристава.
— А? Спишь? Я оштрафую тебя, бестія! Я покажу тебѣ, какъ на часахъ спать, моррда!
Черезъ два часа дворника потребовали въ участокъ. Потомъ онъ опять былъ въ кухнѣ. Тутъ, тронутые его наставленіями, всѣ сидѣли вокругъ стола и слушали Мишу, который читалъ что-то по складамъ.
Филиппъ, нахмуренный, красный, подошелъ къ Мишѣ, ударилъ рукавицей по книгѣ и сказалъ мрачно:
— Брось!
«Зритель», 1883, № 16.
Въ цирульнѣ.
Утро. Еще нѣтъ и семи часовъ, а цирульня Макара Кузьмича Блесткина уже отперта. Хозяинъ, малый лѣтъ двадцати-трехъ, неумытый, засаленный, но франтовато одѣтый, занятъ уборкой. Убирать въ сущности нечего, но онъ вспотѣлъ, работая. Тамъ тряпочкой вытретъ, тамъ пальцемъ сколупнетъ, тамъ клопа найдетъ и смахнетъ его со стѣны.
Цирульня маленькая, узенькая, поганенькая. Бревенчатыя стѣны оклеены обоями, напоминающими полинялую ямщицкую рубаху. Между двумя тусклыми, слезоточивыми окнами — тонкая, скрипучая, тщедушная дверца, надъ нею позеленѣвшій отъ сырости колокольчикъ, который вздрагиваетъ и болѣзненно звенитъ самъ, безъ всякой причины. А поглядите вы въ зеркало, которое виситъ на одной изъ стѣнъ, и вашу физіономію перекоситъ во всѣ стороны самымъ безжалостнымъ образомъ! Передъ этимъ зеркаломъ стригутъ и бреютъ. На столикѣ, такомъ же неумытомъ и засаленномъ, какъ самъ Макаръ Кузьмичъ, все есть: гребенки, ножницы, бритвы, фиксатуара на копейку, пудры на копейку, сильно разведеннаго одеколону на копейку. Да и вся цирульня не стоитъ больше пятиалтыннаго.
Надъ дверью раздается взвизгиванье больного колокольчика, и въ цирульню входитъ пожилой мужчина въ дубленомъ полушубкѣ и валенкахъ. Его голова и шея окутаны женской шалью.
Это Эрастъ Иванычъ Ягодовъ, крестный отецъ Макара Кузьмича. Когда-то онъ служилъ въ консерваторіи въ сторожахъ, теперь же живетъ около Краснаго пруда и занимается слесарствомъ.
— Макарушка, здравствуй, свѣтъ! — говоритъ онъ Макару Кузьмичу, увлекшемуся уборкой.
Цѣлуются. Ягодовъ стаскиваетъ съ головы шаль, крестится и садится.
— Даль-то какая! — говоритъ онъ, кряхтя. — Шутка ли? Отъ Краснаго пруда до Калужскихъ воротъ.
— Какъ поживаете-съ?
— Плохо, братъ. Горячка была.
— Что вы? Горячка!
— Горячка. Мѣсяцъ лежалъ, думалъ, что помру. Соборовался. Теперь волосъ лѣзетъ. Докторъ постричься приказалъ. Волосъ, говоритъ, новый пойдетъ, крѣпкій. Вотъ я и думаю въ умѣ: пойду-ка къ Макару. Чѣмъ къ кому другому, такъ лучше ужъ къ родному. И сдѣлаетъ лучше, и денегъ не возьметъ. Далеконько немножко, оно правда, да вѣдь это что жъ? Та же прогулка.
— Я съ удовольствіемъ. Пожалуйте-съ!
Макаръ Кузьмичъ, шаркнувъ ногой, указываетъ на стулъ. Ягодовъ садится и глядитъ на себя въ зеркало, и видимо доволенъ зрѣлищемъ: въ зеркалѣ получается кривая рожа съ калмыцкими губами, тупымъ широкимъ носомъ и съ глазами на лбу. Макаръ Кузъмичъ покрываетъ плечи своего кліента бѣлой простыней съ желтыми пятнами и начинаетъ визжать ножницами.
— Я васъ на-чисто, догола! — говоритъ онъ.
— Натурально. На татарина чтобъ похожъ былъ, на бомбу. Волосъ гуще пойдетъ.
— Тетенька какъ поживаютъ-съ?
— Ничего, живетъ себѣ. Намедни къ майоршѣ принимать ходила. Рубль дали.
— Такъ-съ. Рубль. Придержите ухо-съ!
— Держу… Не обрѣжь, смотри. Ой, больно! Ты меня за волосы дергаешь.
— Это ничего-съ. Безъ этаго въ нашемъ дѣлѣ невозможно. А какъ поживаютъ Анна Эрастовна?
— Дочка? Ничего, прыгаетъ. На прошлой недѣлѣ, въ среду, за Шейкина просватали. Отчего не приходилъ?
Ножницы перестаютъ визжать. Макаръ Кузьмичъ опускаетъ руки и спрашиваетъ испуганно:
— Кого просватали?
— Анну.
— Это какъ же-съ? За кого?
— За Шейкина, Прокофія Петрова. Въ Златоустенскомъ переулкѣ его тетка въ экономкахъ. Хорошая женщина. Натурально, всѣ мы рады, слава Богу. Черезъ недѣлю свадьба. Приходи, погуляемъ.
— Да какъ же это такъ, Эрастъ Иванычъ? — говоритъ Макаръ Кузьмичъ, блѣдный, удивленный, и пожимаетъ плечами. — Какъ же это возможно? Это… это никакъ невозможно! Вѣдь Анна Эрастовна… вѣдь я… вѣдь я чувства къ ней питалъ, я намѣреніе имѣлъ. Какъ же такъ?
— Да такъ. Взяли и просватали. Человѣкъ хорошій.
На лицѣ у Макара Кузьмича выступаетъ холодный потъ. Онъ кладетъ на столъ ножницы и начинаетъ тереть себѣ кулакомъ носъ.
— Я намѣреніе имѣлъ… — говоритъ онъ. — Это невозможно, Эрастъ Иванычъ! Я… я влюбленъ и предложеніе сердца дѣлалъ… И тетенька обѣщали. Я всегда уважалъ васъ все равно, какъ родителя… стригу васъ всегда задаромъ. Всегда вы отъ меня одолженіе имѣли и, когда мой папаша скончался, вы взяли диванъ и десять рублей денегъ и назадъ мнѣ не вернули. Помните?
— Какъ не помнить! Помню. Только какой же ты женихъ, Макаръ? Нешто ты женихъ? Ни денегъ, ни званія, ремесло пустяшное…
— А Шейкинъ богатый?
— Шейнинъ въ артельщикахъ. У него въ залогѣ лежитъ полторы тысячи. Такъ-то, братъ… Толкуй не толкуй, а дѣло ужъ сдѣлано. Назадъ не воротишь, Макарушка. Другую себѣ ищи невѣсту… Свѣтъ не клиномъ сошелся. Ну, стриги! Что же стоишь?
Макаръ Кузьмичъ молчитъ и стоитъ недвижимъ, потомъ достаетъ изъ кармана платочекъ и начинаетъ плакать.
— Ну, чего! — утѣшаетъ его Эрастъ Иванычъ. — Брось! Эка, реветъ, словно баба! Ты оканчивай мою голову, да тогда и плачь. Бери ножницы!
Макаръ Кузьмичъ беретъ ножницы, минуту глядитъ на нихъ безмысленно и роняетъ на столъ. Руки у него трясутся.
— Не могу! — говоритъ онъ. — Не могу сейчасъ, силы моей нѣтъ! Несчастный я человѣкъ! И она несчастная! Любили мы другъ друга, обѣщались, и разлучили насъ люди недобрые безъ всякой жалости. Уходите, Эрастъ Иванычъ! Не могу я васъ видѣть.
— Такъ я завтра приду, Макарушка. Завтра дострижешь.
— Ладно.
— Поуспокойся, а я къ тебѣ завтра, пораньше утромъ.
У Эраста Иваныча половина головы выстрижена до гола, и онъ похожъ на каторжника. Неловко оставаться съ такой головой, но дѣлать нечего. Онъ окутываетъ голову и шею шалью и выходитъ изъ цирульни. Оставшись одинъ, Макаръ Кузьмичъ садится и продолжаетъ плакать потихоньку.
На другой день рано утромъ, опять приходитъ Эрастъ Иванычъ.
— Вамъ что угодно-съ? — спрашиваетъ его холодно Макаръ Кузьмичъ.
— Достриги, Макарушка. Полголовы еще осталось.
— Пожалуйте деньги впередъ. Задаромъ не стригу-съ.
Эрастъ Иванычъ, не говоря ни слова, уходитъ, и до сихъ поръ еще у него на одной половинѣ головы волосы длинные, а на другой — короткіе. Стрижку за деньги онъ считаетъ роскошью и ждетъ, когда на остриженной половинѣ волосы сами вырастутъ. Такъ и на свадьбѣ гулялъ.
«Зритель», 1883, № 10.
Сапожникъ и нечистая сила.
Былъ канунъ Рождества. Марья давно уже храпѣла на печи, въ лампочкѣ выгорѣлъ весь керосинъ, а Ѳедоръ Ниловъ все сидѣлъ и работалъ. Онъ давно бы бросилъ работу и вышелъ на улицу, но заказчикъ изъ Колокольнаго переулка, заказавшій ему головки двѣ недѣли назадъ, былъ вчера, бранился и приказалъ кончить сапоги непремѣнно теперь, до утрени.
— Жизнь каторжная! — ворчалъ Ѳедоръ, работая. — Одни люди спятъ давно, другіе гуляютъ, а ты вотъ, какъ Каинъ какой, сиди и шей чортъ знаетъ на кого…
Чтобъ не уснуть какъ-нибудь нечаянно, онъ то и дѣло доставалъ изъ-подъ стола бутылку и пилъ изъ горлышка и послѣ каждаго глотка крутилъ головой и говорилъ громко:
— Съ какой такой стати, скажите на милость, заказчики гуляютъ, а я обязанъ шить на нихъ? Оттого, что у нихъ деньги есть, а я нищій?
Онъ ненавидѣлъ всѣхъ заказчиковъ, особенно того, который жилъ въ Колокольномъ переулкѣ. Это былъ господинъ мрачнаго вида, длинноволосый, желтолицый, въ большихъ синихъ очкахъ и съ сиплымъ голосомъ. Фамилія у него была нѣмецкая, такая, что не выговоришь. Какого онъ былъ званія и чѣмъ занимался, понять было невозможно. Когда, двѣ недѣли назадъ, Ѳедоръ пришелъ къ нему снимать мѣрку, онъ, заказчикъ, сидѣлъ на полу и толокъ что-то въ ступкѣ. Не успѣлъ Ѳедоръ поздороваться, какъ содержимое ступки вдругъ вспыхнуло и загорѣлось яркимъ, краснымъ пламенемъ, завоняло сѣрой и жжеными перьями, и комната наполнилась густымъ, розовымъ дымомъ, такъ что Ѳедоръ разъ пять чихнулъ; и возвращаясь послѣ этого домой, онъ думалъ: «Кто Бога боится, тотъ не станетъ заниматься такими дѣлами».
Когда въ бутылкѣ ничего не осталось, Ѳедоръ положилъ сапоги на столъ и задумался. Онъ подперъ тяжелую голову кулакомъ и сталъ думать о своей бѣдности, о тяжелой безпросвѣтной жизни, потомъ о богачахъ, объ ихъ большихъ домахъ, каретахъ, о сотенныхъ бумажкахъ… Какъ было бы хорошо, если бы у этихъ, чортъ ихъ подери, богачей потрескались дома, подохли лошади, полиняли ихъ шубы и собольи шапки! Какъ бы хорошо, если бы богачи мало-по-малу превратились въ нищихъ, которымъ ѣсть нечего, а бѣдный сапожникъ сталъ бы богачомъ и самъ бы куражился надъ бѣднякомъ-сапожникомъ наканунѣ Рождества.
Мечтая такъ, Ѳедоръ вдругъ вспомнилъ о своей работѣ и открылъ глаза.
«Вотъ такъ исторія! — подумалъ онъ, оглядывая сапоги. — Головки у меня давно ужъ готовы, а я все сижу. Надо нести къ заказчику!»
Онъ завернулъ работу въ красный платокъ, одѣлся и вышелъ на улицу. Шелъ мелкій, жесткій снѣгъ, коловшій лицо какъ иголками. Было холодно, склизко, темно, газовые фонари горѣли тускло и почему-то на улицѣ пахло керосиномъ такъ, что Ѳедоръ сталъ перхать и кашлять. По мостовой взадъ и впередъ ѣздили богачи, и у каждаго богача въ рукахъ былъ окорокъ и четверть водки. Изъ каретъ и саней глядѣли на Ѳедора богатыя барышни, показывали ему языки и кричали со смѣхомъ:
— Нищій! Нищій!
Сзади Ѳедора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его:
— Пьяница! Пьяница! Сапожникъ-безбожникъ, душа голенища! Нищій!
Все это было обидно, но Ѳедоръ молчалъ и только отплевывался. Когда же встрѣтился ему сапожныхъ дѣлъ мастеръ Кузьма Лебедкинъ изъ Варшавы и сказалъ: — «Я женился на богатой, у меня работаютъ подмастерья, а ты нищій, тебѣ ѣсть нечего», — Ѳедоръ не выдержалъ и погнался за нимъ. Гнался онъ до тѣхъ поръ, пока не очутился въ Колокольномъ переулкѣ. Его заказчикъ жилъ въ четвертомъ домѣ отъ угла, въ квартирѣ въ самомъ верхнемъ этажѣ. Къ нему нужно было идти длиннымъ, темнымъ дворомъ и потомъ взбираться вверхъ по очень высокой, скользкой лѣстницѣ, которая шаталась подъ ногами. Когда Ѳедоръ вошелъ къ нему, онъ, какъ и тогда, двѣ недѣли назадъ, сидѣлъ на полу и толокъ что-то въ ступкѣ.
— Ваше высокоблагородіе, сапожки принесъ! — сказалъ угрюмо Ѳедоръ.
Заказчикъ поднялся и молча сталъ примѣрятъ сапоги. Желая помочь ему, Ѳедоръ опустился на одно колѣно и стащилъ съ него старый сапогъ, но тотчасъ же вскочилъ и въ ужасѣ попятился къ двери. У заказчика была не нога, а лошадиное копыто.
«Эге! — подумалъ Ѳедоръ. — Вотъ она какая исторія!»
Первымъ дѣломъ слѣдовало бы перекреститься, потомъ бросить все и бѣжать внизъ; но тотчасъ же онъ сообразилъ, что нечистая сила встрѣтилась ему въ первый и, вѣроятно, въ послѣдній разъ въ жизни и не воспользоваться ея услугами было бы глупо. Онъ пересилилъ себя и рѣшилъ попытать счастья. Заложивъ назадъ руки, чтобъ не креститься, онъ почтительно кашлянулъ и началъ:
— Говорятъ, что нѣтъ поганѣй и хуже на свѣтѣ, какъ нечистая сила, а я такъ понимаю, ваше высокоблагородіе, что нечистая сила самая образованная. У чорта, извините, копыта и хвостъ сзади, да зато у него въ головѣ больше ума, чѣмъ у иного студента.
— Люблю за такія слова, — сказалъ польщенный заказчикъ. — Спасибо, сапожникъ! Что же ты хочешь?
И сапожникъ, не теряя времени, сталъ жаловаться на свою судьбу. Онъ началъ съ того, что съ самаго дѣтства онъ завидовалъ богатымъ. Ему всегда было обидно, что не всѣ люди одинаково живутъ въ большихъ домахъ и ѣздятъ на хорошихъ лошадяхъ. Почему, спрашивается, онъ бѣденъ? Чѣмъ онъ хуже Кузьмы Лебедкина изъ Варшавы, у котораго собственный домъ и жена ходитъ въ шляпкѣ? У него такой же носъ, такія же руки, ноги, голова, спина, какъ у богачей, такъ почему же онъ обязанъ работать, когда другіе гуляютъ? Почему онъ женатъ на Марьѣ, а не на дамѣ, отъ которой пахнетъ духами? Въ домахъ богатыхъ заказчиковъ ему часто приходится видѣть красивыхъ барышень, но онѣ не обращаютъ на него никакого вниманія и только иногда смѣются и шепчутъ другъ другу: — «Какой у этого сапожника красный носъ!» Правда, Марья хорошая, добрая, работящая баба, но вѣдь она необразованная, рука у нея тяжелая и бьется больно, а когда приходится говорить при ней о политикѣ, или о чемъ-нибудь умномъ, то она вмѣшивается и несетъ ужасную чепуху.
— Что же ты хочешь? — перебилъ его заказчикъ.
— А я прошу, ваше высокоблагородіе, Чортъ Иванычъ, коли ваша милость, сдѣлайте меня богатымъ человѣкомъ!
— Изволь. Только вѣдь за это ты долженъ отдать мнѣ свою душу! Пока пѣтухи еще не запѣли, иди и подпиши вотъ на этой бумажкѣ, что отдаешь мнѣ свою душу.
— Ваше высокоблагородіе! — сказалъ Ѳедоръ вѣжливо. — Когда вы мнѣ головки заказывали, я не бралъ съ васъ денегъ впередъ. Надо сначала заказъ исполнить, а потомъ ужъ деньги требовать.
— Ну, ладно! — согласился заказчикъ.
Въ ступкѣ вдругъ вспыхнуло яркое пламя, повалилъ густой розовый дымъ и завоняло жжеными перьями и сѣрой. Когда дымъ разсѣялся, Ѳедоръ протеръ глаза и увидѣлъ, что онъ уже не Ѳедоръ и не сапожникъ, а какой-то другой человѣкъ, въ жилеткѣ и съ цѣпочкой, въ новыхъ брюкахъ, и что сидитъ онъ въ креслѣ за большимъ столомъ. Два лакея подавали ему кушанья, низко кланялись и говорили:
— Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородіе! Какое богатство! Подали лакеи большой кусокъ жареной баранины и миску съ огурцами, потомъ принесли на сковородѣ жаренаго гуся, немного погодя — вареной свинины съ хрѣномъ. И какъ все это благородно, политично! Ѳедоръ ѣлъ и передъ каждымъ блюдомъ выпивалъ по большому стакану отличной водки, точно генералъ какой-нибудь или графъ. Послѣ свинины подали ему каши съ гусинымъ саломъ, потомъ яичницу со свинымъ саломъ и жареную печонку, и онъ все ѣлъ и восхищался. Но что еще? Еще подали пирогъ съ лукомъ и пареную рѣпу съ квасомъ. «И какъ это господа не полопаются отъ такой ѣды!» — думалъ онъ. Въ заключеніе подали большой горшокъ съ медомъ. Послѣ обѣда явился чортъ въ синихъ очкахъ и спросилъ, низко кланяясь:
— Довольны ли вы обѣдомъ, Ѳедоръ Пантелѣичъ?
Но Ѳедоръ не могъ выговорить ни одного слова, такъ его распирало послѣ обѣда. Сытость была непріятная, тяжелая, и, чтобы развлечь себя, онъ сталъ осматривать сапогъ на своей лѣвой ногѣ.
— За такіе сапоги я меньше не бралъ, какъ семь съ полтиной. Какой это сапожникъ шилъ? — спросилъ онъ.
— Кузьма Лебедкинъ, — отвѣтилъ лакей!
— Позвать его, дурака!
Скоро явился Кузьма Лебедкинъ изъ Варшавы. Онъ остановился въ почтительной позѣ у двери и спросилъ:
— Что прикажете, ваше высокоблагородіе?
— Молчать! — крикнулъ Ѳедоръ и топнулъ ногой. — Не смѣй разсуждать и помни свое сапожницкое званіе, какой ты человѣкъ есть! Болванъ! Ты не умѣешь сапоговъ шить! Я тебѣ всю харю побью! Ты зачѣмъ пришелъ?
— За деньгами-съ.
— Какія тебѣ деньги? Вонъ! Въ субботу приходи! Человѣкъ, дай ему въ шею!
Но тотчасъ же онъ вспомнилъ, какъ надъ нимъ самимъ мудрили заказчики, и у него стало тяжело на душѣ, и чтобы развлечь себя, онъ вынулъ изъ кармана толстый бумажникъ и сталъ считать свои деньги. Денегъ было много, но Ѳедору хотѣлось еще больше. Бѣсъ въ синихъ очкахъ принесъ ему другой бумажникъ, потолще, но ему захотѣлось еще больше, и чѣмъ дольше онъ считалъ, тѣмъ недовольнѣе становился.
Вечеромъ нечистый привелъ къ нему высокую, грудастую барыню въ красномъ платьѣ и сказалъ, что это его новая жена. До самой ночи онъ все цѣловался съ ней и ѣлъ пряники. А ночью лежалъ онъ на мягкой, пуховой перинѣ, ворочался съ-боку-на-бокъ и никакъ не могъ уснуть. Ему было жутко.
— Денегъ много, — говорилъ онъ женѣ: — того гляди, воры заберутся. Ты бы пошла со свѣчкой поглядѣла!
Всю ночь не спалъ онъ и то и дѣло вставалъ, чтобы взглянуть, цѣлъ ли сундукъ. Подъ утро надо было идти въ церковь къ утрени. Въ церкви одинаковая честь всѣмъ, богатымъ и бѣднымъ. Когда Ѳедоръ былъ бѣденъ, то молился въ церкви такъ: «Господи, прости меня грѣшнаго!» То же самое говорилъ онъ и теперь, ставши богатымъ. Какая же разница? А послѣ смерти богатаго Ѳедора закопаютъ не въ золото, не въ алмазы, а въ такую же черную землю, какъ и послѣдняго бѣдняка. Горѣть Ѳедоръ будетъ въ томъ же огнѣ, гдѣ и сапожники. Обидно все это казалось Ѳедору, а тутъ еще во всемъ тѣлѣ тяжесть отъ обѣда и вмѣсто молитвы въ голову лѣзутъ разныя мысли о сундукѣ съ деньгами, о ворахъ, о своей проданной, загубленной душѣ.
Вышелъ онъ изъ церкви сердитый. Чтобъ прогнать нехорошія мысли, онъ, какъ часто это бывало раньше, затянулъ во все горло пѣсню. Но только-что онъ началъ, какъ къ нему подбѣжалъ городовой и сказалъ, дѣлая подъ козырекъ:
— Баринъ, нельзя господамъ пѣть на улицѣ! Вы не сапожникъ!
Ѳедоръ прислонился спиной къ забору и сталъ думать: чѣмъ бы развлечься?
— Баринъ! — крикнулъ ему дворникъ. — Не очень-то на заборъ напирай, шубу запачкаешь!
Ѳедоръ пошелъ въ лавку и купилъ себѣ самую лучшую гармонію, потомъ шелъ по улицѣ и игралъ. Всѣ прохожіе указывали на него пальцами и смѣялись.
— А еще тоже баринъ! — дразнили его извозчики. — Словно сапожникъ какой…
— Нешто господамъ можно безобразить? — сказалъ ему городовой. — Вы бы еще въ кабакъ пошли!
— Баринъ, подайте милостыньки Христа-ради! — вопили нищіе, обступая Ѳедора со всѣхъ сторонъ. — Подайте!
Раньше, когда онъ былъ сапожникомъ, нищіе не обращали на него никакого вниманія, теперь же они не давали ему проходу.
А дома встрѣтила его новая жена, барыня, одѣтая въ зеленую кофту и красную юбку. Онъ хотѣлъ приласкать ее и уже размахнулся, чтобы дать ей раза́ въ спину, но она сказала сердито:
— Мужикъ! Невѣжа! Не умѣешь обращаться съ барынями! Коли любишь, то ручку поцѣлуй, а драться не дозволю.
«Ну, жизнь анаѳемская! — подумалъ Ѳедоръ. — Живутъ люди! Ни тебѣ пѣсню запѣть, ни тебѣ на гармоніи, ни тебѣ съ бабой поиграть… Тьфу!»
Только-что онъ сѣлъ съ барыней пить чай, какъ явился нечистый въ синихъ очкахъ и сказалъ:
— Ну, Ѳедоръ Пантелѣичъ, я свое соблюлъ въ точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйте за мной. Теперь вы знаете, что значитъ богато жить, будетъ съ васъ!
И потащилъ Ѳедора въ адъ, прямо въ пекло, и черти слетались со всѣхъ сторонъ и кричали:
— Дуракъ! Болванъ! Оселъ!
Въ аду страшно воняло керосиномъ, такъ что можно было задохнуться.
И вдругъ все исчезло. Ѳедоръ открылъ глаза и увидѣлъ свой столъ, сапоги и жестяную лампочку. Ламповое стекло было черно и отъ маленькаго огонька на фитилѣ валилъ вонючій дымъ, какъ изъ трубы. Около стоялъ заказчикъ въ синихъ очкахъ и кричалъ сердито:
— Дуракъ! Болванъ! Оселъ! Я тебя проучу, мошенника! Взялъ заказъ двѣ недѣли тому назадъ, а сапоги до сихъ поръ не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шляться къ тебѣ за сапогами по пяти разъ на день? Мерзавецъ! Скотина!
Ѳедоръ встряхнулъ головой и принялся за сапоги. Заказчикъ еще долго бранился и грозилъ. Когда онъ, наконецъ, успокоился, Ѳедоръ спросилъ угрюмо:
— А чѣмъ вы, баринъ, занимаетесь?
— Я приготовляю бенгальскіе огни и ракеты. Я пиротехникъ.
Зазвонили къ утрени. Ѳедоръ сдалъ сапоги, получилъ деньги и пошелъ въ церковь.
По улицѣ взадъ и впередъ сновали кареты и сани съ медвѣжьими полостями. По тротуару вмѣстѣ съ простымъ народомъ шли купцы, барыни, офицеры… Но Ѳедоръ ужъ не завидовалъ и не ропталъ на свою судьбу. Теперь ему казалось, что богатымъ и бѣднымъ одинаково дурно. Одни имѣютъ возможность ѣздить въ каретѣ, а другіе — пѣть во все горло пѣсни и играть на гармоникѣ, а въ общемъ всѣхъ ждетъ одно и то же, одна могила, и въ жизни нѣтъ ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души.
«Петербургская газета», 1888, № 355.
Мальчики.
— Володя пріѣхалъ! — крикнулъ кто-то на дворѣ.
— Володичка пріѣхали! — завопила Наталья, вбѣгая въ столовую. — Ахъ, Боже мой!
Вся семья Королевыхъ, съ часу на часъ поджидавшая своего Володю, бросилась къ окнамъ. У подъѣзда стояли широкія розвальни, и отъ тройки бѣлыхъ лошадей шелъ густой туманъ. Сани были пусты, потому что Володя уже стоялъ въ сѣняхъ и красными, озябшими пальцами развязывалъ башлыкъ. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на вискахъ были покрыты инеемъ, и весь онъ отъ головы до ногъ издавалъ такой вкусный морозный запахъ, что глядя на него, хотѣлось озябнуть и сказать: «бррр!». Мать и тетка бросились обнимать и цѣловать его, Наталья повалилась къ его ногамъ и начала стаскивать съ него валенки, сестры подняли визгъ, двери скрипѣли, хлопали, а отецъ Володи въ одной жилеткѣ и съ ножницами въ рукахъ вбѣжалъ въ переднюю и закричалъ испуганно:
— А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доѣхалъ? Благополучно? Господи Боже мой, да дайте же ему съ отцомъ поздороваться! Что я не отецъ, что ли?
— Гавъ! Гавъ! — ревѣлъ басомъ Милордъ, огромный, черный песъ, стуча хвостомъ по стѣнамъ и по мебели.
Все смѣшалось въ одинъ сплошной, радостный звукъ, продолжавшійся минуты двѣ. Когда первый порывъ радости прошелъ, Королевы замѣтили, что кромѣ Володи въ передней находился еще одинъ маленькій человѣкъ, окутанный въ платки, шали и башлыки и покрытый инеемъ; онъ неподвижно стоялъ въ углу, въ тѣни, бросаемой большою лисьей шубой.
— Володичка, а это же кто? — спросила шопотомъ мать.
— Ахъ! — спохватился Володя. — Это, честь имѣю представить, мой товарищъ Чечевицынъ, ученикъ второго класса… Я привезъ его съ собой погостить у насъ.
— Очень пріятно, милости просимъ! — сказалъ радостно отецъ. — Извините, я по-домашнему, безъ сюртука… Пожалуйте! Наталья, помоги господину Черепицыну раздѣться! Господи Боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказаніе!
Немного погодя, Володя и его другъ Чечевицынъ, ошеломленные шумной встрѣчей и все еще розовые отъ холода, сидѣли за столомъ и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снѣгъ и узоры на окнахъ, дрожало на самоварѣ и купало свои чистые лучи въ полоскательной чашкѣ. Въ комнатѣ было тепло, и мальчики чувствовали, какъ въ ихъ озябшихъ тѣлахъ, не желая уступать другъ другу, щекотались тепло и морозъ.
— Ну, вотъ скоро и Рождество! — говорилъ нараспѣвъ отецъ, крутя изъ темно-рыжаго табаку папиросу. — А давно ли было лѣто и мать плакала, тебя провожаючи? Анъ ты и пріѣхалъ… Время, братъ, идетъ быстро! Ахнутъ не успѣешь, какъ старость прійдетъ. Господинъ Чибисовъ, кушайте, прошу васъ, не стѣсняйтесь! У насъ попросту.
Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша — самой старшей изъ нихъ было одиннадцать лѣтъ, — сидѣли за столомъ и не отрывали глазъ отъ новаго знакомаго. Чечевицынъ былъ такого же возраста и роста, какъ Володя, но не такъ пухлъ и бѣлъ, а худъ, смуглъ, покрытъ веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькіе, губы толстыя, вообще былъ онъ очень некрасивъ и если бъ на немъ не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Онъ былъ угрюмъ, все время молчалъ и ни разу не улыбнулся. Дѣвочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно-быть, очень умный и ученый человѣкъ. Онъ о чемъ-то все время думалъ и такъ былъ занятъ своими мыслями, что когда его спрашивали о чемъ-нибудь, то онъ вздрагивалъ, встряхивалъ головой и просилъ повторить вопросъ.
Дѣвочки замѣтили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этотъ разъ говорилъ мало, вовсе не улыбался и какъ будто даже не радъ былъ тому, что пріѣхалъ домой. Пока сидѣли за чаемъ, онъ обратился къ сестрамъ только разъ, да и то съ какими-то странными словами. Онъ указалъ пальцемъ на самоваръ и сказалъ:
— А въ Калифорніи вмѣсто чаю пьютъ джинъ.
Онъ тоже былъ занятъ какими-то мыслями и, судя по тѣмъ взглядамъ, какими онъ изрѣдка обмѣнивался съ другомъ своимъ Чечевицынымъ, мысли у мальчиковъ были общія.
Послѣ чаю всѣ пошли въ дѣтскую. Отецъ и дѣвочки сѣли за столъ и занялись работой, которая была прервана пріѣздомъ мальчиковъ. Они дѣлали изъ разноцвѣтной бумаги цвѣты и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сдѣланный цвѣтокъ дѣвочки встрѣчали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этотъ цвѣтокъ падалъ съ неба; папаша тоже восхищался и изрѣдка бросалъ ножницы на полъ, сердясь на нихъ за то, что онѣ тупы. Мамаша вбѣгала въ дѣтскую съ очень озабоченнымъ лицомъ и спрашивала:
— Кто взялъ мои ножницы? Опять ты, Иванъ Николаичъ, взялъ мои ножницы?
— Господи Боже мой, даже ножницъ не даютъ! — отвѣчалъ плачущимъ голосомъ Иванъ Николаичъ и, откинувшись на спинку стула, принималъ позу оскорбленнаго человѣка, но черезъ минуту опять восхищался.
Въ предыдущіе свои пріѣзды Володя тоже занимался приготовленіями для елки, или бѣгалъ на дворъ поглядѣть, какъ кучеръ и пастухъ дѣлали снѣговую гору, но теперь онъ и Чечевицынъ не обратили никакого вниманія на разноцвѣтную бумагу и ни разу даже не побывали въ конюшнѣ, а сѣли у окна и стали о чемъ-то шептаться; потомъ они оба вмѣстѣ раскрыли географическій атласъ и стали разсматривать какую-то карту.
— Сначала въ Пермь… — тихо говорилъ Чечевицынъ… — Оттуда въ Тюмень… потомъ Томскъ… потомъ… потомъ… въ Камчатку… Отсюда самоѣды перевезутъ на лодкахъ черезъ Беринговъ проливъ… Вотъ тебѣ и Америка… Тутъ много пушныхъ звѣрей.
— А Калифорнія? — спросилъ Володя.
— Калифорнія ниже… Лишь бы въ Америку попасть, а Калифорнія не за горами. Добывать же себѣ пропитаніе можно охотой и грабежомъ.
Чечевицынъ весь день сторонился дѣвочекъ и глядѣлъ на нихъ исподлобья. Послѣ вечерняго чая случилось, что его минутъ на пять оставили одного съ дѣвочками. Неловко было молчать. Онъ сурово кашлянулъ, потеръ правой ладонью лѣвую руку, поглядѣлъ угрюмо на Катю и спросилъ:
— Вы читали Майнъ-Рида?
— Нѣтъ, не читала… Послушайте, вы умѣете на конькахъ кататься?
Погруженный въ свои мысли, Чечевицынъ ничего не отвѣтилъ на этотъ вопросъ, а только сильно надулъ щеки и сдѣлалъ такой вздохъ, какъ будто ему было очень жарко. Онъ еще разъ поднялъ глаза на Катю и сказалъ: — Когда стадо бизоновъ бѣжитъ черезъ пампасы, то дрожитъ земля, а въ это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржутъ.
Чечевицынъ грустно улыбнулся и добавилъ:
— А также индѣйцы нападаютъ на поѣзда. Но хуже всего это москиты и термиты.
— А что это такое?
— Это въ родѣ муравчиковъ, только съ крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?
— Господинъ Чечевицынъ.
— Нѣтъ. Я Монтигомо, Ястребиный Коготь, вождь непобѣдимыхъ.
Маша, самая маленькая дѣвочка, поглядѣла на него, потомъ на окно, за которымъ уже наступалъ вечеръ, и сказала въ раздумья:
— А у насъ чечевицу вчера готовили.
Совершенно непонятныя слова Чечевицына и то, что онъ постоянно шептался съ Володей, и то, что Володя не игралъ, а все думалъ о чемъ-то, — все это было загадочно и странно. И обѣ старшія дѣвочки, Катя и Соня, стали зорко слѣдить за мальчиками. Вечеромъ, когда мальчики ложились спать, дѣвочки подкрались къ двери и подслушали ихъ разговоръ. О, что онѣ узнали! Мальчики собирались бѣжать куда-то въ Америку добывать золото; у нихъ для дороги было уже все готово: пистолетъ, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добыванія огня, компасъ и четыре рубля денегъ. Онѣ узнали, что мальчикамъ придется пройти пѣшкомъ нѣсколько тысячъ верстъ, а по дорогѣ сражаться съ тиграми и дикарями, потомъ добывать золото и слоновую кость, убивать враговъ, поступать въ морскіе разбойники, пить джинъ и въ концѣ концовъ жениться на красавицахъ и обрабатывать плантаціи. Володя и Чечевицынъ говорили и въ увлеченіи перебивали другъ друга. Себя Чечевицынъ называлъ при этомъ такъ: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю — «блѣднолицый братъ мой».
— Ты смотри же, не говори мамѣ, — сказала Катя Сонѣ, отправляясь съ ней спать. — Володя привезетъ намъ изъ Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь мамѣ, то его не пустятъ.
Наканунѣ сочельника Чечевицынъ цѣлый день разсматривалъ карту Азіи и что-то записывалъ, а Володя, томный, пухлый, какъ укушенный пчелой, угрюмо ходилъ по комнатамъ и ничего не ѣлъ. И разъ даже въ дѣтской онъ остановился передъ иконой, перекрестился и сказалъ:
— Господи, прости меня грѣшнаго! Господи, сохрани мою бѣдную, несчастную маму!
Къ вечеру онъ расплакался. Идя спать, онъ долго обнималъ отца, мать и сестеръ. Катя и Соня понимали, въ чемъ тутъ дѣло, а младшая, Маша, ничего не понимала, рѣшительно ничего, и только при взглядѣ на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохомъ:
— Когда постъ, няня говоритъ, надо кушать горохъ и чечевицу.
Рано утромъ въ сочельникъ Катя и Соня тихо поднялись съ постелей и пошли подсмотрѣть, какъ мальчики будутъ бѣжать въ Америку. Подкрались къ двери.
— Такъ ты не поѣдешь? — сердито спрашивалъ Чечевицынъ. — Говори: не поѣдешь?
— Господи! — тихо плакалъ Володя. — Какъ же я поѣду? Мнѣ маму жалко.
— Блѣднолицый братъ мой, я прошу тебя, поѣдемъ! Ты же увѣрялъ, что поѣдешь, самъ меня сманилъ, а какъ ѣхать, такъ вотъ и струсилъ.
— Я… я не струсилъ, а мнѣ… мнѣ маму жалко.
— Ты говори: поѣдешь, или нѣтъ?
— Я поѣду, только… только погоди. Мнѣ хочется дома пожить.
— Въ такомъ случаѣ, я самъ поѣду! — рѣшилъ Чечевицынъ. — И безъ тебя обойдусь. А еще тоже хотѣлъ охотиться на тигровъ, сражаться! Когда такъ, отдай же мои пистоны!
Володя заплакалъ такъ горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.
— Такъ ты не поѣдешь? — еще разъ спросилъ Чечевицынъ.
— По… поѣду.
— Такъ одѣвайся!
И Чечевицынъ, чтобы уговорить Володю, хвалилъ Америку, рычалъ какъ тигръ, изображалъ пароходъ, бранился, обѣщалъ отдать Володѣ всю слоновую кость и всѣ львиныя и тигровыя шкуры.
И этотъ худенькій, смуглый мальчикъ, со щетинистыми волосами и веснушками казался, дѣвочкамъ необыкновеннымъ, замѣчательнымъ. Это былъ герой, рѣшительный, неустрашимый человѣкъ, и рычалъ онъ такъ, что, стоя за дверями, въ самомъ дѣлѣ можно было подумать, что это тигръ или левъ.
Когда дѣвочки вернулись къ себѣ и одѣвались, Катя съ глазами полными слезъ сказала:
— Ахъ, мнѣ такъ страшно!
До двухъ часовъ, когда сѣли обѣдать, все было тихо, но за обѣдомъ вдругъ оказалось, что мальчиковъ нѣтъ дома. Послали въ людскую, въ конюшню, во флигель къ приказчику — тамъ ихъ не было. Послали въ деревню — и тамъ не нашли. И чай потомъ тоже пили безъ мальчиковъ, а когда садились ужинать, мамаша очень безпокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили въ деревню, искали, ходили съ фонарями на рѣку. Боже, какая поднялась суматоха!
На другой день пріѣзжалъ урядникъ, писали въ столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.
Но вотъ у крыльца остановились розвальни, и отъ тройки бѣлыхъ лошадей валилъ паръ.
— Володя пріѣхалъ! — крикнулъ кто-то на дворѣ.
— Володичка пріѣхали! — завопила Наталья, вбѣгая въ столовую.
И Милордъ залаялъ басомъ: «гавъ! гавъ!» Оказалось, что мальчиковъ задержали въ городѣ, въ Гостиномъ дворѣ (тамъ они ходили и все спрашивали, гдѣ продается порохъ). Володя, какъ вошелъ въ переднюю, такъ и зарыдалъ и бросился матери на шею. Дѣвочки, дрожа, съ ужасомъ думали о томъ, что теперь будетъ, слышали, какъ папаша повелъ Володю и Чечевицына къ себѣ въ кабинетъ и долго тамъ говорилъ съ ними; и мамаша тоже говорила и плакала.
— Развѣ это такъ можно? — убѣждалъ папаша. — Не дай Богъ, узнаютъ въ гимназіи, васъ исключатъ. А вамъ стыдно, господинъ Чечевицынъ! Не хорошо-съ! Вы зачинщикъ и, надѣюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Развѣ это такъ можно? Вы гдѣ ночевали?
— На вокзалѣ! — гордо отвѣтилъ Чечевицынъ.
Володя потомъ лежалъ, и ему къ головѣ прикладывали полотенце, смоченное въ уксусѣ. Послали куда-то телеграмму, и на другой день пріѣхала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.
Когда уѣзжалъ Чечевицынъ, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь съ дѣвочками, онъ не сказалъ ни одного слова; только взялъ у Кати тетрадку и написалъ въ знакъ памяти:
«Монтигомо Ястребиный Коготь».
«Петербургская газета», 1887, № 350.
Иванъ Матвѣичъ.
Шестой часъ вечера. Одинъ изъ достаточно извѣстныхъ русскихъ ученыхъ — будемъ называть его просто ученымъ — сидитъ у себя въ кабинетѣ и нервно кусаетъ ногти.
— Это просто возмутительно! — говоритъ онъ, то и дѣло посматривая на часы. — Это верхъ неуваженія къ чужому времени и труду. Въ Англіи такой субъектъ не заработалъ бы ни гроша, умеръ бы съ голода! Ну, погоди же, придешь ты…
И, чувствуя потребность излить на чемъ-нибудь свой гнѣвъ и нетерпѣніе, ученый подходитъ къ двери, ведущей въ женину комнату, и стучится.
— Послушай, Катя, — говоритъ онъ негодующимъ голосомъ. — Если увидишь Петра Данилыча, то передай ему, что порядочные люди такъ не дѣлаютъ! Это мерзость! Рекомендуетъ переписчика и не знаетъ, кого онъ рекомендуетъ! Мальчишка аккуратнѣйшимъ образомъ опаздываетъ каждый день на два, на три часа. Ну, развѣ это переписчикъ? Для меня эти два-три часа дороже, чѣмъ для другого два-три года! Придетъ онъ, я его изругаю, какъ собаку, денегъ ему не заплачу и вышвырну вонъ! Съ такими людьми нельзя церемониться!
— Ты каждый день это говоришь, а между тѣмъ онъ все ходитъ и ходитъ.
— А сегодня я рѣшилъ. Достаточно ужъ я изъ-за него потерялъ. Ты извини, но я съ нимъ ругаться буду, извозчицки ругаться!
Но вотъ, наконецъ, слышится звонокъ. Ученый дѣлаетъ серьезное лицо, выпрямляется и, закинувъ назадъ голову, идетъ въ переднюю. Тамъ, около вѣшалки, уже стоитъ его переписчикъ Иванъ Матвѣичъ, молодой человѣкъ лѣтъ восемнадцати, съ овальнымъ, какъ яйцо, безусымъ лицомъ, въ поношенномъ, облѣзломъ пальто, и безъ калошъ. Онъ запыхался и старательно вытираетъ свои большіе, неуклюжіе сапоги о подстилку, причемъ старается скрыть отъ горничной дыру на сапогѣ, изъ которой выглядываетъ бѣлый чулокъ. Увидѣвъ ученаго, онъ улыбается той продолжительной, широкой, немножко глуповатой улыбкой, какая бываетъ на лицахъ только у дѣтей и очень простодушныхъ людей.
— А, здравствуйте, — говоритъ онъ, протягивая большую, мокрую руку. — Что, прошло у васъ горло?
— Иванъ Матвѣичъ! — говоритъ ученый дрогнувшимъ голосомъ, отступая назадъ и складывая вмѣстѣ пальцы обѣихъ рукъ. — Иванъ Матвѣичъ!
Затѣмъ онъ подскакиваетъ къ переписчику, хватаетъ его за плечо и начинаетъ слабо трясти.
— Что̀ вы со мной дѣлаете!? — говоритъ онъ съ отчаяніемъ. — Ужасный, гадкій вы человѣкъ, что вы дѣлаете со мной! Вы надо мной смѣетесь, издѣваетесь? Да?
Иванъ Матвѣичъ, судя по улыбкѣ, которая еще не совсѣмъ сползла съ его лица, ожидалъ совсѣмъ другого пріема, а потому, увидѣвъ дышащее негодованіемъ лицо ученаго, онъ еще больше вытягиваетъ въ длину свою овальную физіономію и въ изумленіи открываетъ ротъ.
— Что… что такое? — спрашиваетъ онъ.
— И вы еще спрашиваете! — всплескиваетъ руками ученый. — Знаете, какъ дорого для меня время, и такъ опаздываете! Вы опоздали на два часа!… Бога вы не боитесь!
— Я вѣдь сейчасъ не изъ дому, — бормочетъ Иванъ Матвѣичъ, нерѣшительно развязывая шарфъ. — Я у тетки на именинахъ былъ, а тетка верстъ за шесть отсюда живетъ… Если бы я прямо изъ дому шелъ, ну, тогда другое дѣло.
— Ну, сообразите, Иванъ Матвѣичъ, есть ли логика чъ вашихъ поступкахъ? Тутъ дѣло нужно дѣлать, дѣло срочное, а вы по именинамъ, да по теткамъ шляетесь! Ахъ, да развязывайте поскорѣе вашъ ужасный шарфъ! Это, наконецъ, невыносимо!
Ученый опять подскакиваетъ къ переписчику и помогаетъ ему распутать шарфъ.
— Какая вы баба… Ну, идите!… Скорѣй, пожалуйста!
Сморкаясь въ грязный, скомканный платочекъ и поправляя свой сѣренькій пиджачокъ, Иванъ Матвѣичъ идетъ черезъ залу и гостиную въ кабинетъ. Тутъ для него давно уже готово и мѣсто, и бумага, и даже папиросы.
— Садитесь, садитесь, — подгоняетъ ученый, нетерпѣливо потирая руки. — Несносный вы человѣкъ… Знаете, что работа срочная, и такъ опаздываете. Поневолѣ браниться станешь. Ну, пишите… На чемъ мы остановились?
Иванъ Матвѣичъ приглаживаетъ свои щетинистые, неровно остриженные волосы и берется за перо. Ученый прохаживается изъ угла въ уголъ, сосредоточивается и начинаетъ диктовать:
— Суть въ томъ… запятая… что нѣкоторыя, такъ сказать, основныя формы… написали? — формы единственно обусловливаются самой сущностью тѣхъ началъ… запятая… которыя находятъ въ нихъ свое выраженіе и могутъ воплотиться только въ нихъ… Съ новой строки… Тамъ, конечно, точка… Наиболѣе самостоятельности представляютъ… представляютъ… тѣ формы, которыя имѣютъ не столько политическій… запятая… сколько соціальный характеръ…
— Теперь у гимназистовъ другая форма… сѣрая… — говоритъ Иванъ Матвѣичъ. — Когда я учился, при мнѣ лучше было: мундиры носили…
— Ахъ, да пишите, пожалуйста! — сердится ученый. — Характеръ… написали? Говоря же о преобразованіяхъ, относящихся къ устройству… государственныхъ функцій, а не регулированію народнаго быта… запятая… нельзя сказать, что они отличаются національностью своихъ формъ… послѣднія три слова въ ковычкахъ… Э-э… тово… Такъ что вы хотѣли сказать про гимназію?
— Что при мнѣ другую форму носили.
— Ага… такъ… А вы давно оставили гимназію?
— Да я же вамъ говорилъ вчера! Я ужъ года три какъ не учусь… Я изъ четвертаго класса вышелъ…
— А зачѣмъ вы гимназію бросили? — спрашиваетъ ученый, заглядывая въ писанье Ивана Матвѣича.
— Такъ, по домашнимъ обстоятельствамъ.
— Опять вамъ говорить, Иванъ Матвѣичъ! Когда, наконецъ, вы бросите вашу привычку растягивать строки? Въ строкѣ не должно быть меньше сорока буквъ!
— Что жъ, вы думаете, я это нарочно? — обижается Иванъ Матвѣичъ. — Зато въ другихъ строкахъ больше сорока буквъ… Вы сочтите. А ежели вамъ кажется, что я натягиваю, то вы можете мнѣ плату убавить.
— Ахъ, да не въ томъ дѣло! Какой вы неделикатный, право… Чуть что, сейчасъ вы о деньгахъ. Главное — аккуратность, Иванъ Матвѣичъ, аккуратность главное! Вы должны пріучатъ себя къ аккуратности.
Горничная вноситъ въ кабинетъ на подносѣ два стакана чаю и корзинку съ сухарями… Иванъ Матвѣичъ неловко, обѣими руками, беретъ свой стаканъ и тотчасъ же начинаетъ пить. Чай слишкомъ горячъ. Чтобы не сжечь губъ Иванъ Матвѣичъ старается дѣлать маленькіе глотки. Онъ съѣдаетъ одинъ сухарь, потомъ другой, третій и, конфузливо покосившись на ученаго, робко тянется за четвертымъ… Его громкіе глотки, аппетитное чавканье и выраженіе голодной жадности въ приподнятыхъ бровяхъ раздражаютъ ученаго.
— Кончайте скорѣй… Время дорого.
— Вы диктуйте. Я могу въ одно время и пить, и писать… Я, признаться, проголодался.
— Еще бы, пѣшкомъ ходите!
— Да… А какая нехорошая погода! Въ нашихъ краяхъ въ это время ужъ весной пахнетъ… Вездѣ лужи, снѣгъ таетъ.
— Вы вѣдь, кажется, южанинъ?
— Изъ Донской области… А въ мартѣ у насъ совсѣмъ ужъ весна. Тутъ морозъ, всѣ въ шубахъ ходятъ, а тамъ травка… вездѣ сухо и тарантуловъ даже ловить можно.
— А зачѣмъ ловить тарантуловъ?
— Такъ… отъ нечего дѣлать… — говоритъ Иванъ Матвѣичъ и вздыхаетъ. — Ихъ ловить забавно. Нацѣпишь на нитку кусочекъ смолы, опустишь смолку въ норку и начнешь смолкой бить тарантула по спинѣ, а онъ, проклятый, разсердится, схватитъ лапками за смолу, и увязнетъ… А что мы съ ними дѣлали! Накидаемъ ихъ, бывало, полный тазикъ и пустимъ къ нимъ бихорку.
— Какого бихорку?
— Это такой паукъ есть, въ родѣ тоже какъ бы тарантула. Въ дракѣ онъ одинъ можетъ сто тарантуловъ убить.
— М-да… Однако, будемъ писать… На чемъ мы остановились?
Ученый диктуетъ еще строкъ двадцать, потомъ садится и погружается въ размышленіе.
Иванъ Матвѣичъ въ ожиданіи, пока тотъ надумаетъ, сидитъ и, вытягивая шею, старается привести въ порядокъ воротничокъ своей сорочки. Галстукъ сидитъ не плотно, запонки выскочили и воротникъ то и дѣло расходится.
— М-да… — говоритъ ученый. — Такъ-съ… Что, не нашли еще себѣ мѣста, Иванъ Матвѣичъ?
— Нѣтъ. Да гдѣ его найдешь? Я, знаете ли, надумалъ въ вольноопредѣляющіеся идти. А отецъ совѣтуетъ въ аптеку поступить.
— М-да… А лучше, если бы въ университетъ поступили. Экзаменъ трудный, но при терпѣніи и усидчивомъ трудѣ можно выдержать. Занимайтесь, читайте побольше… Вы много читаете?
— Признаться, мало… — говоритъ Иванъ Матвѣичъ, закуривая.
— Тургенева читали?
— Н-нѣтъ…
— А Гоголя?
— Гоголя? Гм!… Гоголя… Нѣтъ не читалъ!
— Иванъ Матвѣичъ! И вамъ не совѣстно? Ай-ай! Такой хорошій вы малый, такъ много въ васъ оригинальнаго, и вдругъ… Даже Гоголя не читали! Извольте прочесть! Я вамъ дамъ! Обязательно прочтите! Иначе мы разссоримся!
Опять наступаетъ молчаніе. Ученый полулежитъ на мягкой кушеткѣ и думаетъ, а Иванъ Матвѣичъ, оставивъ въ покоѣ воротнички, все свое вниманіе обращаетъ на сапоги. Онъ и не замѣтилъ, какъ подъ ногами отъ растаявшаго снѣга образовались двѣ большія лужи. Ему совѣстно.
— Что-то не клеится сегодня… — бормочетъ ученый. — Иванъ Матвѣичъ, вы, кажется, и птицъ любите ловить?
— Это осенью… Здѣсь я не ловлю, а тамъ, дома, всегда ловилъ.
— Такъ-съ… хорошо-съ. А писать все-таки нужно. Ученый рѣшительно встаетъ и начинаетъ диктовать, но черезъ десять строкъ опять садится на кушетку.
— Нѣтъ ужъ, вѣроятно, отложимъ до завтрашняго утра, — говоритъ онъ. — Приходите завтра утромъ, только пораньше, часамъ къ девяти. Храни васъ Богъ опоздать.
Иванъ Матвѣичъ кладетъ перо, встаетъ изъ-за стола и садится на другой стулъ. Проходитъ минутъ пять въ молчаніи, и онъ начинаетъ чувствовать, что ему пора уходить, что онъ лишній, но въ кабинетѣ ученаго такъ уютно, свѣтло и тепло, и еще настолько свѣжо впечатлѣніе отъ сдобныхъ сухарей и сладкаго чая, что у него сжимается сердце отъ одной мысли о домѣ. Дома — бѣдность, голодъ, холодъ, ворчунъ-отецъ, попреки, а тутъ такъ безмятежно, тихо и даже интересуются его тарантулами и птицами.
Ученый смотритъ на часы и берется за книгу.
— Такъ вы дадите мнѣ Гоголя? — спрашиваетъ Иванъ Матвѣичъ, поднимаясь.
— Дамъ, дамъ. Только куда же вы спѣшите, голубчикъ? Посидите, разскажите что-нибудь…
Иванъ Матвѣичъ садится и широко улыбается. Почти каждый вечеръ сидитъ онъ въ этомъ кабинетѣ и всякій разъ чувствуетъ въ голосѣ и во взглядѣ ученаго что-то необыкновенно мягкое, притягательное, словно родное. Бываютъ даже минуты, когда ему кажется, что ученый привязался къ нему, привыкъ, и если бранитъ его за опаздыванія, то только потому, что скучаетъ по его болтовнѣ о тарантулахъ и о томъ, какъ на Дону ловятъ щеглятъ.
«Петербургская газета», 1886, № 60.
Беззащитное существо.
Какъ ни силенъ былъ ночью припадокъ подагры, какъ ни скрипѣли потомъ нервы, а Кистуновъ все-таки отправился утромъ на службу и своевременно началъ пріемку просителей и кліентовъ банка. Видъ у него былъ томный, замученный, и говорилъ онъ еле-еле, чуть дыша, какъ умирающій.
— Что вамъ угодно? — обратился онъ къ просительницѣ, въ допотопномъ салопѣ, очень похожей сзади на большого навознаго жука.
— Изволите ли видѣть, ваше превосходительство, — начала скороговоркой просительница: — мужъ мой, коллежскій асессоръ Щукинъ, проболѣлъ пять мѣсяцевъ, и пока онъ, извините, лежалъ дома и лѣчился, ему безъ всякой причины отставку дали, ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалованьемъ, они, изволите видѣть, вычли изъ его жалованья 24 рубля 36 коп.! За что? спрашиваю. — «А онъ, говорятъ, изъ товарищеской кассы бралъ и за него другіе чиновники ручались». Какъ же такъ? Нешто онъ могъ безъ моего согласія брать? Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бѣдная, только и кормлюсь жильцами… Я слабая, беззащитная… Отъ всѣхъ обиду терплю и ни отъ кого добраго слова не слышу…
Просительница заморгала глазами и полѣзла въ салопъ за платкомъ. Кистуновъ взялъ отъ нея прошеніе и сталъ читать.
— Позвольте, какъ же это? — пожалъ онъ плечами. — Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсѣмъ къ намъ не относится. Вы потрудитесь обратиться въ то вѣдомство, гдѣ служилъ вашъ мужъ.
— И-и, батюшка, я въ пяти мѣстахъ уже была и вездѣ даже прошенія не взяли! — сказала Щукина. — Я ужъ и голову потеряла, да спасибо, дай Богъ здоровья зятю Борису Матвѣичу, надоумилъ къ вамъ сходить. «Вы, говоритъ, мамаша, обратитесь къ господину Кистунову: онъ вліятельный человѣкъ, для васъ все можетъ сдѣлать»… Помогите, ваше превосходительство!
— Мы, госпожа Щукина, ничего не можемъ для васъ сдѣлать… Поймите вы: вашъ мужъ, насколько я могу судить, служилъ по военно-медицинскому вѣдомству, а наше учрежденіе совершенно частное, коммерческое, у насъ банкъ. Какъ не понять этого!
Кистуновъ еще разъ пожалъ плечами и повернулся къ господину въ военной формѣ съ флюсомъ.
— Ваше превосходительство, — пропѣла жалобнымъ голосомъ Щукина: — а что мужъ боленъ былъ, у меня докторское свидѣтельство есть! Вотъ оно, извольте поглядѣть!
— Прекрасно, я вѣрю вамъ, — сказалъ раздраженно Кистуновъ: — но, повторяю, это къ намъ не относится. Странно и даже смѣшно! Неужели вашъ мужъ не знаетъ, куда вамъ обращаться?
— Онъ, ваше превосходительство, у меня ничего не знаетъ. Зарядилъ одно: «Не твое дѣло! пошла вонъ»! да и все тутъ… А чье же дѣло? Вѣдь на моей-то шеѣ они сидятъ! На мое-ей!
Кистуновъ опять повернулся къ Щукиной и сталъ объяснять ей разницу между вѣдомствомъ военно-медицинскимъ и частнымъ банкомъ. Та внимательно выслушала его, кивнула въ знакъ согласія головой и сказала:
— Такъ, такъ, такъ… Понимаю, батюшка. Въ такомъ случаѣ, ваше превосходительство, прикажите выдать мнѣ хоть 15 рублей! Я согласна не все сразу.
— Уфъ! — вздохнулъ Кистуновъ, откидывая назадъ голову. — Вамъ не втолкуешь! Да поймите же, что обращаться къ намъ съ подобной просьбой такъ же странно, какъ подавать прошеніе о разводѣ, напримѣръ, въ аптеку или въ пробирную палатку. Вамъ не доплатили, но мы-то тутъ при чемъ?
— Ваше превосходительство, заставьте вѣчно Бога молить, пожалѣйте меня, сироту, — заплакала Щукина. — Я женщина беззащитная, слабая… Замучилась до смерти… И съ жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бѣгай, а тутъ еще говѣю и зять безъ мѣста… Только одна слава, что пью и ѣмъ, а сама еле на ногахъ стою… Всю ночь не спала.
Кистуновъ почувствовалъ сердцебіеніе. Сдѣлавъ страдальческое лицо и прижавъ руку къ сердцу, онъ опять началъ объяснять Щукиной, но голосъ его оборвался…
— Нѣтъ, извините, я не могу съ вами говорить, — сказалъ онъ и махнулъ рукой. — У меня даже голова закружилась. Вы и намъ мѣшаете, и время понапрасну теряете. Уфъ!… Алексѣй Николаичъ, — обратился онъ къ одному изъ служащихъ: — объясните вы, пожалуйста, госпожѣ Щукиной!
Кистуновъ, обойдя всѣхъ просителей, отправился къ себѣ въ кабинетъ и подписалъ съ десятокъ бумагъ, а Алексѣй Николаичъ все еще возился со Щукиной. Сидя у себя въ кабинетѣ, Кистуновъ долго слышалъ два голоса: монотонный, сдержанный басъ Алексѣя Николаича и плачущій, взвизгивающій голосъ Щукиной…
— Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болѣзненная, — говорила Щукина. — На видъ, можетъ, я крѣпкая, а ежели разобрать, такъ во мнѣ ни одной жилочки нѣтъ здоровой. Еле на ногахъ стою и аппетита рѣшилась… Кофій сегодня пила, и безъ всякаго удовольствія.
А Алексѣй Николаичъ объяснялъ ей разницу между вѣдомствами и сложную систему направленія бумагъ. Скоро онъ утомился и его смѣнилъ бухгалтеръ.
— Удивительно противная баба! — возмущался Кистуновъ, нервно ломая пальцы и то и дѣло подходя къ графину съ водой.
— Это идіотка, пробка! Меня замучила и ихъ заѣздитъ, подлая! Уфъ… сердце бьется!
Черезъ полчаса онъ позвонилъ. Явился Алексѣй Николаичъ.
— Что у васъ тамъ? — томно спросилъ Кистуновъ.
— Да никакъ не втолкуемъ, Петръ Александрычъ! Просто замучились. Мы ей про Ѳому, а она про Ерему…
— Я… я не могу ея голоса слышать… Заболѣлъ я… не выношу…
— Позвать швейцара, Петръ Александрычъ, пусть ее выведетъ.
— Нѣтъ, нѣтъ! — испугался Кистуновъ. — Она визгъ подниметъ, а въ этомъ домѣ много квартиръ, и про насъ чортъ знаетъ что могутъ подумать… Ужъ вы, голубчикъ, какъ-нибудь постарайтесь объяснить ей.
Черезъ минуту опять послышалось гудѣнье Алексѣя Николаича. Прошло четверть часа, и на смѣну его басу зажужжалъ сильный тенорокъ бухгалтера.
— За-мѣ-чательно подлая! — возмущался Кистуновъ, нервно вздрагивая плечами. — Глупа, какъ сивый меринъ, чортъ бы ее взялъ. Кажется, у меня опять подагра разыгрывается… Опять мигрень…
Въ сосѣдней комнатѣ Алексѣй Николаичъ, выбившись изъ силъ, наконецъ, постучалъ пальцемъ по столу, потомъ себѣ по лбу.
— Однимъ словомъ, у васъ на плечахъ не голова, — сказалъ онъ: — а вотъ что…
— Ну, нечего, нечего… — обидѣлась старуха. — Своей женѣ постучи… Скважина! Не очень-то рукамъ волю давай.
И, глядя на нее со злобой, съ остервенѣніемъ, точно желая проглотить ее, Алексѣй Николаичъ сказалъ тихимъ, придушеннымъ голосомъ:
— Вонъ отсюда!
— Что-о? — взвизгнула вдругъ Щукина. — Да какъ вы смѣете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю! Мой мужъ коллежскій асессоръ! Скважина этакая! Схожу къ адвокату Дмитрію Карлычу, такъ отъ тебя званія не останется! Троихъ жильцовъ засудила, а за твои дерзкія слова ты у меня въ ногахъ наваляешься! Я до вашего генерала пойду! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!
— Пошла вонъ отсюда, язва! — прошипѣлъ Алексѣй Николаичъ.
Кистуновъ отворилъ дверь и выглянулъ въ присутствіе.
— Что̀ такое? — спросилъ онъ плачущимъ голосомъ. Щукина, красная какъ ракъ, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала въ воздухъ пальцами. Служащіе въ банкѣ стояли по сторонамъ и, тоже красные, видимо замученные, растерянно переглядывались.
— Ваше превосходительство! — бросилась къ Кистунову Щукина. — Вотъ этотъ, вотъ самый… вотъ этотъ… (она указала на Алексѣя Николаича) постучалъ себѣ пальцемъ по лбу, а потомъ по столу… Вы велѣли ему мое дѣло разобрать, а онъ насмѣхается! Я женщина слабая, беззащитная… Мой мужъ коллежскій асессоръ и сама я майорская дочь!
— Хорошо, сударыня, — простоналъ Кистуновъ: — я разберу… приму мѣры… Уходите… послѣ!…
— А когда же я получу, ваше превосходительство? Мнѣ нынче деньги надобны!
Кистуновъ дрожащей рукой провелъ себя по лбу, вздохнулъ и опять началъ объяснять.
— Сударыня, я уже вамъ говорилъ. Здѣсь банкъ, учрежденіе частное, коммерческое… Что же вы отъ насъ хотите? И поймите толкомъ, что вы намъ мѣшаете.
Щукина выслушала его и вздохнула.
— Такъ, такъ… — согласилась она. — Только ужъ вы, ваше превосходительство, сдѣлайте милость, заставьте вѣчно Бога молить, будьте отцомъ роднымъ, защитите. Ежели медицинскаго свидѣтельства мало, то я могу и изъ участка удостовѣреніе представить… Прикажите выдать мнѣ деньги!
У Кистунова зарябило въ глазахъ. Онъ выдыхнулъ весь воздухъ, сколько его было въ легкихъ, и въ изнеможеніи опустился на стулъ.
— Сколько вы хотите получить? — спросилъ онъ слабымъ голосомъ.
— 24 рубля 36 копеекъ.
Кистуновъ вынулъ изъ кармана бумажникъ, досталъ оттуда четвертной билетъ и подалъ его Щукиной.
— Берите и… и уходите!
Щукина завернула въ платочекъ деньги, спрятала и, сморщивъ лицо въ сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила;
— Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на мѣсто?
— Я уѣду… боленъ… — сказалъ Кистуновъ томнымъ голосомъ. — У меня страшное сердцебіеніе.
По отъѣздѣ его, Алексѣй Николаичъ послалъ Никиту за лавровишневыми каплями, и всѣ, принявъ по 20 капель, усѣлись за работу, а Щукина потомъ часа два еще сидѣла въ передней и разговаривала со швейцаромъ, ожидая, когда вернется Кистуновъ.
Приходила она и на другой день.
«Осколки», 1887, № 9.
Дамы.
Ѳедоръ Петровичъ, директоръ народныхъ училищъ N-ской губерніи, считающій себя человѣкомъ справедливымъ и великодушнымъ, принималъ однажды у себя въ канцеляріи учителя Временскаго.
— Нѣтъ, г. Временскій, — говорилъ онъ: — отставка неизбѣжна. Съ такимъ голосомъ, какъ у васъ, нельзя продолжать учительской службы. Да какъ онъ у васъ пропалъ?
— Я холоднаго пива, вспотѣвши, выпилъ… — прошипѣлъ учитель.
— Экая жалость! Служилъ человѣкъ четырнадцать лѣтъ, и вдругъ такая напасть! Чортъ знаетъ, изъ-за какого пустяка приходится свою карьеру ломать. Что же вы теперь намѣрены дѣлать?
Учитель ничего не отвѣтилъ.
— Вы семейный? — спросилъ директоръ.
— Жена и двое дѣтей, ваше превосходительство… — прошипѣлъ учитель.
Наступило молчаніе. Директоръ всталъ изъ-за стола и прошелся изъ угла въ уголъ, волнуясь.
— Ума не приложу, что мнѣ съ вами дѣлать! — сказалъ онъ, — Учителемъ быть вы не можете, до пенсіи вы еще не дотянули… отпустить же васъ на произволъ судьбы, на всѣ четыре стороны, не совсѣмъ ловко. Вы для насъ свой человѣкъ, прослужили четырнадцать лѣтъ, значитъ, наше дѣло помочь вамъ… Но какъ помочь? Что я для васъ могу сдѣлать? Войдите вы въ мое положеніе: что я могу для васъ сдѣлать?
Наступило молчаніе; директоръ ходилъ и все думалъ, а Временскій, подавленный своимъ горемъ, сидѣлъ на краешкѣ стула и тоже думалъ. Вдругъ директоръ просіялъ и даже пальцами щелкнулъ.
— Удивляюсь, какъ это я раньше не вспомнилъ! — заговорилъ онъ быстро. — Послушайте, вотъ что я могу предложить вамъ… На будущей недѣлѣ письмоводитель у насъ въ пріютѣ уходитъ въ отставку. Если хотите, поступайте на его мѣсто! Вотъ вамъ!
Временскій, не ожидавшій такой милости, тоже просіялъ.
— И отлично, — сказалъ директоръ. — Сегодня же напишите прошеніе…
Отпустивъ Временскаго, Ѳедоръ Петровичъ почувствовалъ облегченіе и даже удовольствіе: передъ нимъ уже не торчала согбенная фигура шипящаго педагога, и пріятно было сознавать, что, предложивъ Временскому свободную вакансію, онъ поступилъ справедливо и по совѣсти, какъ добрый, вполнѣ порядочный человѣкъ. Но это хорошее настроеніе продолжалось недолго. Когда онъ вернулся домой и сѣлъ обѣдать, его жена, Настасья Ивановна, вдругъ вспомнила:
— Ахъ, да, чуть было не забыла! Вчера пріѣзжала ко мнѣ Нина Сергѣевна и просила за одного молодого человѣка. Говорятъ, у насъ въ пріютѣ вакансія открывается…
— Да, но это мѣсто уже другому обѣщано, — сказалъ директоръ и нахмурился. — и ты знаешь мое правило: я никогда не даю мѣстъ по протекціи.
— Я знаю, но для Нины Сергѣевны, полагаю, можно сдѣлать исключеніе. Она насъ какъ родныхъ любитъ, а мы для нея до сихъ поръ еще ничего хорошаго не сдѣлали. И не думай, Ѳедя, отказывать! Своими капризами ты и ее обидишь, и меня.
— А кого она рекомендуетъ?
— Ползухина.
— Какого Ползухина? Это того, что на новый годъ въ собраніи Чацкаго игралъ? Джентльмена этого? Ни за что!
Директоръ пересталъ ѣсть.
— Ни за что! — повторилъ онъ. — Боже меня сохрани!
— Но почему же?
— Пойми, матушка, что ужъ ежели молодой человѣкъ дѣйствуетъ не прямо, а черезъ женщинъ, то, стало-быть, онъ дрянь! Почему онъ самъ ко мнѣ не идетъ?
Послѣ обѣда директоръ легъ у себя въ кабинетѣ на софѣ и сталъ читать полученныя газеты и письма.
«Милый Ѳедоръ Петровичъ! — писала ему жена городского головы. — Вы какъ-то говорили, что я сердцевѣдка и знатокъ людей. Теперь вамъ предстоитъ провѣрить это на дѣлѣ. Къ вамъ придетъ на-дняхъ просить мѣста письмоводителя въ нашемъ пріютѣ нѣкій К. Н. Ползухинъ, котораго я знаю за прекраснаго молодого человѣка. Юноша очень симпатиченъ. Принявъ въ немъ участіе, вы убѣдитесь», и т. д.
— Ни за что! — проговорилъ директоръ — Боже меня сохрани!
Послѣ этого не проходило дня, чтобы директоръ не получалъ писемъ, рекомендовавшихъ Ползухина. Въ одно прекрасное утро явился и самъ Ползухинъ, молодой человѣкъ, полный, съ бритымъ, жокейскимъ лицомъ, въ новой черной парѣ…
— По дѣламъ службы я принимаю не здѣсь, а въ канцеляріи, — сказалъ сухо директоръ, выслушавъ его просьбу.
— Простите, ваше превосходительство, но наши общіе знакомые посовѣтовали мнѣ обратиться именно сюда.
— Гм!… — промычалъ директоръ, съ ненавистью глядя да его остроносые башмаки. — Насколько я знаю, — сказалъ онъ: — у вашего батюшки есть состояніе и вы не нуждаетесь, какая же вамъ надобность проситься на это мѣсто? Вѣдь жалованье грошовое!
— Я не изъ-за жалованья, а такъ… И все-таки служба казенная…
— Такъ-съ… Мнѣ кажется, черезъ мѣсяцъ же вамъ надоѣстъ эта должность и вы ее бросите, а между тѣмъ есть кандидаты, для которыхъ это мѣсто — карьера на всю жизнь. Есть бѣдняки, для которыхъ…
— Не надоѣстъ, ваше превосходительство! — перебилъ Ползухинъ. — Честное слово, я буду стараться!
Директора взорвало.
— Послушайте, — спросилъ онъ, презрительно улыбаясь: — почему вы не обратились сразу ко мнѣ, а нашли нужнымъ предварительно безпокоить дамъ?
— Я не зналъ, что это для васъ будетъ непріятно, — отвѣтилъ Ползухинъ и сконфузился. — Но, ваше превосходительство, если вы не придаете значенія рекомендательнымъ письмамъ, то я могу вамъ представить аттестаціи…
Онъ досталъ изъ кармана бумагу и подалъ ее директору. Подъ аттестаціей, написанной канцелярскимъ слогомъ и почеркомъ, стояла подпись губернатора. По всему видно было, что губернаторъ подписалъ не читая, лишь бы только отдѣлаться отъ какой-нибудь навязчивой барыни.
— Нечего дѣлать, преклоняюсь… слушаю-съ… — сказалъ директоръ, прочитавъ аттестацію, и вздохнулъ. — Подавайте завтра прошеніе… Нечего дѣлать…
И когда Ползухинъ ушелъ, директоръ весь отдался чувству отвращенія.
— Дрянь! — шипѣлъ онъ, шагая изъ угла въ уголъ. — Добился-таки своего, негодный шаркунъ, бабій угодникъ! Гадина! Тварь!
Директоръ громко плюнулъ въ дверь, за которой скрылся Ползухинъ, и вдругъ сконфузился, потому что въ это время входила къ нему въ кабинетъ барыня, жена управляющаго казенной палаты…
— Я на минутку, на минутку… — начала барыня. — Садитесь, кумъ, и слушайте меня внимательно… Ну-съ, говорятъ, у васъ есть свободная вакансія… Завтра или сегодня будетъ у васъ молодой человѣкъ, нѣкто Ползухинъ…
Барыня щебетала, а директоръ глядѣлъ на нее мутными, осовѣлыми глазами, какъ человѣкъ, собирающійся упасть въ обморокъ, глядѣлъ и улыбался изъ приличія.
А на другой день, принимая у себя въ канцеляріи Временскаго, директоръ долго не рѣшался сказать ему правду. Онъ мялся, путался и не находилъ, съ чего начать, что сказать. Ему хотѣлось извиниться передъ учителемъ, разсказать ему всю сущую правду, но языкъ заплетался, какъ у пьянаго, уши горѣли и стало вдругъ обидно и досадно, что приходится играть такую нелѣпую роль — въ своей канцеляріи, передъ своимъ подчиненнымъ. Онъ вдругъ ударилъ по столу, вскочилъ и закричалъ сердито:
— Нѣтъ у меня для васъ мѣста! Нѣтъ и нѣтъ! Оставьте меня въ покоѣ! Не мучайте меня! Отстаньте отъ меня, наконецъ, сдѣлайте одолженіе!
И вышелъ изъ канцеляріи.
«Осколки», 1886, № 16.
Полинька.
Второй часъ дня. Въ галантерейномъ магазинѣ «Парижскія Новости», что въ одномъ изъ пассажей, торговля въ разгарѣ. Слышенъ монотонный гулъ приказчичьихъ голосовъ, гулъ, какой бываетъ въ школѣ, когда учитель заставляетъ всѣхъ учениковъ зубрить что-нибудь вслухъ. И этого однообразнаго шума не нарушаютъ ни смѣхъ дамъ, ни стукъ входной стеклянной двери, ни бѣготня мальчиковъ.
Посреди магазина стоитъ Полинька, дочь Марьи Андреевны, содержательницы модной мастерской, маленькая, худощавая блондинка, и ищетъ кого-то глазами. Къ ней подбѣгаетъ чернобровый мальчикъ и спрашиваетъ, глядя на нее очень серьезно:
— Что прикажете, сударыня?
— Со мной всегда Николай Тимофеичъ занимается, — отвѣчаетъ Полинька.
А приказчикъ Николай Тимофеичъ, стройный брюнетъ, завитой, одѣтый по модѣ, съ большой булавкой на галстукѣ, уже расчистилъ мѣсто на прилавкѣ, вытянулъ шею и съ улыбкой глядитъ на Полиньку.
— Пелагея Сергѣевна, мое почтеніе! — кричитъ онъ хорошимъ, здоровымъ баритономъ. — Пожалуйте!
— А, здрасьте, — говоритъ Полинька, подходя къ нему. — Видите, я опять къ вамъ… Дайте мнѣ аграманту какого-нибудь.
— Для чего вамъ собственно?
— Для лифчика, для спинки, однимъ словомъ на весь гарнитурчикъ.
— Сію минуту.
Николай Тимофеичъ кладетъ передъ Полинькой нѣсколько сортовъ аграманта; та лѣниво выбираетъ и начинаетъ торговаться.
— Помилуйте, рубль вовсе не дорого! — убѣждаетъ приказчикъ, снисходительно улыбаясь. — Это аграмантъ французскій, восьмигранный… Извольте, у насъ есть обыкновенный, вѣсовой… Тотъ 45 копеекъ аршинъ, это ужъ не то достоинство! Помилуйте-съ!
— Мнѣ еще нуженъ стеклярусный бокъ съ аграмантными пуговицами, — говоритъ Полинька, нагибаясь надъ аграмантомъ, и почему-то вздыхаетъ. — А не найдутся ли у васъ подъ этотъ цвѣтъ стеклярусныя бонбошки?
— Есть-съ.
Полинька еще ниже нагибается къ прилавку и тихо спрашиваетъ:
— А зачѣмъ это вы, Николай Тимофеичъ, въ четвергъ ушли отъ насъ такъ рано?
— Гм!… Странно, что вы это замѣтили, — говоритъ приказчикъ съ усмѣшкой. — Вы такъ были увлечены господиномъ студентомъ, что… странно, какъ это вы замѣтили!
Полинька вспыхиваетъ и молчитъ.. Приказчикъ съ нервной дрожью въ пальцахъ закрываетъ коробки и безъ всякой надобности ставитъ ихъ одна на другую. Проходитъ минута въ молчаніи.
— Мнѣ еще стеклярусныхъ кружевъ, — говоритъ Полинька, поднимая виноватые глаза на приказчика.
— Какихъ вамъ? Стеклярусныя кружева по тюлю черныя и цвѣтныя — самая модная отдѣлка.
— А почемъ они у васъ?
— Черныя отъ 80 копеекъ, а цвѣтныя на 2 р. 50 к. А къ вамъ я больше никогда не приду-съ, — тихо добавляетъ Николай Тимофеичъ.
— Почему?
— Почему? Очень просто. Сами вы должны понимать. Съ какой стати мнѣ себя мучить? Странное дѣло! Нешто мнѣ пріятно видѣть, какъ этотъ студентъ около васъ разыгрываетъ роль-съ? Вѣдь я все вижу и понимаю. Съ самой осени онъ за вами ухаживаетъ по-настоящему и почти каждый день вы съ нимъ гуляете, а когда онъ у васъ въ гостяхъ сидитъ, такъ вы въ него впившись глазами, словно въ ангела какого-нибудь. Вы въ него влюблены, для васъ лучше и человѣка нѣтъ, какъ онъ, ну и отлично, нечего и разговаривать…
Полинька молчитъ и въ замѣшательствѣ водитъ пальцемъ по прилавку.
— Я все отлично вижу, — продолжалъ приказчикъ. — Какой же мнѣ резонъ къ вамъ ходить? У меня самолюбіе есть. Не всякому пріятно пятымъ колесомъ въ возу быть. Чего вы спрашивали-то?
— Мнѣ мамаша много кой-чего велѣла взять, да я забыла. Еще плюмажу нужно.
— Какого прикажете?
— Получше, какой моднѣй.
— Самый модный теперь изъ птичьяго пера. Цвѣтъ, ежели желаете, модный теперь геліотропъ, или цвѣтъ канакъ, то-есть бордо съ желтымъ. Выборъ громадный. А къ чему вся эта исторія клонится, я рѣшительно не понимаю. Вы вотъ влюбившись, а чѣмъ это кончится?
На лицѣ Николая Тимофеича около глазъ выступили красныя пятна. Онъ мнетъ въ рукахъ нѣжную пушистую тесьму и продолжаетъ бормотать:
— Воображаете за него замужъ выйти, что ли? Ну, насчетъ этого — оставьте ваше воображеніе. Студентамъ запрещается жениться, да и развѣ онъ къ вамъ затѣмъ ходитъ, чтобы все честнымъ образомъ кончить? Какъ же! Вѣдь они, студенты эти самые, насъ и за людей не считаютъ… Ходятъ они къ купцамъ да къ модисткамъ только затѣмъ, чтобъ надъ необразованностью посмѣяться и пьянствовать. У себя дома, да въ хорошихъ домахъ стыдно пить, ну, а у такихъ простыхъ, необразованныхъ людей, какъ мы, некого имъ стыдиться, можно и вверхъ ногами ходить. Да-съ! Такъ какого же вы плюмажу возьмете? А ежели онъ за вами ухаживаетъ и въ любовь играетъ, то извѣстно зачѣмъ… Когда станетъ докторомъ или адвокатомъ, будетъ вспоминать: «Эхъ, была у меня, скажетъ, когда-то блондиночка одна! Гдѣ-то она теперь»? Небось и теперь ужъ тамъ, у себя, среди студентовъ, хвалится, что у него модисточка есть на примѣтѣ.
Полинька садится на стулъ и задумчиво глядитъ на гору бѣлыхъ коробокъ.
— Нѣтъ, ужъ я не возьму плюмажу! — вздыхаетъ она. — Пусть сама мамаша беретъ, какого хочетъ, а я ошибиться могу. Мнѣ вы дайте шесть аршинъ бахромы для дипломата, что по 40 копеекъ аршинъ. Для того же дипломата дадите пуговицъ кокосовыхъ, съ насквозь прошивными ушками… чтобы покрѣпче держались…
Николай Тимофеичъ заворачиваетъ ей и бахромы, и пуговицъ. Она виновато глядитъ ему въ лицо и видимо ждетъ, что онъ будетъ продолжать говорить, но онъ угрюмо молчитъ и приводитъ въ порядокъ плюмажъ.
— Не забыть бы еще для капота пуговицъ взять… — говоритъ она послѣ нѣкотораго молчанія, утирая платкомъ блѣдныя губы.
— Какихъ вамъ?
— Для купчихи шьемъ, значитъ, дайте что-нибудь выдающееся изъ ряда обыкновеннаго…
— Да, если купчихѣ, то нужно выбирать попестрѣе. Вотъ-съ пуговицы. Сочетаніе цвѣтовъ синяго, краснаго и моднаго золотистаго. Самыя глазастыя. Кто поделикатнѣе, тѣ берутъ у насъ черныя матовыя съ однимъ блестящимъ ободочкомъ. Только я не понимаю. Неужели вы сами не можете разсудить? Ну, къ чему по-ведутъ эти… прогулки?
— Я сама не знаю… — шепчетъ Полинька, и нагибается къ пуговицамъ. — Я сама не знаю, Николай Тимофеичъ, что со мной дѣлается.
За спиной Николая Тимофеича, прижавъ его къ прилавку, протискивается солидный приказчикъ съ бакенами и, сіяя самою утонченною галантностью, кричитъ:
— Будьте любезны, мадамъ, пожаловать въ это отдѣленіе! Кофточки джерсе имѣются три номера: гладкая, сутажетъ и со стеклярусомъ! Какую вамъ прикажете?
Одновременно около Полиньки проходитъ толстая дама, которая говоритъ густымъ низкимъ голосомъ, почти басомъ:
— Только пожалуйста, чтобъ онѣ были безъ сшивокъ, а тканыя, и чтобъ пломба была вваленная.
— Дѣлайте видъ, что товаръ осматриваете, — шепчетъ Николай Тимофеичъ, наклоняясь къ Полинькѣ и насильно улыбаясь. — Вы, Богъ съ вами, какая-то блѣдная и больная, совсѣмъ изъ лица измѣнились. Броситъ онъ васъ Пелагея Сергѣевна! А если женится когда-нибудь, то не по любви, а съ голода, на деньги ваши польстится. Сдѣлаетъ себѣ на приданое приличную обстановку, а потомъ стыдиться васъ будетъ. Отъ гостей и товарищей будетъ васъ прятать, потому что вы не образованная, такъ и будетъ говорить: моя кувалда. Развѣ вы можете держать себя въ докторскомъ или адвокатскомъ обществѣ? Вы для нихъ модистка, невѣжественное существо.
— Николай Тимофеичъ! — кричитъ кто-то съ другого конца магазина. — Вотъ мадемуазель просятъ три аршина ленты съ пико! Есть у насъ?
Николай Тимофеичъ поворачивается въ сторону, осклабляетъ свое лицо и кричитъ:
— Есть-съ! Есть ленты съ пико, атаманъ съ атласомъ и атласъ съ муаромъ!
— Кстати, чтобъ не забыть, Оля просила взять для нея корсетъ! — говоритъ Полинька.
— У васъ на глазахъ… слезы! — пугается Николай Тимофеичъ… — Зачѣмъ это? Пойдемте къ корсетамъ, я васъ загорожу, а то неловко.
Насильно улыбаясь и съ преувеличенною развязностью, приказчикъ быстро ведетъ Полиньку къ корсетному отдѣленію и прячетъ ее отъ публики за высокую пирамиду изъ коробокъ…
— Вамъ какой прикажете корсетъ? — громко спрашиваетъ онъ и тутъ же шепчетъ: — Утрите глаза!
— Мнѣ… мнѣ въ 48 сантиметровъ! Только, пожалуйста, она просила двойной съ подкладкой… съ настоящимъ китовымъ усомъ… Мнѣ поговорить съ вами нужно, Николай Тимофеичъ. Приходите нынче!
— О чемъ же говорить? Не о чемъ говорить.
— Вы одинъ только… меня любите и, кромѣ васъ, не съ кѣмъ мнѣ поговорить.
— Не камышъ, не кости, а настоящій китовый усъ… О чемъ же намъ говорить? Говорить не о чемъ… Вѣдь пойдете съ нимъ сегодня гулять?
— По…пойду.
— Ну, такъ о чемъ же тутъ говорить? Не поможешь разговорами… Влюблены вѣдь?
— Да… — шепчетъ нерѣшительно Полинька, и изъ глазъ ея брызжутъ крупныя слезы.
— Какіе же могутъ быть разговоры? — бормочетъ Николай Тимофеичъ, нервно пожимая плечами и блѣднѣя. — Никакихъ разговоровъ и не нужно… Утрите глаза, вотъ и все. Я… я ничего не желаю…
Въ это время къ пирамидѣ изъ коробокъ подходитъ высокій, тощій приказчикъ и говоритъ своей покупательницѣ:
— Не угодно ли, прекрасный эластикъ для подвязокъ, не останавливающій крови, признанный медициной…
Николай Тимофеичъ загораживаетъ Полиньку и, стараясь скрыть ея и свое волненіе, морщитъ лицо въ улыбку и громко говоритъ:
— Есть два сорта кружевъ, сударыня! Бумажныя и шелковыя! Оріенталь, британскія, валенсьенъ, кроше, торшонъ — это бумажныя-съ, а рококо, сутажетъ, камбре — это шелковыя… Ради Бога, утрите слезы! Сюда идутъ!
И видя, что слезы все еще текутъ, онъ продолжаетъ еще громче:
— Испанскія, рококо, сутажетъ, камбре… Чулки фильдекосовые, бумажные, шелковые…
«Петербургская газета», 1887, № 32.
Приданое.
Много я видалъ на своемъ вѣку домовъ, большихъ и малыхъ, каменныхъ и деревянныхъ, старыхъ и новыхъ, но особенно врѣзался мнѣ въ память одинъ домъ. Это, впрочемъ, не домъ, а домикъ. Онъ малъ, въ одинъ маленькій этажъ и въ три окна, и ужасно похожъ на маленькую, горбатую старушку въ чепцѣ. Оштукатуренный въ бѣлый цвѣтъ, съ черепичной крышей и ободранной трубой, онъ весь утонулъ въ зелени шелковицъ, акацій и тополей, посаженныхъ дѣдами и прадѣдами теперешнихъ хозяевъ. Его не видно за зеленью. Эта масса зелени не мѣшаетъ ему, впрочемъ, быть городскимъ домикомъ. Его широкій дворъ стоитъ въ рядъ съ другими, тоже широкими зелеными дворами, и входитъ въ составъ Московской улицы. Никто по этой улицѣ никогда не ѣздитъ, рѣдко кто ходитъ.
Ставни въ домикѣ постоянно прикрыты: жильцы не нуждаются въ свѣтѣ. Свѣтъ имъ не нуженъ. Окна никогда не отворяются, потому что обитатели домика не любятъ свѣжаго воздуха. Люди, постоянно живущіе среди шелковицъ, акацій и репейника, равнодушны къ природѣ. Однимъ только дачникамъ Богъ далъ способность понимать красоты природы, остальное же человѣчество относительно этихъ красотъ коснѣетъ въ глубокомъ невѣжествѣ. Не цѣнятъ люди того, чѣмъ богаты. «Что имѣемъ, не хранимъ»; мало того, — что имѣемъ, того не любимъ. Вокругъ домика рай земной, зелень, живутъ веселыя птицы, въ домикѣ же, — увы! Лѣтомъ въ немъ знойно и душно, зимою — жарко, какъ въ банѣ, угарно и скучно, скучно…
Въ первый разъ посѣтилъ я этотъ домикъ уже давно, по дѣлу: я привезъ поклонъ отъ хозяина дома, полковника Чикамасова, его женѣ и дочери. Это первое мое посѣщеніе я помню прекрасно. Да и нельзя не помнить.
Вообразите себѣ маленькую, сырую женщину, лѣтъ сорока, съ ужасомъ и изумленіемъ глядящую на васъ въ то время, когда вы входите изъ передней въ залу. Вы «чужой», гость, «молодой человѣкъ» — и этого уже достаточно, чтобы повергнуть въ изумленіе и ужасъ. Въ рукахъ у васъ нѣтъ ни кистеня, ни топора, ни револьвера, вы дружелюбно улыбаетесь, но васъ встрѣчаютъ тревогой.
— Кого я имѣю честь и удовольствіе видѣть? — спрашиваетъ васъ дрожащимъ голосомъ пожилая женщина, въ которой вы узнаете хозяйку Чикамасову.
Вы называете себя и объясняете, зачѣмъ пришли. Ужасъ и изумленіе смѣняются пронзительнымъ, радостнымъ «ахъ!» и закатываніемъ глазъ. Это «ахъ», какъ эхо, передается изъ передней въ залъ, изъ зала въ гостиную, изъ гостиной въ кухню… и такъ до самаго погреба. Скоро весь домикъ наполняется разноголосыми, радостными «ахъ». Минутъ черезъ пять вы сидите въ гостиной, на большомъ, мягкомъ, горячемъ диванѣ и слышите, какъ ахаетъ ужъ вся Московская улица.
Пахло порошкомъ отъ моли и новыми козловыми башмаками, которые, завернутые въ платочекъ, лежали возлѣ меня на стулѣ. На окнахъ герань, кисейныя тряпочки. На тряпочкахъ сытыя мухи. На стѣнѣ портретъ какого-то архіерея, написанный масляными красками и прикрытый стекломъ съ разбитымъ уголышкомъ. Отъ архіерея идетъ рядъ предковъ съ желто-лимонными, цыганскими физіономіями. На столѣ наперстокъ, катушка нитокъ и недовязанный чулокъ, на полу выкройки и черная кофточка съ живыми нитками. Въ сосѣдней комнатѣ двѣ встревоженныя, оторопѣвшія старухи хватаютъ съ пола выкройки и куски ланкорта…
— У насъ, извините, ужасный безпорядокъ! — сказала Чикамасова.
Чикамасова бесѣдовала со мной и конфузливо косилась на дверь, за которой все еще подбирали выкройки. Дверь тоже какъ-то конфузливо, то отворялась на вершокъ, то затворялась.
— Ну, что тебѣ? — обратилась Чикамасова къ двери.
— Où est ma cravate, laquelle mon père m’avait envoyée de Koursk?7 — спросилъ за дверью женскій голосокъ.
— Ah, est-ce que, Marie, que…8 Ахъ, развѣ можно… Nous avons donc chez nous un homme très peu connu par nous…9 Спроси у Лукерьи…
«Однако, какъ хорошо говоримъ мы по-французски!» — прочелъ я въ глазахъ у Чикамасовой, покраснѣвшей отъ удовольствія.
Скоро отворилась дверь, и я увидѣлъ высокую худую дѣвицу, лѣтъ девятнадцати, въ длинномъ кисейномъ платьѣ и золотомъ поясѣ, на которомъ, помню, висѣлъ перламутровый вѣеръ. Она вошла, присѣла и вспыхнула. Вспыхнулъ сначала ея длинный, нѣсколько рябоватый носъ, съ носа пошло къ глазамъ, отъ глазъ къ вискамъ.
— Моя дочь! — пропѣла Чикамасова. — А это, Манечка, молодой человѣкъ, который…
Я познакомился и выразилъ свое удивленіе по поводу множества выкроекъ. Мать и дочь опустили глаза.
— У насъ на Вознесенье была ярмарка, — сказала мать. — На ярмаркѣ мы всегда накупаемъ матерій и шьемъ потомъ цѣлый годъ до слѣдующей ярмарки. Въ люди шитье мы никогда не отдаемъ. Мой Петръ Степанычъ достаетъ но особенно много, и намъ нельзя позволять себѣ роскошь. Приходится самимъ шить.
— Но кто же у васъ носитъ такую массу? Вѣдь васъ только двое.
— Ахъ… развѣ это можно носить? Это не носить! Это — приданое!
— Ахъ, maman, что вы? — сказала дочь и зарумянилась. — Они и въ правду могутъ подумать… Я никогда не выйду замужъ! Никогда!
Сказала это, а у самой при словѣ «замужъ» загорѣлись глазки.
Принесли чай, сухари, варенья, масло, потомъ покормили малиной со сливками. Въ семь часовъ вечера былъ ужинъ изъ шести блюдъ, и во время этого ужина я услышалъ громкій зѣвокъ; кто-то громко зѣвнулъ въ сосѣдней комнатѣ. Я съ удивленіемъ поглядѣлъ на дверь: такъ зѣвать можетъ только мужчина.
— Это братъ Петра Семеныча, Егоръ Семенычъ… — пояснила Чикамасова, замѣтивъ мое удивленіе. — Онъ живетъ у насъ съ прошлаго года. Вы извините его, онъ не можетъ выйти къ вамъ. Дикарь такой… конфузится чужихъ… Въ монастырь собирается… На службѣ огорчили его… Такъ вотъ съ горя…
Послѣ ужина Чикамасова показала мнѣ епитрахиль, которую собственноручно вышивалъ Егоръ Семенычъ, чтобы потомъ пожертвовать въ церковь. Манечка сбросила съ себя на минуту робость и показала мнѣ кисетъ, который она вышивала для своего папаши. Когда я сдѣлалъ видъ, что пораженъ ея работой, она вспыхнула и шепнула что-то на ухо матери. Та просіяла и предложила мнѣ пойти съ ней въ кладовую. Въ кладовой я увидѣлъ штукъ пять большихъ сундуковъ и множество сундучковъ и ящичковъ.
— Это… приданое! — шепнула мнѣ мать. — Сами нашили. Поглядѣвъ на эти угрюмые сундуки, я сталъ прощаться съ хлѣбосольными хозяевами. И съ меня взяли слово, что я еще побываю когда-нибудь.
Это слово пришлось мнѣ сдержать лѣтъ черезъ семь послѣ перваго моего посѣщенія, когда я посланъ былъ въ городокъ, въ качествѣ эксперта по одному судебному дѣлу. Зайдя въ знакомый домикъ, я услыхалъ тѣ же аханья… Меня узнали… Еще бы! Мое первое посѣщеніе въ жизни ихъ было цѣлымъ событіемъ, а событія тамъ, гдѣ ихъ мало, помнятся долго. Когда я вошелъ въ гостиную, мать, еще болѣе потолстѣвшая и уже посѣдѣвшая, ползала по полу и кроила какую-то синюю матерію; дочь сидѣла на диванѣ и вышивала. Тѣ же выкройки, тотъ же запахъ порошка отъ моли, тотъ же портретъ съ разбитымъ уголышкомъ. Но перемѣны все-таки были. Возлѣ архіерейскаго портрета висѣлъ портретъ Петра Семеныча и дамы были въ траурѣ. Петръ Семенычъ умеръ черезъ недѣлю послѣ производства своего въ генералы.
Начались воспоминанія… Генеральша всплакнула.
— У насъ большое горе! — сказала она. — Петра Семеныча — вы знаете? — уже нѣтъ. Мы съ ней сироты и сами должны о себѣ заботиться. А Егоръ Семенычъ живъ, но мы не можемъ сказать о немъ ничего хорошаго. Въ монастырь его не приняли за… за горячіе напитки. И онъ пьетъ теперь еще больше съ горя. Я собираюсь съѣздить къ предводителю, хочу жаловаться. Вообразите, онъ нѣсколько разъ открывалъ сундуки и… забиралъ Манечкино приданое и жертвовалъ его странникамъ. Изъ двухъ сундуковъ все повытаскалъ! Если такъ будетъ продолжаться, то моя Манечка останется совсѣмъ безъ приданаго…
— Что вы говорите, maman! — сказала Манечка и сконфузилась. — Они и взаправду могутъ Богъ знаетъ что подумать… Я никогда, никогда не выйду замужъ!
Манечка вдохновенно, съ надеждой глядѣла въ потолокъ и видимо не вѣрила въ то, что говорила.
Въ передней юркнула маленькая мужская фигурка съ большой лысиной и въ коричневомъ сюртукѣ, въ калошахъ вмѣсто сапогъ, и прошуршала, какъ мышь.
«Егоръ Семенычъ, должно-бытъ», — подумалъ я. Я смотрѣлъ на мать и дочь вмѣстѣ: обѣ онѣ страшно постарѣли и осунулись. Голова матери отливала серебромъ, а дочь поблекла, завяла, и казалось, что мать старше дочери лѣтъ на пять, не больше.
— Я собираюсь съѣздить къ предводителю, — сказала мнѣ старуха, забывши, что уже говорила объ этомъ. — Хочу жаловаться! Егоръ Семенычъ забираетъ у насъ все, что мы нашиваемъ, и куда-то жертвуетъ за спасеніе души. Моя Манечка осталась безъ приданаго!
Манечка вспыхнула, но уже не сказала ни слова.
— Приходится все снова шить, а вѣдь мы не Богъ знаетъ какія богачки! Мы съ ней сироты!
— Мы сироты! — повторила Манечка.
Въ прошломъ году судьба опять забросила меня въ знакомый домикъ. Войдя въ гостиную, я увидѣлъ старушку Чикамасову. Она, одѣтая во все черное, съ плерезами, сидѣла на диванѣ и шила что-то. Рядомъ съ ней сидѣлъ старичокъ въ коричневомъ сюртукѣ и въ калошахъ вмѣсто сапогъ. Увидѣвъ меня, старичокъ вскочилъ и побѣжалъ вонъ изъ гостиной…
Въ отвѣтъ на мое привѣтствіе старушка улыбнулась и сказала:
— Je suis charmée de vous revoir, monsieur10.
— Что вы шьете? — спросилъ я, немного погодя.
— Это рубашечка. Я сошью и отнесу къ батюшкѣ спрятать, а то Егоръ Семенычъ унесетъ. Я теперь все прячу у батюшки, — сказала она шопотомъ.
И взглянувъ на портретъ дочери, стоявшій передъ ней на столѣ, она вздохнула и сказала:
— Вѣдь мы сироты!
А гдѣ же дочь? Гдѣ же Манечка? Я не разспрашивалъ; не хотѣлось разспрашивать старушку, одѣтую въ глубокій трауръ, и пока я сидѣлъ въ домикѣ и потомъ уходилъ, Манечка не вышла ко мнѣ, я не слышалъ ни ея голоса, ни ея тихихъ, робкихъ шаговъ… Было все понятно и было такъ тяжело на душѣ.
«Будильникъ», 1883, № 30.
Свадьба.
Шаферъ въ цилиндрѣ и въ бѣлыхъ перчаткахъ, запыхавшись, сбрасываетъ въ передней пальто и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто хочетъ сообщить что-то страшное, вбѣгаетъ въ залъ.
— Женихъ уже въ церкви! — объявляетъ онъ, тяжело переводя духъ.
Наступаетъ тишина. Всѣмъ вдругъ становится грустно.
Отецъ невѣсты, отставной подполковникъ, съ тощимъ, испитымъ лицомъ, чувствуя, вѣроятно, что его куцая, военная фигурка въ рейтузахъ недостаточно торжественна, солидно надуваетъ щеки и выпрямляется. Онъ беретъ со столика образъ. Его жена, маленькая старушка въ тюлевомъ чепцѣ съ широкими лентами, беретъ хлѣбъ-соль и становится рядомъ съ нимъ. Начинается благословеніе.
Невѣста Любочка безшумно, какъ тѣнь, опускается передъ отцомъ на колѣни, и ея фата волнуется при этомъ и цѣпляется, за цвѣты, разбросанные по платью, и изъ прически выбивается нѣсколько шпилекъ. Поклонившись образу и поцѣловавшись съ отцомъ, который еще сильнѣе надуваетъ щеки, Любочка опускается передъ матерью; фата ея опять цѣпляется, и двѣ барышни, взволнованныя, подбѣгаютъ къ ней, обдергиваютъ, поправляютъ, прикалываютъ булавками…
Тишина, всѣ молчатъ, не шевелятся, только одни шафера, какъ горячія пристяжныя, нетерпѣливо переминаются съ ноги на ногу, точно ждутъ, когда имъ позволено будетъ сорваться съ мѣста.
— Кто повезетъ образъ? — слышится тревожный шопотъ. — Спира, гдѣ ты? Спира!
— Цичасъ! — отвѣчаетъ изъ передней дѣтскій голосъ.
— Богъ съ вами, Дарья Даниловна! — кто-то вполголоса утѣшаетъ старуху, которая припала къ дочери лицомъ и всхлипываетъ. — Да развѣ можно плакать, Христосъ съ вами? Надо радоваться, душенька, а не плакать.
Благословеніе кончается. Любочка, блѣдная, такая торжественная, строгая на видъ, цѣлуется со своими подругами, и послѣ этого всѣ съ шумомъ, толкая другъ друга, устремляются въ переднюю. Шафера съ тревожной спѣшкой, крича безъ всякой надобности «pardon», одѣваютъ невѣсту.
— Любочка, дай я на тебя хоть еще разочекъ посмотрю! — стонетъ старуха.
— Ахъ, Дарья Даниловна! — вздыхаетъ кто-то укоризненно. — Радоваться надо, а вы это Богъ знаетъ что выдумали…
— Спира! Да гдѣ же ты? Спира! Наказаніе съ этимъ мальчишкой! Иди впередъ!
— Цичасъ!
Одинъ изъ шаферовъ беретъ шлейфъ невѣсты, и процессія начинаетъ спускаться внизъ. На перилахъ лѣстницы и на косякахъ всѣхъ дверей виснуть чужія горничныя и няньки; онѣ пожираютъ глазами невѣсту, слышится ихъ одобрительное жужжанье. Въ заднихъ рядахъ раздаются тревожные голоса: кто-то что-то забылъ, у кого-то невѣстинъ букетъ; дамы взвизгиваютъ, умоляя не дѣлать чего-то, потому что «примѣта есть».
У подъѣзда уже давно ждутъ карета и коляска. На лошадиныхъ гривахъ бумажные цвѣты и у всѣхъ кучеровъ руки перевязаны около плечъ цвѣтными платками. На козлахъ кареты сидитъ чудо-богатырь съ широкой окладистой бородой, въ новомъ кафтанѣ. Его протянутыя впередъ руки съ сжатыми кулаками, откинутая назадъ голова, необычайно широкія плечи, придаютъ ему не человѣческій, не живой видъ; весь онъ точно окаменѣлъ…
— Тпррр! — говоритъ онъ тонкимъ голосомъ и тотчасъ же добавляетъ густымъ басомъ: — шалишь! (отчего и кажется, что въ его широкой шеѣ два горла). — Тпррр! Шалишь!
Улица по обѣ стороны запружена публикой.
— Пода-ай! — кричатъ шафера, хотя подавать нечего, такъ какъ карета давно уже подана. Спира съ образомъ, невѣста и двѣ подруги садятся въ карету. Дверца хлопаетъ, и улица оглашается грохотомъ кареты.
— Коляску шаферамъ! пода-ай!
Шафера прыгаютъ въ коляску и, когда она трогается съ мѣста, приподнимаются и, корчась какъ въ судорогахъ, натягиваютъ на себя свои пальто. Подаются слѣдующіе экипажи.
— Софья Денисовна, садитесь! — слышатся голоса. — Пожалуйте и вы, Николай Миронычъ! Тпррр! Не безпокойтесь, барышня, всѣмъ будетъ мѣсто! Берегись!
— Слышишь, Макаръ! — кричитъ отецъ невѣсты. — Назадъ изъ церкви поѣзжайте другой дорогой! Примѣта есть!
Экипажи гремятъ по мостовой, шумъ, крики… Наконецъ, всѣ уѣхали, стало опять тихо. Отецъ невѣсты возвращается въ домъ; въ залѣ лакеи убираютъ столъ, въ сосѣдней темной комнаткѣ, которую всѣ въ домѣ называютъ «проходной», сморкаются музыканты, всюду суета, бѣготня, но ему кажется, что въ домѣ пусто. Солдаты-музыканты копошатся въ своей маленькой, темной комнаткѣ, все никакъ не могутъ помѣститься со своими громоздкими пюпитрами и инструментами. Пришли они недавно, но уже воздухъ въ «проходной» сталъ замѣтно гуще, нѣтъ никакой возможности дышать. Ихъ «старшой» Осиповъ, у котораго отъ старости усы и бакены сбились въ паклю, стоитъ передъ пюпитромъ и сердито глядитъ въ ноты.
— А тебѣ, Осиповъ, сносу нѣтъ: — говоритъ подполковникъ. — Сколько лѣтъ я тебя уже знаю? Лѣтъ двадцать!
— Больше, ваше высокоблагородіе. На вашей свадьбѣ играли, ежели изволите помнить.
— Да, да… — вздыхаетъ подполковникъ и задумывается. — Такая братъ исторія… Сыновей, слава Богу, поженилъ, теперь вотъ дочку выдаю, и остаемся мы со старухой сироты… Нѣту у насъ теперь дѣтокъ. На чистоту раздѣлались.
— Кто знаетъ? Можетъ, Ефимъ Петровичъ, вамъ Богъ еще пошлетъ, ваше высокоблагородіе…
Ефимъ Петровичъ съ удивленіемъ глядитъ на Осипова и смѣется въ кулакъ.
— Еще? — спрашиваетъ онъ. — Какъ ты сказалъ? Дѣтей еще Богъ пошлетъ? Мнѣ-то?
Онъ давится отъ смѣха, и слезы у него выступаютъ на глазахъ; музыканты изъ вѣжливости тоже смѣются. Ефимъ Петровичъ ищетъ глазами старуху, чтобы сообщить ей, что сказалъ Осиповъ, но она сама уже летитъ прямо на него, стремительно, сердитая, съ заплаканными глазами.
— Бога ты не боишься, Ефимъ Петровичъ! — говоритъ она, всплескивая руками. — Мы ищемъ, ищемъ ромъ, съ ногъ сбились, а ты тутъ стоишь! Гдѣ ромъ? Николай Миронычъ не можетъ безъ рома, а тебѣ горюшка мало! Поди, узнай у Игната, куда онъ ромъ поставилъ!
Ефимъ Петровичъ идетъ въ подвальный этажъ, гдѣ помѣшается кухня. По грязной лѣстницѣ снуютъ бабы и лакеи. Молодой солдатъ, накинувъ мундиръ на одно плечо, уперся колѣномъ о ступень и вертитъ мороженицу; потъ течетъ съ его краснаго лица. Въ темной и тѣсной кухнѣ, въ облакахъ дыма, работаютъ повара, взятые напрокатъ изъ клуба. Одинъ потрошитъ каплуна, другой дѣлаетъ изъ морковки звѣздочки, третій, красный какъ кумачъ, суетъ въ печь противень. Ножи стучатъ, посуда звенитъ, масло шипитъ. Попавъ въ этотъ адъ, Ефимъ Петровичъ забываетъ, о чемъ говорила ему старуха.
— А вамъ здѣсь, братцы, не тѣсно? — спрашиваетъ онъ.
— Ничего-съ, Ефимъ Петровичъ. Въ тѣснотѣ да не въ обидѣ, будьте покойны-съ…
— Ужъ вы постарайтесь, ребята.
Въ темномъ углу выростаетъ фигура Игната, буфетчика изъ клуба.
— Будьте покойны-съ, Ефимъ Петровичъ! — говоритъ онъ. — Все предоставимъ въ лучшемъ видѣ. Съ чѣмъ прикажете дѣлать мороженое: съ ромомъ, съ го-сотерномъ или безъ ничего?
Вернувшись въ комнаты, Ефимъ Петровичъ долго слоняется по комнатамъ, потомъ останавливается въ дверяхъ «проходной» и опять заводитъ разговоръ съ Осиповымъ.
— Такъ-то, братъ… — говоритъ онъ. — Сиротами остаемся. Покуда новый домъ не высохнетъ, молодые съ нами поживутъ, а тамъ прощайте! Только мы ихъ и видѣли…
Оба вздыхаютъ… Музыканты изъ вѣжливости тоже вздыхаютъ, отчего воздухъ становится еще гуще.
— Да, братъ, — вяло продолжаетъ Ефимъ Петровичъ: — была одна дочка, да и ту отдаемъ. Человѣкъ онъ образованный, говоритъ по-французски… Только вотъ попиваетъ, но кто нынче не пьетъ? Всѣ пьютъ.
— Это ничего, что пьетъ, — говоритъ Осиповъ. — Главное достоинство, Ефимъ Петровичъ, чтобы дѣло свое помнилъ. А ежели, положимъ, выпить, то почему не выпить? Выпить можно.
— Конечно, можно. Слышится всхлипыванье.
— Развѣ онъ можетъ чувствовать? — жалуется Дарья Даниловна какой-то старухѣ. — Вѣдь мы ему, мать моя, отсчитали десять тысячъ копеечка въ копеечку, домъ на Любочку записали, десятинъ триста земли… легко ли сказать? А нешто онъ можетъ чувствовать? Не таковскіе они нынче, чтобы чувствовать.
Столъ съ фруктами уже готовъ. Бокалы тѣсно стоятъ на двухъ подносахъ, бутылки съ шампанскимъ завернуты въ салфетки, въ столовой шипятъ самовары. Лакей безъ усовъ, съ бакенами записываетъ на бумажкѣ имена лицъ, здоровье которыхъ онъ будетъ провозглашать за ужиномъ, и читаетъ ихъ, точно учитъ наизусть. Изъ комнатъ выгоняютъ чужую собаку. Напряженное ожиданіе… Но вотъ раздаются тревожные голоса:
— Ѣдутъ! Ѣдутъ! Батюшка Ефимъ Петровичъ, ѣдутъ!
Старуха, обомлѣвшая, съ выраженіемъ крайней растерянности, хватаетъ хлѣбъ-соль, Ефимъ Петровичъ надуваетъ щеки, и оба вмѣстѣ спѣшатъ въ переднюю. Музыканты сдержанно, торопливо настраиваютъ инструменты, съ улицы доносится шумъ экипажей. Опять вошла со двора собака, ее гонятъ, она взвизгиваетъ… Еще одна минута ожиданія — и въ «проходной», рѣзко, остервенѣло рванувъ, раздается оглушительный, дикій, неистовый маршъ. Воздухъ оглашается восклицаніями, поцѣлуями, хлопаютъ пробки, у лакеевъ лица строгія…
Любочка и ея супругъ, солидный господинъ въ золотыхъ очкахъ, ошеломлены. Оглушительная музыка, яркій свѣтъ, всеобщее вниманіе, масса незнакомыхъ лицъ угнетаютъ ихъ… Они тупо глядятъ по сторонамъ, ничего не видятъ, ничего не понимаютъ.
Пьютъ шампанское и чай, все идетъ чинно и степенно. Многочисленные родственники, какіе-то необыкновенные дѣдушки и бабушки, которыхъ раньше никто никогда не видѣлъ, духовенство, отставные военные съ плоскими затылками, посажёные отецъ и мать жениха, крестные, стоятъ около стола и, осторожно прихлебывая чай, бесѣдуютъ о Болгаріи; барышни, какъ мухи, жмутся у стѣнъ; даже шафера утратили свой безпокойный видъ и стоятъ смирно у дверей.
Но проходитъ часъ-другой, и весь домъ дрожитъ уже отъ музыки и танцевъ. У шаферовъ опять такой видъ, точно они съ цѣпи сорвались. Въ столовой, гдѣ покоемъ накрытъ закусочный столъ, толпятся старики и нетанцующая молодежь; Ефимъ Петровичъ, выпившій уже рюмокъ пять, подмигиваетъ, щелкаетъ пальцами и давится отъ смѣха. Ему пришло на мысль, что хорошо бы женить шаферовъ, и это ему нравится, кажется остроумнымъ, забавнымъ, и онъ радъ, такъ радъ, что не можетъ выразить на словахъ, а только хохочетъ… Его жена, не ѣвшая ничего съ утра и опьянѣвшая отъ шампанскаго, блаженно улыбается и говоритъ всѣмъ:
— Нельзя, нельзя, господа, въ спальню ходить! Это не деликатно въ спальню ходить. Не заглядывайте!
Это значитъ: пожалуйте поглядѣть спальню! Все ея материнское тщеславіе и всѣ таланты ушли въ эту спальню. И есть чѣмъ похвастать! Посреди спальни стоятъ двѣ кровати съ высокими постелями; наволочки кружевныя, одѣяла шелковыя, стеганыя, съ мудреными, непонятными вензелями. На постели Любочки лежитъ чепчикъ съ розовыми лентами, а на постели ея мужа шлафрокъ мышинаго цвѣта съ голубыми кистями. Каждый изъ гостей, взглянувъ на постели, считаетъ своимъ долгомъ значительно подмигнуть глазомъ и сказать «м-да-а», а старуха сіяетъ и говоритъ шопотомъ:
— Спальня-то рублей триста стоила, батюшка. Шутка ли! Ну, уходите, мужчинамъ не годится сюда ходить.
Въ третьемъ часу подаютъ ужинъ. Лакей съ бакенами провозглашаетъ тосты, а музыка играетъ тушъ. Ефимъ Петровичъ напивается окончательно и уже никого не узнаетъ; ему кажется, что онъ не у себя дома, а въ гостяхъ, что его обидѣли; онъ въ передней надѣваетъ пальто и шапку и, отыскивая свои калоши, кричитъ хриплымъ голосомъ:
— Не желаю я тутъ больше оставаться! Вы всѣ подлецы! Негодяи! Я васъ выведу на чистую воду!
А возлѣ стоитъ жена и говоритъ ему:
— Уймись, безбожная твоя душа! Уймись, истуканъ, иродъ, наказаніе мое!
«Петербургская газета», 1887, № 259.
Темнота.
Молодой парень, бѣлобрысый и скуластый, въ рваномъ тулупчикѣ и въ большихъ, черныхъ валенкахъ, выждалъ, когда земскій докторъ, кончивъ пріемку, возвращался изъ больницы къ себѣ на квартиру, и подошелъ къ нему несмѣло.
— Къ вашей милости, — сказалъ онъ.
— Что тебѣ?
Парень ладонью провелъ себѣ по носу снизу вверхъ, поглядѣлъ на небо и потомъ уже отвѣтилъ:
— Къ вашей милости… Тутъ у тебя, вашескоблородіе, въ арестанской палатѣ мой братъ Васька, кузнецъ изъ Варварина…
— Да, такъ что же?
— Я, стало-быть, Васькинъ братъ… У отца насъ двое: онъ — Васька, да я — Кирила. А кромѣ насъ три сестры, а Васька женатый и ребятенокъ есть… Народу много, а работать некому… Въ кузницѣ, почитай, уже два года огня не раздували. Самъ я на ситцевой фабрикѣ, кузнечить не умѣю, а отецъ какой работникъ? Не токмо, скажемъ, работать, путемъ ѣсть не можетъ, ложку мимо рта несетъ.
— Что же тебѣ отъ меня нужно?
— Сдѣлай милость, отпусти Ваську!
Докторъ удивленно поглядѣлъ на Кирилу и, ни слова не сказавши, пошелъ дальше. Парень забѣжалъ впередъ и бухнулъ ему въ ноги.
— Докторъ, господинъ хорошій! — взмолился онъ, моргая глазами и опять проводя ладонью по носу. — Яви божескую милость, отпусти ты Ваську домой! Заставь вѣчно Бога молить! Ваше благородіе, отпусти! Съ голоду всѣ дохнутъ! Мать день-деньской реветъ, Васькина баба реветъ… просто смерть! На свѣтъ бѣлый не глядѣлъ бы! Сдѣлай милость, отпусти его, господинъ хорошій!
— Да ты глупъ, или съ ума сошелъ? — спросилъ докторъ, глядя на него сердито. — Какъ же я могу его отпустить? Вѣдь онъ арестантъ!
Кирила заплакалъ.
— Отпусти!
— Тьфу, чудакъ! Какое же я имѣю право? Тюремщикъ я, что ли? Привели его ко мнѣ въ больницу лѣчиться, я лѣчу, а отпускать его я имѣю такое же право, какъ тебя засадить въ тюрьму. Глупая голова!
— Да вѣдь его задаромъ посадили! Покеда до суда онъ, почитай, годъ въ острогѣ сидѣлъ, а теперь, спрашивается, за что сидитъ? Добро бы, убивалъ, скажемъ, или коней кралъ, а то такъ попалъ, здорово-живешь.
— Вѣрно, но я-то тутъ при чемъ?
— Посадили мужика и сами не знаютъ, за что. Былъ онъ выпивши, ваше благородіе, ничего не помнилъ и даже отца по уху урѣзалъ, щеку себѣ напоролъ на сукъ спьяна-то, а двое нашихъ ребятъ — захотѣлось имъ, видишь, турецкаго табаку — стали ему говорить, чтобы онъ съ ними ночью въ армяшкину лавку забрался, за табакомъ. Онъ спьяна-то послушался, дуракъ. Сломали они это, знаешь, замокъ, забрались и давай чертить. Все разворочали, стекла побили, муку разсыпали. Пьяные — одно слово! Ну, сичасъ урядникъ… то да сё, къ слѣдователю. Годъ цѣльный въ острогѣ сидѣли, а недѣлю назадъ, въ среду, судили всѣхъ трехъ, въ городѣ. Солдатъ сзади съ ружьемъ… присягалъ народъ. Васька-то всѣхъ меньше виноватъ, а господа такъ разсудили, что онъ первый коноводъ. Обоихъ ребятъ въ острогъ, а Ваську въ арестанскую роту на три года. А за что? Разсуди по-божецки!
— Опять-таки я тутъ ни при чемъ. Ступай кь начальству.
— Я уже былъ у начальства! Ходилъ въ судъ, хотѣлъ прошеніе подать, они и прошенія не взяли. Былъ я и у станового, и у слѣдавателя былъ, и всякій говоритъ: не мое дѣло! Чье-жъ дѣло? А въ больницѣ тутъ старшѣй тебя нѣтъ. Что хочешь, ваше благородіе, то и дѣлаешь.
— Дуракъ ты! — вздохнулъ докторъ. — Разъ присяжные обвинили, то ужъ тутъ не можетъ ничего подѣлать ни губернаторъ, ни даже министръ, а не то что становой. Напрасно хлопочешь!
— А судилъ-то кто?
— Господа присяжные засѣдатели…
— Какіе же это господа? Наши же мужики были! Андрей Гурьевъ былъ, Алешка Хукъ былъ.
— Ну, мнѣ холодно съ тобой разговаривать…
Докторъ махнулъ рукой и быстро пошелъ къ своей двери.
Кирила хотѣлъ-было пойти за нимъ, но, увидѣвъ, какъ хлопнула дверь, остановился. Минутъ десять стоялъ онъ неподвижно среди больничнаго двора и, не надѣвая шапки, глядѣлъ на докторскую квартиру, потомъ глубоко вздохнулъ, медленно почесался и пошелъ къ воротамъ.
— Къ кому же идти? — бормоталъ онъ, выходя на дорогу. — Одинъ говоритъ — не мое дѣло, другой говоритъ — не мое дѣло. Чье же дѣло? Нѣтъ, вѣрно, пока не подмажешь, ничего не подѣлаешь. Докторъ-то говоритъ, а самъ все время на кулакъ мнѣ глядитъ: не дамъ ли синенькую? Ну, братъ, я и до губернатора дойду.
Переминаясь съ ноги на ногу, то и дѣло оглядываясь безъ всякой надобности, онъ лѣниво плелся по дорогѣ и, повидимому, раздумывалъ, куда идти… Было не холодно и снѣгъ слабо поскрипывалъ у него подъ ногами. Передъ нимъ, не дальше какъ въ полуверстѣ, разстилался на холмѣ уѣздный городишко, въ которомъ недавно судили его брата. Направо темнѣлъ острогъ съ красной крышей и съ будками по угламъ, налѣво была большая городская роща, теперь покрытая инеемъ. Было тихо, только какой-то старикъ въ бабьей кацавейкѣ и въ громадномъ картузѣ шелъ впереди, кашлялъ и покрикивалъ на корову, которую гналъ къ городу.
— Дѣдъ, здорово! — проговорилъ Кирила, поровнявшись со старикомъ.
— Здорово…
— Продавать гонишь?
— Нѣтъ, такъ… — лѣниво отвѣтилъ старикъ.
— Мѣщанинъ, что ли?
Разговорились. Кирила разсказалъ, зачѣмъ онъ былъ въ больницѣ и о чемъ говорилъ съ докторомъ.
— Оно, конечно, докторъ этихъ дѣловъ не знаетъ, — говорилъ ему старикъ, когда оба они вошли въ городъ. — Онъ хоть и баринъ, но обученъ лѣчить всякими средствіями, а чтобъ совѣтъ настоящій тебѣ дать, или, скажемъ, протоколъ написать, — онъ этого не можетъ. На то особое начальство есть. У мирового и станового ты былъ. Эти тоже въ твоемъ дѣлѣ не способны.
— Куда-жъ идти?
— По вашимъ крестьянскимъ дѣламъ самый главный и къ этому приставленъ непремѣнный членъ. Къ нему и иди. Господинъ Синеоковъ.
— Это что въ Золотовѣ?
— Ну, да, въ Золотовѣ. Онъ у васъ главный. Ежели что по вашимъ дѣламъ касающее, то супротивъ него даже исправникъ не имѣетъ полнаго права.
— Далече, братъ, идти!… Чай, верстъ пятнадцать, а то и больше.
— Кому надобность, тотъ и сто верстъ пройдетъ.
— Оно такъ… Прошеніе ему подать, что ли?
— Тамъ узнаешь. Коли прошеніе, писарь тебѣ живо напишетъ. У непремѣннаго члена есть писарь.
Разставшись съ дѣдомъ, Кирила постоялъ среди площади, подумалъ и пошелъ назадъ изъ города. Онъ рѣшилъ сходить въ Золотово.
Дней черезъ пять, возвращаясь послѣ пріемки больныхъ къ себѣ на квартиру, докторъ опять увидѣлъ у себя на дворѣ Кирилу. На этотъ разъ парень былъ не одинъ, а съ какимъ-то тощимъ, очень блѣднымъ старикомъ, который, не переставая, кивалъ головой, какъ маятникомъ, и шамкалъ губами.
— Ваше благородіе, я опять къ твоей милости! — началъ Кирила. — Вотъ съ отцомъ пришелъ, сдѣлай милость, отпусти Ваську! Непремѣнный членъ разговаривать не сталъ. Говоритъ: «Пошелъ вонъ!»
— Ваше высокородіе! — зашипѣлъ горломъ старикъ, поднимая дрожащія брови: — будьте милостивы! Мы люди бѣдные, благодарить не можемъ вашу честь, но ежели угодно вашей милости, Кирюшка или Васька отработать могутъ. Пущай работаютъ.
— Отработаемъ! — сказалъ Кирила и поднялъ руку, точно желая принести клятву. — Отпусти! Съ голоду дохнутъ! Ревма-ревутъ, ваше благородіе!
Парень быстро взглянулъ на отца, дернулъ его за рукавъ и оба они, какъ по командѣ, повалились доктору въ ноги. Тотъ махнулъ рукой и, не оглядываясь, быстро пошелъ къ своей двери.
«Петербургская газета», 1887, № 25.
Мыслитель.
Знойный полдень. Въ воздухѣ ни звуковъ, ни движеній… Вся природа похожа на одну очень большую, забытую Богомъ и людьми, усадьбу. Подъ опустившейся листвой старой липы, стоящей около квартиры тюремнаго смотрителя Яшкина, за маленькимъ треногимъ столомъ сидятъ самъ Яшкинъ и его гость, штатный смотритель уѣзднаго училища Пимфовъ. Оба безъ сюртуковъ; жилетки ихъ разстегнуты; лица потны, красны, неподвижны; способность ихъ выражать что-нибудь парализована зноемъ… Лицо Пимфова совсѣмъ скисло и заплыло лѣнью, глаза его посоловѣли, нижняя губа отвисла. Въ глазахъ же и на лбу у Яшкина еще замѣтна кое-какая дѣйтельность; повидимому, онъ о чемъ-то думаетъ… Оба глядятъ другъ на друга, молчатъ и выражаютъ свои мученія пыхтѣньемъ и хлопаньемъ ладонями по мухамъ. На столѣ графинъ съ водкой, мочалистая вареная говядина и коробка изъ-подъ сардинъ съ сѣрой солью. Выпиты уже первая, вторая, третья…
— Да-съ! — издаетъ вдругъ Яшкинъ, и такъ неожиданно, что собака, дремлющая недалеко отъ стола, вздрагиваетъ и, поджавъ хвостъ, бѣжитъ въ сторону. — Да-съ! Что ни говорите, Филиппъ Максимычъ, а въ русскомъ языкѣ очень много лишнихъ знаковъ препинанія!
— То-есть, почему же-съ? — скромно вопрошаетъ Пимфовъ, вынимая изъ рюмки крылышко мухи. — Хотя и много знаковъ, но каждый изъ нихъ имѣетъ свое значеніе и мѣсто.
— Ужъ это вы оставьте. Никакого значенія не имѣютъ ваши знаки. Одно только мудрованіе… Наставитъ десятокъ запятыхъ въ одной строчкѣ и думаетъ, что онъ умный. Напримѣръ, товарищъ прокурора Мериновъ послѣ каждаго слова запятую ставитъ. Для чего это? Милостивый государь — запятая, посѣтивъ тюрьму такого-то числа — запятая, я замѣтилъ — запятая, что арестанты — запятая… тьфу! Въ глазахъ рябитъ! Да и въ книгахъ то же самое… Точка съ запятой, двоеточіе, кавычки разныя. Противно читать даже. А иной франтъ, мало ему одной точки, возьметъ и натыкаетъ ихъ цѣлый рядъ… Для чего это?
— Наука того требуетъ… — вздыхаетъ Пимфовъ.
— Наука… Умопомраченіе, а не наука… Для форсу выдумали… пыль въ глаза пущать… Напримѣръ, ни въ одномъ иностранномъ языкѣ нѣтъ этого ять, а въ Россіи есть… Для чего онъ, спрашивается? Напиши ты хлѣбъ съ ятемъ или безъ ятя, нешто не все равно?
— Богъ знаетъ, что вы говорите, Илья Мартынычъ! — обижается Пимфовъ. — Какъ же это можно хлѣбъ черезъ е писать? Такое говорятъ, что слушать даже непріятно.
Пимфовъ выпиваетъ рюмку и, обиженно моргая глазами, отворачиваетъ лицо въ сторону.
— Да и сѣкли же меня за этотъ ять! — продолжаетъ Яшкинъ.
— Помню это, вызываетъ меня разъ учитель къ черной доскѣ и диктуетъ: «Лѣкарь уѣхалъ въ городъ». Я взялъ и написалъ лѣкарь съ е. Выпоролъ. Черезъ недѣлю опять къ доскѣ, опять пиши: «Лѣкарь уѣхалъ въ городъ». Пишу на этотъ разъ съ ятемъ. Опять пороть. За что же, Иванъ Ѳомичъ? Помилуйте, сами же вы говорили, что тутъ ять нужно! «Тогда, говоритъ, я заблуждался, прочитавъ же вчера сочиненіе нѣкоего академика о ять въ словѣ лѣкарь, соглашаюсь съ академіей наукъ. Порю же я тебя по долгу присяги»… Ну, и поролъ. Да и у моего Васютки всегда ухо вспухши отъ этого ять… Будь я министромъ, запретилъ бы я вашему брату ятемъ людей морочить.
— Прощайте, — вздыхаетъ Пимфовъ, моргая глазами и надѣвая сюртукъ. — Не могу я слышать, ежели про науки…
— Ну, ну, ну… ужъ и обидѣлся! — говоритъ Яшкинъ, хватая Пимфова за рукавъ. — Я вѣдь это такъ, для разговора только… Ну, сядемъ, выпьемъ!
Оскорбленный Пимфовъ садится, выпиваетъ и отворачиваетъ лицо въ сторону. Наступаетъ тишина. Мимо пьющихъ кухарка Ѳеона проноситъ лохань съ помоями. Слышится помойный плескъ и визгъ облитой собаки. Безжизненное лицо Пимфова раскисаетъ еще больше; вотъ-вотъ растаетъ отъ жары и потечетъ внизъ на жилетку. На лбу Яшкина собираются морщинки. Онъ сосредоточенно глядитъ на мочалистую говядину и думаетъ… Подходитъ къ столу инвалидъ, угрюмо косится на графинъ и, увидѣвъ, что онъ пустъ, приноситъ новую порцію… Еще выпиваютъ.
— Да-съ! — говоритъ вдругъ Яшкинъ.
Пимфовъ вздрагиваетъ и съ испугомъ глядитъ на Яшкина. Онъ ждетъ отъ него новыхъ ересей.
— Да-съ! — повторяетъ Яшкинъ, задумчиво глядя на графинъ. — По моему мнѣнію, и наукъ много лишнихъ!
— То-есть, какъ же это-съ? — тихо спрашиваетъ Пимфовъ. — Какія науки вы находите лишними?
— Всякія… Чѣмъ больше наукъ знаетъ человѣкъ, тѣмъ больше онъ мечтаетъ о себѣ. Гордости больше… Я бы перевѣшалъ всѣ эти… науки… Ну, ну… ужъ и обидѣлся! Экій какой, ей-Богу, обидчивый, слова сказать нельзя! Сядемъ, выпьемъ!
Подходитъ Ѳеона и, сердито тыкая въ стороны своими пухлыми локтями, ставитъ передъ пріятелями зеленыя щи въ мискѣ. Начинается громкое хлебаніе и чавканье. Словно изъ земли выростаютъ три собаки и кошка. Онѣ стоятъ передъ столомъ и умильно поглядываютъ на жующіе рты. За щами слѣдуетъ молочная каша, которую Ѳеона ставитъ съ такой злобой, что со стола сыплются ложки и корки. Передъ кашей пріятели молча выпиваютъ.
— Все на этомъ свѣтѣ лишнее! — замѣчаетъ вдругъ Яшкинъ.
Пимфовъ роняетъ на колѣни ложку, испуганно глядитъ на Яшкина, хочетъ протестовать, но языкъ ослабѣлъ отъ хмеля и запутался въ густой кашѣ… Вмѣсто обычнаго «то-есть, какъ же это-съ?» получается одно только мычаніе.
— Все лишнее… — продолжаетъ Яшкинъ. — И науки, и люди… и тюремныя заведенія, и мухи… и каша… И вы лишній… Хоть вы и хорошій человѣкъ, и въ Бога вѣруете, но и вы лишній…
— Прощайте, Илья Мартынычъ! — лепечетъ Пимфовъ, силясь надѣть сюртукъ и никакъ не попадая въ рукава.
— Сейчасъ вотъ мы натрескались, налопались, — а для чего это? Такъ… Все это лишнее… ѣдимъ, и сами не знаемъ, для чего… Ну, ну… ужъ и обидѣлся! Я вѣдь это такъ только… для разговора! И куда вамъ идти? Посидимъ, потолкуемъ… выпьемъ!
Наступаетъ тишина, изрѣдка только прерываемая звяканьемъ рюмокъ, да пьянымъ покрякиваньемъ… Солнце начинаетъ ужъ клониться къ западу, и тѣнь липы все растетъ и растетъ. Приходитъ Ѳеона и, фыркая, рѣзко махая руками, разстилаетъ около стола коврикъ. Пріятели молча выпиваютъ по послѣдней, располагаются на коврѣ и, повернувшись другъ къ другу спинами, начинаютъ засыпать…
«Слава Богу, — думаетъ Пимфовъ: — сегодня не дошелъ до сотворенія міра и іерархіи, а то бы волосы дыбомъ, хоть святыхъ выноси…»
«Осколки», 1885, № 32.
Дочь Альбіона.
Къ дому помѣщика Грябова подкатила прекрасная коляска съ каучуковыми шинами, толстымъ кучеромъ и бархатнымъ сидѣньемъ. Изъ коляски выскочилъ уѣздный предводитель дворянства Ѳедоръ Андреичъ Отцовъ. Въ передней встрѣтилъ его сонный лакей.
— Господа дома? — спросилъ предводитель.
— Никакъ нѣтъ-съ. Барыня съ дѣтьми въ гости поѣхали, а баринъ съ мамзелью-гувернаткой рыбу ловятъ-съ. Съ самаго утра-съ.
Отцовъ постоялъ, подумалъ и пошелъ къ рѣкѣ искать Грябова. Нашелъ онъ его версты за двѣ отъ дома, подойдя къ рѣкѣ. Поглядѣвъ внизъ съ крутого берега и увидѣвъ Грябова, Отцовъ прыснулъ… Грябовъ, большой, толстый человѣкъ съ очень большой головой, сидѣлъ на песочкѣ, поджавъ подъ себя по-турецки ноги, и удилъ. Шляпа у него была на затылкѣ, галстукъ сползъ на бокъ. Возлѣ него стояла высокая, тонкая англичанка съ выпуклыми рачьими глазами и большимъ птичьимъ носомъ, похожимъ скорѣй на крючокъ, чѣмъ на носъ. Одѣта она была въ бѣлое кисейное платье, сквозь которое сильно просвѣчивали тощія, желтыя плечи. На золотомъ поясѣ висѣли золотые часики. Она тоже удила. Вокругъ обоихъ царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, какъ рѣка, на которой плавали ихъ поплавки.
— Охота смертная, да участь горькая! — засмѣялся Отцовъ. — Здравствуй, Иванъ Кузьмичъ!
— А… это ты? — спросилъ Грябовъ, не отрывая глазъ отъ воды. — Пріѣхалъ?
— Какъ видишь… А ты все еще своей ерундой занимаешься! Не отвыкъ еще?
— Кой чортъ… Весь день ловлю, съ утра… Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймалъ ни я, ни эта кикимора. Сидимъ, сидимъ и хоть бы одинъ чортъ! Просто хоть караулъ кричи.
— А ты наплюй. Пойдемъ водку пить!
— Постой… Можетъ-быть, что-нибудь да поймаемъ. Подъ вечеръ рыба клюетъ лучше… Сижу, братъ, здѣсь съ самаго утра! Такая скучища, что и выразить тебѣ не могу. Дернулъ же меня чортъ привыкнуть къ этой ловлѣ! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, какъ подлецъ какой-нибудь, какъ каторжный, и на воду гляжу, какъ дуракъ какой-нибудь! На покосъ надо ѣхать, а я рыбу ловлю. Вчера въ Хапоньевѣ преосвященный служилъ, а я не поѣхалъ, здѣсь просидѣлъ вотъ съ этой стерлядью… съ чертовкой съ этой…
— Но… ты съ ума сошелъ? — спросилъ Отцовъ, конфузливо косясь на англичанку. — Бранишься при дамѣ… и ее же…
— Да чортъ съ ней! Все одно, ни бельмеса по-русски не смыслитъ. Ты ее хоть хвали, хоть брани — ей все равно! Ты на носъ посмотри! Отъ одного носа въ обморокъ упадешь! Сидимъ по цѣлымъ днямъ вмѣстѣ, и хоть бы одно слово! Стоитъ, какъ чучело, и бѣльмы на воду таращитъ.
Англичанка зѣвнула, перемѣнила червячка и, закинула удочку.
— Удивляюсь, братъ, я не мало! — продолжалъ Грябовъ. — Живетъ дурища въ Россіи десять лѣтъ, и хоть бы одно слово по-русски!… Нашъ какой-нибудь аристократишка поѣдетъ къ нимъ и живо по-ихнему брехать научится, а они… чортъ ихъ знаетъ! Ты посмотри на носъ! На носъ ты посмотри!
— Ну, перестань… Неловко… Что напалъ на женщину?
— Она не женщина, а дѣвица… О женихахъ, небось, мечтаетъ, чортова кукла. И пахнетъ отъ нея какою-то гнилью… Возненавидѣлъ, братъ, ее! Видѣть равнодушно не могу! Какъ взглянетъ на меня своими глазищами, такъ меня и покоробитъ всего, словно я локтемъ о перила ударился. Тоже любитъ рыбу ловить. Погляди: ловитъ и священнодѣйствуетъ! Съ презрѣніемъ на все смотритъ… Стоитъ, каналья, и сознаетъ, что она человѣкъ и что, стало-быть, она царь природы. А знаешь, какъ ее зовутъ? Уилька Чарльзовна Тфайсъ! Тьфу!… и не выговоришь!
Англичанка, услышавъ свое имя, медленно повела носъ въ сторону Грябова и измѣрила его презрительнымъ взглядомъ. Съ Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрѣніемъ. И все это молча, важно и медленно.
— Видалъ? — спросилъ Грябовъ, хохоча. — Нате, молъ, вамъ! Ахъ ты, кикимора! Для дѣтей только и держу этого тритона. Не будь дѣтей, я бы ее и за десять верстъ къ своему имѣнію не подпустилъ… Носъ точно у ястреба… А талія? Эта кукла напоминаетъ мнѣ длинный гвоздь. Такъ, знаешь, взялъ бы и въ землю вбилъ. Постой… У меня, кажется, клюетъ…
Грябовъ вскочилъ и поднялъ удилище. Леска натянулась… Грябовъ дернулъ еще разъ и не вытащилъ крючка.
— Зацѣпилась! — сказалъ онъ и поморщился. — За камень, должно-быть… Чортъ возьми…
На лицѣ у Грябова выразилось страданіе. Вздыхая, безпокойно двигаясь и бормоча проклятья, онъ началъ дергать за лесу. Дерганье ни къ чему не привело. Грябовъ поблѣднѣлъ.
— Экая жалость! Въ воду лѣзть надо.
— Да ты брось!
— Нельзя… Подъ вечеръ хорошо ловится… Вѣдь этакая комиссія, прости Господи! Придется лѣзть въ воду. Придется! А если бы ты зналъ, какъ мнѣ не хочется раздѣваться! Англичанку-то турнуть надо… При ней неловко раздѣваться. Все-таки, вѣдь, дама!
Грябовъ сбросилъ шляпу и галстукъ.
— Миссъ… э-э-э… — обратился онъ къ англичанкѣ. — Миссъ Тфайсъ! Же ву при11… Ну, какъ ей сказать? Ну, какъ тебѣ сказать, чтобы ты поняла? Послушайте… туда! Туда уходите! Слышишь?
Миссъ Тфайсъ облила Грябова презрѣніемъ и издала носовой звукъ.
— Что-съ? Не понимаете? Ступай, тебѣ говорятъ, отсюда! Мнѣ раздѣваться нужно, чортова кукла! Туда ступай! Туда!
Грябовъ дернулъ миссъ за рукавъ, указалъ ей на кусты и присѣлъ: ступай, молъ, за кусты и спрячься тамъ. Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную англійскую фразу. Помѣщики прыснули.
— Первый разъ въ жизни ея голосъ слышу… Нечего сказать, голосокъ! Не понимаетъ! Ну, что мнѣ дѣлать съ ней?
— Плюнь! Пойдемъ водки выпьемъ!
— Нельзя, теперь ловиться должно… Вечеръ… Ну, что ты прикажешь дѣлать? Вотъ комиссія! Придется при ней раздѣваться…
Грябовъ сбросилъ сюртукъ и жилетъ и сѣлъ на песокъ снимать сапоги.
— Послушай, Иванъ Кузьмичъ, — сказалъ предводитель, хохоча въ кулакъ. — Это ужъ, другъ мой, глумленіе, издѣвательство.
— Ее никто не проситъ не понимать! Это наука имъ, иностранцамъ!
Грябовъ снялъ сапоги, панталоны, сбросилъ съ себя бѣлье и очутился въ костюмѣ Адама. Отцовъ ухватился за животъ. Онъ покраснѣлъ и отъ смѣха, и отъ конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами… По желтому лицу ея пробѣжала надменная, презрительная улыбка.
— Надо остынуть, — сказалъ Грябовъ, хлопая себя по бедрамъ. — Скажи на милость, Ѳедоръ Андреичъ, отчего это у меня каждое лѣто сыпь на груди бываетъ?
— Да полѣзай скорѣй въ воду или прикройся чѣмъ-нибудь! Скотина!
— И хоть бы сконфузилась, подлая! — сказалъ Грябовъ, полѣзая въ воду и крестясь. — Брр… холодная вода… Посмотри, какъ бровями двигаетъ! Не уходитъ… Выше толпы стоитъ! Хе-хе-хе… И за людей насъ не считаетъ!
Войдя по-колѣна въ воду и вытянувшись во весь свой громадный ростъ, онъ мигнулъ глазомъ и сказалъ:
— Это, братъ, ей не Англія!
Миссъ Тфайсъ хладнокровно перемѣнила червячка, зѣвнула и закинула удочку. Отцовъ отвернулся. Грябовъ отцѣпилъ крючокъ, окунулся и съ сопѣньемъ вылѣзъ изъ воды. Черезъ двѣ минуты онъ сидѣлъ уже на песочкѣ и опять удилъ рыбу.
«Осколки», 1883, № 33.
На чужбинѣ.
Воскресный полдень. Помѣщикъ Камышевъ сидитъ у себя въ столовой за роскошно сервированнымъ столомъ и медленно завтракаетъ. Съ нимъ раздѣляетъ трапезу чистенькій, гладко-выбритый старикъ-французикъ, m-r Шампунь. Этотъ Шампунь былъ когда-то у Камышева гувернеромъ, училъ его дѣтей манерамъ, хорошему произношенію и танцамъ, потомъ же, когда дѣти Камышева выросли и стали поручиками, Шампунь остался чѣмъ-то въ родѣ бонны мужского пола. Обязанности бывшаго гувернера не сложны. Онъ долженъ прилично одѣваться, пахнуть духами, выслушивать праздную болтовню Камышева, ѣсть, пить, спать — и больше, кажется, ничего. За это онъ получаетъ столъ, комнату и неопредѣленное жалованье.
Камышевъ ѣстъ и, по обыкновенію, празднословитъ.
— Смерть! — говоритъ онъ, вытирая слезы, выступившія послѣ куска ветчины, густо вымазаннаго горчицей. — Уфъ! Въ голову и во всѣ суставы ударило. А вотъ отъ вашей французской горчицы не будетъ этого, хоть всю банку съѣшь.
— Кто любитъ французскую, а кто русскую… — кротко заявляетъ Шампунь.
— Никто не любитъ французской, развѣ только одни французы. А французу что ни подай — все съѣстъ: и лягушку, и крысу, и таракановъ… брр! Вамъ, напримѣръ, эта ветчина не нравится, потому что она русская, а подай вамъ жареное стекло и скажи, что оно французское, вы станете ѣсть и причмокивать… По-вашему, все русское скверно.
— Я этого не говорю.
— Все русское скверно, а французское — о, сэ трэ жоли12! По-вашему, лучше и страны нѣтъ, какъ Франція, а, по-моему… ну, что такое Франція, говоря по совѣсти? Кусочекъ земли! Пошли туда нашего исправника, такъ онъ черезъ мѣсяцъ же перевода запроситъ: повернуться негдѣ! Вашу Францію всю въ одинъ день объѣздить можно, а у насъ выйдешь за ворота — конца краю не видно! ѣдешь, ѣдешь…
— Да, monsieur, Россія громадная страна.
— То-то вотъ и есть! По-вашему, лучше французовъ и людей нѣтъ. Ученый, умный народъ! Цивилизація! Согласенъ, французы всѣ ученые, манерные… это вѣрно… Французъ никогда не позволитъ себѣ невѣжества: во-время дамѣ стулъ подастъ, раковъ не станетъ ѣсть вилкой, не плюнетъ на полъ, но… нѣтъ того духу! Духу того въ немъ нѣтъ! Я не могу только вамъ объяснить, но, какъ бы это выразиться, во французѣ не хватаетъ чего-то такого, этакого… (говорящій шевелитъ пальцами), чего-то такого… юридическаго. Я помню, читалъ гдѣ-то, что у васъ у всѣхъ умъ пріобрѣтенный изъ книгъ, а у насъ умъ врожденный. Если русскаго обучить, какъ слѣдуетъ, наукамъ, то никакой вашъ профессоръ не сравняется.
— Можетъ быть… — какъ бы нехотя говоритъ Шампунь.
— Нѣтъ, не можетъ быть, а вѣрно! Нечего морщиться, правду говорю! Русскій умъ — изобрѣтательный умъ! Только, конечно, ходу ему не даютъ, да и хвастать онъ но умѣетъ… Изобрѣтетъ что-нибудь и поломаетъ, или же дѣтишкамъ отдастъ поиграть, а вашъ французъ изобрѣтетъ какую-нибудь чепуху и на весь свѣтъ кричитъ. Намедни кучеръ Іона сдѣлалъ изъ дерева человѣчка: дернешь это человѣчка за ниточку, а онъ и сдѣлаетъ непристойность. Однако же, Іона не хвастаетъ. Вообще… не нравятся мнѣ французы! Я про васъ не говорю, а вообще… Безнравственный народъ! Наружностью словно какъ бы и на людей походятъ, а живутъ какъ собаки… Взять хоть, напримѣръ, бракъ. У насъ коли женился, такъ прилѣпись къ женѣ и никакихъ разговоровъ, а у васъ чортъ знаетъ что. Мужъ цѣлый день въ кафе сидитъ, а жена напуститъ полный домъ французовъ и давай съ ними канканировать.
— Это неправда! — не выдерживаетъ Шампунь, вспыхивая. — Во Франціи семейный принципъ стоитъ очень высоко!
— Знаемъ мы этотъ принципъ! А вамъ стыдно защищать. Надо безпристрастно: свиньи, такъ и есть свиньи… Спасибо нѣмцамъ за то, что побили… Ей-Богу, спасибо. Дай Богъ имъ здоровья…
— Въ такомъ случаѣ, monsieur, я не понимаю, — говоритъ французъ, вскакивая и сверкая глазами: — если вы ненавидите французовъ, то зачѣмъ вы меня держите?
— Куда же мнѣ васъ дѣвать?
— Отпустите меня, и я уѣду во Францію!
— Что-о-о? Да нешто васъ пустятъ теперь во Францію? Вѣдь вы измѣнникъ своему отечеству! То у васъ Наполеонъ великій человѣкъ, то Гамбетта… самъ чортъ васъ не разберетъ!
— Monsieur, — говоритъ по-французски Шампунь, брызжа и комкая въ рукахъ салфетку. — Ваше оскорбленіе, которое вы нанесли сейчасъ моему чувству, не могъ бы придумать и врагъ мой! Все кончено!!
И сдѣлавъ рукой трагическій жестъ, французъ манерно бросаетъ на столъ салфетку и съ достоинствомъ выходитъ.
Часа черезъ три на столѣ перемѣняется сервировка, и прислуга подаетъ обѣдъ. Камышевъ садится за обѣдъ одинъ. Послѣ предобѣденной рюмки у него является жажда празднословія. Поболтать хочется, а слушателя нѣтъ…
— Что дѣлаетъ Альфонсъ Людовиковичъ? — спрашиваетъ онъ лакея.
— Чемоданъ укладываютъ-съ.
— Экая дуррында, прости Господи!… — говоритъ Камышевъ и идетъ къ французу.
Шампунь сидитъ у себя на полу среди комнаты и дрожащими руками укладываетъ въ чемоданъ бѣлье, флаконы изъ-подъ духовъ, молитвенники, помочи, галстуки… Вся его приличная фигура, чемоданъ, кровать и столъ такъ и дышатъ изяществомъ и женственностью. Изъ его большихъ голубыхъ глазъ капаютъ въ чемоданъ крупныя слезы.
— Куда же это вы? — спрашиваетъ Камышовъ, постоявъ немного.
Французъ молчитъ.
— Уѣзжать хотите? — продолжаетъ Камышевъ. — Что жъ, какъ знаете… Не смѣю удерживать… Только вотъ что странно: какъ это вы безъ паспорта поѣдете? Удивляюсь! Вы знаете, я вѣдь потерялъ вашъ паспортъ. Сунулъ его куда-то между бумагъ, онъ и потерялся… А у насъ насчетъ паспортовъ строго. Не успѣете и пяти верстъ проѣхать, какъ васъ сцарапаютъ.
Шампунь поднимаетъ голову и недовѣрчиво глядитъ на Камышева.
— Да… Вотъ увидите! Замѣтятъ по лицу, что вы безъ паспорта, и сейчасъ: кто таковъ? Альфонсъ Шампунь! Знаемъ мы этихъ Альфонсовъ Шампуней! А не угодно ли вамъ по этапу въ не столь отдаленныя!
— Вы это шутите?
— Съ какой стати мнѣ шутить! Очень мнѣ нужно! Только смотрите, условіе: не извольте потомъ хныкать и письма писать. И пальцемъ не пошевельну, когда васъ мимо въ кандалахъ проведутъ!
Шампунь вскакиваетъ и, блѣдный, широкоглазый, начинаетъ шагать по комнатѣ.
— Что вы со мной дѣлаете?! — говоритъ онъ, въ отчаяніи хватая себя за голову. — Боже мой! О, будь проклятъ тотъ часъ, когда мнѣ пришла въ голову пагубная мысль оставить отечество!
— Ну, ну, ну… я пошутилъ! — говоритъ Камышевъ, понизивъ тонъ. — Чудакъ какой, шутокъ не понимаетъ! Слова сказать нельзя!
— Дорогой мой! — взвизгиваетъ Шампунь, успокоенный тономъ Камышева. — Клянусь вамъ, я привязанъ къ Россіи, къ вамъ и къ вашимъ дѣтямъ… Оставить васъ для меня такъ же тяжело, какъ умереть! Но каждое ваше слово рѣжетъ мнѣ сердце!
— Ахъ, чудакъ! Если я французовъ ругаю, такъ вамъ-то съ какой стати обижаться? Мало ли кого мы ругаемъ, такъ всѣмъ и обижаться? Чудакъ, право! Берите примѣръ вотъ съ Лазаря Исакича, арендатора… Я его и такъ, и этакъ, и жидомъ, и пархомъ, и свинячье ухо изъ полы дѣлаю, и за пейсы хватаю… не обижается же!
— Но то вѣдь рабъ! Изъ-за копейки онъ готовъ на всякую низость!
— Ну, ну, ну… будетъ! Пойдемъ обѣдать! Миръ и согласіе!
Шампунь пудритъ свое заплаканное лицо и идетъ съ Камышевымъ въ столовую. Первое блюдо съѣдается молча, послѣ второго начинается та же исторія, и такимъ образомъ страданія Шампуня не имѣютъ конца.
«Осколки», 1885, № 41.
Кухарка женится.
Гриша, маленькій, семилѣтній карапузикъ, стоялъ около кухонной двери, подслушивалъ и заглядывалъ въ замочную скважину. Въ кухнѣ происходило нѣчто, по его мнѣнію, необыкновенное, доселѣ не виданное. За кухоннымъ столомъ, на которомъ обыкновенно рубятъ мясо и крошатъ лукъ, сидѣлъ большой, плотный мужикъ въ извозчичьемъ кафтанѣ, рыжій, бородатый, съ большой каплей пота на носу. Онъ держалъ на пяти пальцахъ правой руки блюдечко и пилъ чай, причемъ такъ громко кусалъ сахаръ, что Гришину спину подиралъ морозъ. Противъ него на грязномъ табуретѣ сидѣла старуха нянька Аксинья Степановна и тоже пила чай. Лицо у няньки было серьезно и въ то же время сіяло какимъ-то торжествомъ. Кухарка Пелагея возилась около печки и видимо старалась спрятать куда-нибудь подальше свое лицо. А на ея лицѣ Гриша видѣлъ цѣлую иллюминацію: оно горѣло и переливало всѣми цвѣтами, начиная съ красно-багроваго и кончая смертельно-блѣднымъ. Она, не переставая, хваталась дрожащими руками за ножи, вилки, дрова, тряпки, двигалась, ворчала, стучала, но въ сущности ничего не дѣлала. На столъ, за которымъ пили чай, она ни разу но взглянула, а на вопросы, задаваемые нянькой, отвѣчала отрывисто, сурово, не поворачивая лица.
— Кушайте, Данило Семенычъ! — угощала нянька извозчика. — Да что вы все чай, да чай? Вы бы водочки выкушали!
И нянька придвигала къ гостю сороковушку и рюмку, причемъ лицо ея принимало ехиднѣйшее выраженіе.
— Не потребляюсь, нѣтъ-съ — отнѣкивался извозчикъ. — Не невольте, Аксинья Степановна.
— Какой же вы… Извозчики, а не пьете… Холостому человѣку невозможно, чтобъ не пить. Выкушайте!
Извозчикъ косился на водку, потомъ на ехидное лицо няньки, и лицо его самого принимало не менѣе ехидное выраженіе: нѣтъ, молъ, не поймаетъ, старая вѣдьма!
— Не пью-съ, увольте-съ… При нашемъ дѣлѣ не годится это малодушество. Мастеровой человѣкъ можетъ пить, потому онъ на одномъ мѣстѣ сидитъ, нашъ же братъ завсегда на виду, въ публикѣ. Не такъ ли-съ? Пойдетъ въ кабакъ, а тутъ лошадь ушла; напьешься ежели — еще хуже: того и гляди уснешь, или съ козелъ свалишься. Дѣло такое.
— А вы сколько въ день выручаете, Данило Семенычъ?
— Какой день. Въ иной день на зелененькую выѣздишь, а въ другой разъ такъ и безъ гроша ко двору поѣдешь. Дни разные бываютъ-съ. Нониче наше дѣло совсѣмъ ничего не стоитъ. Извозчиковъ, сами знаете, хоть прудъ пруди, сѣно дорогое, а сѣдокъ пустяковый, норовитъ все на конкѣ проѣхать. А все жъ, благодарить Бога, не на что жалиться. И сыты, и одѣты, и… можемъ даже другого кого осчастливить… (извозчикъ покосился на Пелагею)… ежели имъ по сердцу.
Что дальше говорилось, Гриша не слышалъ. Подошла къ двери мамаша и послала его въ дѣтскую учиться.
— Ступай учиться. Не твое дѣло тутъ слушать! Придя къ себѣ въ дѣтскую, Гриша положилъ передъ собой «Родное Слово», но ему не читалось. Все только-что видѣнное и слышанное вызвало въ его головѣ массу вопросовъ.
«Кухарка женится… — думалъ онъ. — Страшно. Не понимаю, зачѣмъ это жениться? Мамаша женилась на папашѣ, кузина Вѣрочка — на Павлѣ Андреичѣ. Но на папѣ и Павлѣ Андреичѣ, такъ и быть ужъ, можно жениться: у нихъ есть золотыя цѣпочки, хорошіе костюмы, у нихъ всегда сапоги вычищенные; но жениться на этомъ страшномъ извозчикѣ съ краснымъ носомъ, въ валенкахъ… фи! И почему это нянькѣ хочется, чтобъ бѣдная Пелагея женилась?»
Когда изъ кухни ушелъ гость, Пелагея явилась въ комнаты и занялась уборкой. Волненіе еще не оставило ея. Лицо ея было красно и словно испуганно. Она едва касалась вѣникомъ пола и по пяти разъ мела каждый уголъ. Долго она не выходила изъ той комнаты, гдѣ сидѣла мамаша. Ее, очевидно, тяготило одиночество и ей хотѣлось высказаться, подѣлиться съ кѣмъ-нибудь впечатлѣніями, излить душу.
— Ушелъ! — проворчала она, видя, что мамаша не начинаетъ разговора.
— А онъ, замѣтно, хорошій человѣкъ, — сказала мамаша, не отрывая глазъ отъ вышиванья. — Трезвый такой, степенный.
— Ей-Богу, барыня, не выйду! — крикнула вдругъ Пелагея, вся вспыхнувъ. — Ей-Богу, не выйду!
— Ты не дури, не маленькая. Это шагъ серьезный, нужно обдумать хорошенько, а такъ, зря, нечего кричать. Онъ тебѣ нравится?
— Выдумываете, барыня! — застыдилась Пелагея. — Такое скажутъ, что… ей-Богу…
«Сказала бы: не нравится!» — подумалъ Гриша.
— Какая ты, однако, ломака… Нравится?
— Да онъ, барыня, старый! Гы-ы!
— Выдумывай еще! — окрысилась на Пелагею изъ другой комнаты нянька. — Сорока годовъ еще не исполнилось. Да на что тебѣ молодой? Съ лица, дура, воды не пить… Выходи, вотъ и все!
— Ей-Богу, не выйду! — взвизгнула Пелагея.
— Блажишь! Какого лѣшаго тебѣ еще нужно? Другая бы въ ножки поклонилась, а ты — не выйду! Тебѣ бы все съ почтальонами да лепетиторами перемигиваться! Къ Гришенькѣ лепетиторъ ходитъ, барыня, такъ она объ него всѣ свои глазищи обмозолила. У, безстыжая!
— Ты этого Данилу раньше видала? — спросила барыня Пелагею.
— Гдѣ мнѣ его видѣть? Первый разъ сегодня вижу, Аксинья откуда-то привела… чорта окаяннаго… И откуда онъ взялся на мою голову!
За обѣдомъ, когда Пелагея подавала кушанья, всѣ обѣдающіе засматривали ей въ лицо и дразнили ее извозчикомъ. Она страшно краснѣла и принужденно хихикала.
«Должно-быть, совѣстно жениться… — думалъ Гриша. — Ужасно совѣстно!»
Всѣ кушанья были пересолены, изъ недожаренныхъ цыплятъ сочилась кровь и, въ довершеніе всего, во время обѣда изъ рукъ Пелагеи сыпались тарелки и ножи, какъ съ похилившейся полки, но никто не сказалъ ей ни слова упрека, такъ какъ всѣ понимали состояніе ея духа. Разъ только папаша съ сердцемъ швырнулъ салфетку и сказалъ мамашѣ:
— Что у тебя за охота всѣхъ женить да замужъ выдавать! Какое тебѣ дѣло? Пусть сами женятся, какъ хотятъ.
Послѣ обѣда въ кухнѣ замелькали сосѣдскія кухарки и горничныя, и до самаго вечера слышалось шушуканье. Откуда онѣ пронюхали о сватовствѣ — Богъ вѣсть. Проснувшись въ полночь, Гриша слышалъ, какъ въ дѣтской за занавѣской шушукались нянька и кухарка. Нянька убѣждала, а кухарка то всхлипывала, то хихикала. Заснувши послѣ этого, Гриша видѣлъ во снѣ похищеніе Пелагеи Черноморомъ и вѣдьмой…
Съ другого дня наступило затишье. Кухонная жизнь пошла своимъ чередомъ, словно извозчика и на свѣтѣ не было. Изрѣдка только нянька одѣвалась въ новую шаль, принимала торжественно-суровое выраженіе и уходила куда-то часа на два, очевидно для переговоровъ… Пелагея съ извозчикомъ не видалась, и когда ей напоминали о немъ, она вспыхивала и кричала:
— Да будь онъ трижды проклятъ, чтобъ я о немъ думала! Тьфу!
Однажды вечеромъ въ кухню, когда тамъ Пелагея и нянька что-то усердно кроили, вошла мамаша и сказала:
— Выходить за него ты, конечно, можешь, твое это дѣло, но, Пелагея, знай, что онъ не можетъ здѣсь жить… Ты знаешь, я не люблю, если кто въ кухнѣ сидитъ. Смотри же, помни… И тебя я не буду отпускать на ночь.
— И Богъ знаетъ, что выдумываете, барыня! — взвизгнула кухарка. — Да что вы меня имъ попрекаете? Пущай онъ сбѣсится! Вотъ еще навязался на мою голову, чтобъ ему…
Заглянувъ въ одно воскресное утро въ кухню, Гриша замеръ отъ удивленія. Кухня биткомъ была набита народомъ. Тутъ были кухарки со всего двора, дворникъ, два городовыхъ, унтеръ съ нашивками, мальчикъ Филька… Этотъ Филька обыкновенно трется около прачешной и играетъ съ собаками, теперь же онъ былъ причесанъ, умытъ и держалъ икону въ фольговой ризѣ. Посреди кухни стояла Пелагея въ новомъ ситцевомъ платьѣ и съ цвѣткомъ на головѣ. Рядомъ съ нею стоялъ извозчикъ. Оба молодые были красны, потны и усиленно моргали глазами.
— Ну-съ… кажись, время… — началъ унтеръ послѣ долгаго молчанія.
Пелагея заморгала всѣмъ лицомъ и заревѣла… Унтеръ взялъ со стола большой хлѣбъ, сталъ рядомъ съ нянькой и началъ благословлять. Извозчикъ подошелъ къ унтеру, бухнулъ передъ нимъ поклонъ и чмокнулъ его въ руку. То же самое сдѣлалъ онъ и передъ Аксиньей. Пелагея машинально слѣдовала за нимъ и тоже бухала поклоны. Наконецъ, отворилась наружная дверь, въ кухню пахнулъ бѣлый туманъ, и вся публика съ шумомъ двинулась изъ Кухни на дворъ.
«Бѣдная, бѣдная! — думалъ Гриша, прислушиваясь къ рыданьямъ кухарки. — Куда ее повели? Отчего папа и мама не заступятся?»
Послѣ вѣнца до самаго вечера въ прачешной пѣли и играли на гармоникѣ. Мамаша все время сердилась, что отъ няньки пахнетъ водкой и что изъ-за этихъ свадебъ некому поставить самоваръ. Когда Гриша ложился спать, Пелагея еще не возвращалась.
«Бѣдная, плачетъ теперь гдѣ-нибудь въ потемкахъ! — думалъ онъ. — А извозчикъ на нее: цыцъ! цыцъ!»
На другой день утромъ кухарка была уже въ кухнѣ. Заходилъ на минуту извозчикъ. Онъ поблагодарилъ мамашу и, взглянувъ сурово на Пелагею, сказалъ:
— Вы же, барыня, поглядывайте за ней. Будьте замѣсто отца-матери. И вы тоже, Аксинья Степанна, не оставьте, посматривайте, чтобъ все благородно… безъ шалостевъ… А также, барыня, дозвольте рубликовъ пять въ счетъ ейнаго жалованья. Хомутъ надо купить новый.
Опять задача для Гриши: жила Пелагея на волѣ, какъ хотѣла, не отдавая никому отчета, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего явился какой-то чужой, который откуда-то получилъ право на ея поведеніе и собственность! Гришѣ стало горько. Ему страстно, до слезъ захотѣлось приласкать эту, какъ онъ думалъ, жертву человѣческаго насилія. Выбравъ въ кладовой самое большое яблоко, онъ прокрался на кухню, сунулъ его въ руку Пелагеѣ и опрометью бросился назадъ.
«Петербургская газета», 1885, № 254.
Шило въ мѣшкѣ.
На обывательской тройкѣ, проселочными путями, соблюдая строжайшее инкогнито, спѣшилъ Петръ Павловичъ Посудинъ въ уѣздный городишко N, куда вызывало его полученное имъ анонимное письмо.
«Накрыть… Какъ снѣгъ на голову… — мечталъ онъ, пряча лицо свое въ воротникъ. — Натворили мерзостей, пакостники, и торжествуютъ, небось, воображаютъ, что концы въ воду спрятали… Ха-ха… Воображаю ихъ ужасъ и удивленіе, когда въ разгаръ торжества послышится: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!» То-то переполохъ будетъ! Ха-ха…»
Намечтавшись вдоволь, Посудинъ вступилъ въ разговоръ со своимъ возницей. Какъ человѣкъ, алчущій популярности, онъ прежде всего спросилъ о себѣ самомъ:
— А Посудина ты знаешь?
— Какъ не знать! — ухмыльнулся возница. — Знаемъ мы его!
— Что же ты смѣешься?
— Чудное дѣло! Каждаго послѣдняго писаря знаешь, а чтобъ Посудина не знать! На то онъ здѣсь и поставленъ, чтобъ его всѣ знали.
— Это такъ… Ну, что? Какъ онъ, по-твоему? Хорошъ?
— Ничего… — зѣвнулъ возница. — Господинъ хорошій, знаетъ свое дѣло… Двухъ годовъ еще нѣтъ, какъ его сюда прислали, а ужъ надѣлалъ дѣловъ.
— Что же онъ такое особенное сдѣлалъ?
— Много добра сдѣлалъ, дай Богъ ему здоровья. Желѣзную дорогу выхлопоталъ, Хохрюкова въ нашемъ уѣздѣ увольнилъ… Конца краю не было этому Хохрюкову… Шельма былъ, выжига, всѣ прежніе его руку держали, а пріѣхалъ Посудинъ — и загудѣлъ Хохрюковъ къ чорту, словно его и не было… Во, братъ! Посудина, братъ, не подкупишь, нѣ-ѣтъ! Дай ты ему хоть сто, хоть тыщу, а онъ не станетъ тебѣ пріймать грѣхъ на душу… Нѣ-ѣтъ!
«Слава Богу, хоть съ этой стороны меня поняли, — подумалъ Посудинъ, ликуя. — Это хорошо».
— Образованный господинъ… — продолжалъ возница: — не гордый — Наши ѣздили къ нему жалиться, такъ онъ словно съ господами: всѣхъ за ручку, «вы, садитесь»… Горячій такой, быстрый… Слова тебѣ путемъ не скажетъ, а все — фыркъ! фыркъ! Чтобъ онъ тебѣ шагомъ ходилъ, или какъ — ни Боже мой, а норовитъ все бѣгомъ, все бѣгомъ! Наши ему и слова сказать не успѣли, какъ онъ: «лошадей!!» да прямо сюда… Пріѣхалъ и все обдѣлалъ… ни копейки не взялъ. Куда лучше прежняго! Конечно, и прежній хорошъ былъ. Видный такой, важный, звончѣе его во всей губерніи никто не кричалъ… Бывало, ѣдетъ, такъ за десять верстъ слыхать; но ежели по наружной части, или внутреннимъ дѣламъ, то нынѣшній куда ловчѣе! У нынѣшняго въ головѣ этой самой мозги во сто разъ больше… Одно только горе… Всѣмъ хорошъ человѣкъ, но одна бѣда: пьяница!
«Вотъ такъ клюква!» — подумалъ Посудинъ.
— Откуда же ты знаешь, — спросилъ онъ: — что я… что, онъ пьяница.
— Оно, конечно, ваше благородіе, самъ я не видалъ его пьянаго, не стану врать, но люди сказывали. И люди-то его пьянымъ не видали, а слава такая про него ходитъ… При публикѣ, или куда въ гости пойдетъ, на балъ, это, или въ обчество, — никогда не пьетъ. Дома хлещетъ… Встанетъ утромъ, протретъ глаза и первымъ дѣломъ — водки! Камердинъ принесетъ ему стаканъ, а онъ ужъ другого проситъ… Такъ цѣльный день и глушитъ. И скажи ты на милость: пьетъ, и ни въ одномъ глазѣ! Стало-быть, соблюдать себя можетъ. Бывало, какъ нашъ Хохрюковъ запьетъ, такъ не то что люди, даже собаки воютъ. Посудинъ же — хоть бы тебѣ носъ у него покраснѣлъ! Запрется у себя въ кабинетѣ и локаетъ… Чтобъ люди не примѣтили, онъ себѣ въ столѣ ящикъ такой приспособилъ, съ трубочкой. Всегда въ этомъ ящикѣ водка… Нагнешься къ трубочкѣ, пососешь, и пьянъ… Въ каретѣ тоже, въ портфелѣ…
«Откуда они знаютъ? — ужаснулся Посудинъ. — Боже мой, даже это извѣстно! Какая мерзость…»
— А вотъ тоже насчетъ женскаго пола… Шельма! (возница засмѣялся и покрутилъ головой). Безобразіе, да и только! Штукъ десять у него этихъ самыхъ… вертефлюхъ… Двѣ у него въ домѣ живутъ… Одна у него, эта Настасья Ивановна, какъ бы замѣсто распорядительши, другая — какъ ее, чортъ? — Людмила Семеновна, на манеръ писарши… Главнѣе всѣхъ Настасья. Эта что захочетъ, онъ все дѣлаетъ… Такъ и вертитъ имъ, словно лиса хвостомъ. Большая власть ей дадена. И его такъ не боятся, какъ ее… Ха-ха… А третья вертуха на Канальной улицѣ живетъ… Срамота!
«Даже по именамъ знаетъ, — подумалъ Посудинъ, краснѣя. — И кто же знаетъ? Мужикъ, ямщикъ… который и въ городѣ-то никогда но бывалъ!… Какая мерзость… гадость… пошлость!»
— Откуда же ты все это знаешь? — спросилъ онъ раздраженнымъ голосомъ.
— Люди сказывали… Самъ я не видалъ, но отъ людей слыхивалъ. Да узнать нешто трудно? Камердину, или кучеру языка не отрѣжешь… Да чай, и сама Настасья ходитъ по всѣмъ переулкамъ, да счастьемъ своимъ бабьимъ похваляется. Отъ людского глаза не скроешься… Вотъ тоже взялъ манеру этотъ Посудинъ потихоньку на слѣдствія ѣздить… Прежній, бывало, какъ захочетъ куда ѣхать, такъ за мѣсяцъ даетъ знать, а когда ѣдетъ, такъ шуму этого, грому, звону и… не приведи Создатель! И спереди его скачутъ, и сзади скачутъ, и съ боковъ скачутъ. Пріѣдетъ къ мѣсту, выспится, наѣстся, напьется и давай по служебной части глотку драть. Подеретъ глотку, потопочетъ ногами, опять выспится и тѣмъ же порядкомъ назадъ… А нынѣшній, какъ прослышитъ что, норовитъ съѣздить потихоньку, быстро, чтобъ никто не видалъ и не зналъ… Ппа-атѣха! Выйдетъ непримѣтно изъ дому, чтобъ чиновники не видали, и на машину… Доѣдетъ до-какой ему нужно станціи и не то что почтовыхъ, или что поблагороднѣй, а норовитъ мужика нанять. Закутается весь, какъ баба, и всю дорогу хрипитъ, какъ старый песъ, чтобъ голоса его не узнали. Просто кишки порвешь со смѣху, когда люди разсказываютъ, ѣдетъ дурень и думаетъ, что его узнать нельзя. А узнать его, ежели которому понимающему человѣку — тьфу! разъ плюнуть…
— Какъ же его узнаютъ?
— Оченно просто. Прежде, какъ нашъ Хохрюковъ потихоньку ѣздилъ, такъ мы его по тяжелымъ рукамъ узнавали. Ежели сѣдокъ бьетъ по зубамъ, то это, значитъ, и есть Хохрюковъ. А Посудина сразу увидать можно… Простой пассажиръ просто себя и держитъ, а Посудинъ не таковскій, чтобъ простоту соблюдать. Пріѣдетъ, скажемъ, хоть на почтовую станцію, и начнетъ!… Ему и воняетъ, и душно, и холодно… Ему и цыплятъ подавай, и фрухтовъ, и вареньевъ всякихъ… Такъ на станціяхъ и знаютъ: ежели кто зимой спрашиваетъ цыплятъ и фрухтовъ, то это и есть Посудинъ. Ежели кто говоритъ смотрителю «милѣйшій мой» и гоняетъ народъ за разными пустяками, то и божиться можно, что это Посудинъ. И пахнетъ отъ него не такъ, какъ отъ людей, и ложится спать на свой манеръ… Ляжетъ на станціи на диванѣ, попрыщетъ около себя духами и велитъ около подушки три свѣчки поставить. Лежитъ и бумаги читаетъ… Ужъ тутъ не то что смотритель, но и кошка разберетъ, что это за человѣкъ такой…
«Правда, правда… — подумалъ Посудинъ. — И какъ я этого раньше не зналъ!»
— А кому есть надобность, то и безъ фрухтовъ, и безъ цыплятъ узнаетъ. По телеграфу все извѣстно… Какъ тамъ ни кутай рыла, какъ ни прячься, а ужъ тутъ знаютъ, что ѣдешь. Ждутъ… Посудинъ еще у себя изъ дому не выходилъ, а тутъ ужъ — сдѣлай одолженіе, все готово! Пріѣдетъ онъ, чтобъ ихъ на мѣстѣ накрыть, подъ судъ отдать, или смѣнить кого, а они надъ нимъ же и посмѣются. Хоть ты, скажутъ, ваше сіятельство, и потихоньку пріѣхалъ, а гляди: у насъ все чисто!… Онъ повертится, повертится да съ тѣмъ и уѣдетъ, съ чѣмъ пріѣхалъ… Да еще похвалитъ, руки пожметъ имъ всѣмъ, извиненія за безпокойство попроситъ… Вотъ какъ! А ты думалъ какъ? Хо-хо, ваше благородіе! Народъ тутъ ловкій, ловкачъ на ловкачѣ!… Глядѣть любо, что за черти! Да вотъ, хоть нынѣшній случай взять… Ѣду я сегодня утромъ порожнемъ, а навстрѣчу со станціи летитъ жидъ, буфетчикъ. «Куда, спрашиваю, ваше жидовское благородіе, ѣдешь?» А онъ и говоритъ: «Въ городъ N. вино и закуску везу. Тамъ нынче Посудина ждутъ». Ловко? Посудинъ, можетъ, еще только собирается ѣхать, или кутаетъ лицо, чтобъ его не узнали. Можетъ, ужъ ѣдетъ и думаетъ, что знать никто не знаетъ, что онъ ѣдетъ, а ужъ для него, скажи пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыръ, и закуска разная… А? Ѣдетъ онъ и думаетъ: «Крышка вамъ, ребята!» а ребятамъ и горя мало! Пущай ѣдетъ! У нихъ давно ужъ все спрятано!
— Назадъ! — прохрипѣлъ Посудинъ, — Поѣзжай назадъ, ссскотина!
И удивленный возница повернулъ назадъ.
«Осколки», 1885, № 50.
Драма.
— Павелъ Васильичъ, тамъ какая-то дама пришла, васъ спрашиваетъ, — доложилъ Лука. — Ужъ цѣлый часъ дожидается…
Павелъ Васильевичъ только-что позавтракалъ. Услыхавъ о дамѣ, онъ поморщился и сказалъ:
— Ну ее къ чорту! Скажи, что я занятъ.
— Она, Павелъ Василъичъ, уже пять разъ приходила. Говоритъ, что очень нужно васъ видѣть… Чуть не плачетъ.
— Гм… Ну, ладно, проси ее въ кабинетъ.
Павелъ Васильевичъ не спѣша надѣлъ сюртукъ, взялъ въ одну руку перо, въ другую — книгу и, дѣлая видъ, что онъ очень занятъ, пошелъ въ кабинетъ. Тамъ уже ждала его гостья — большая полная дама съ краснымъ мясистымъ лицомъ и въ очкахъ, на видъ весьма почтенная и одѣтая больше чѣмъ прилично (на ней былъ турнюръ съ четырьмя перехватами и высокая шляпка съ рыжей птицей). Увидѣвъ хозяина, она закатила подъ лобъ глаза и сложила молитвенно руки.
— Вы, конечно, не помните меня, — начала она высокимъ мужскимъ теноромъ, замѣтно волнуясь. — Я… я имѣла удовольствіе познакомиться съ вами у Хруцкихъ… Я — Мурашкина…
— А-а-а… мм… Садитесь! Чѣмъ могу быть полезенъ?
— Видите ли, я… я… — продолжала дама, садясь и еще болѣе волнуясь. — Вы меня не помните… Я — Мурашкина… Видите ли, я большая поклонница вашего таланта и всегда съ наслажденіемъ читаю ваши статьи… Не подумайте, что я льщу, — избави Богъ, — я воздаю только должное… Всегда, всегда васъ читаю! Отчасти я сама не чужда авторства, то-есть, конечно… я не смѣю называть себя писательницей, но… все-таки и моя капля меда есть въ ульѣ. Я напечатала разновременно три дѣтскихъ разсказа, — вы не читали, конечно… много переводила и… и мой покойный братъ работалъ въ «Дѣлѣ»13.
— Такъ-съ… э-э-э… Чѣмъ могу быть полезенъ?
— Видите ли… (Мурашкина потупила глаза и зарумянилась). Я знаю вашъ талантъ… ваши взгляды, Павелъ Васильевичъ, и мнѣ хотѣлось бы узнать ваше мнѣніе или, вѣрнѣе… попросить совѣта. Я, надо вамъ сказать, pardon pour l’expression14, разрѣшилась отъ бремени драмой и мнѣ, прежде чѣмъ посылать ее въ цензуру, хотѣлось бы узнать ваше мнѣніе.
Мурашкина нервно, съ выраженіемъ пойманной птицы, порылась у себя въ платьѣ и вытащила большую жирную тетрадищу.
Павелъ Васильевичъ любилъ только свои статьи, чужія же, которыя ему предстояло прочесть или прослушать, производили на него всегда впечатлѣніе пушечнаго жерла, направленнаго ему прямо въ физіономію. Увидѣвъ тетрадь, онъ испугался и поспѣшилъ сказать:
— Хорошо, оставьте… я прочту.
— Павелъ Васильевичъ! — сказала томно Мурашкина, поднимаясь и складывая молитвенно руки. — Я знаю, вы заняты… вамъ каждая минута дорога, и я знаю, вы сейчасъ въ душѣ посылаете меня къ чорту, но… будьте добры, позвольте мнѣ прочесть вамъ мою драму сейчасъ… Будьте милы!
— Я очень радъ… — замялся Павелъ Васильевичъ: — но, сударыня, я… я занятъ… Мнѣ… мнѣ сейчасъ ѣхать нужно.
— Павелъ Васильевичъ! — простонала барыня, и глаза ея наполнились слезами. — Я жертвы прошу! Я нахальна, я назойлива, но будьте великодушны! Завтра я уѣзжаю въ Казань, и мнѣ сегодня хотѣлось бы знать ваше мнѣніе. Подарите мнѣ полчаса вашего вниманія… только полчаса! Умоляю васъ!
Павелъ Васильевичъ былъ въ душѣ тряпкой и не умѣлъ отказывать. Когда ему стало казаться, что барыня собирается зарыдать и стать на колѣни, онъ сконфузился и забормоталъ растерянно:
— Хорошо-съ, извольте… я послушаю… Полчаса я готовъ.
Мурашкина радостно вскрикнула, сняла шляпку и, усѣвшись, начала читать. Сначала она прочла о томъ, какъ лакей и горничная, убирая роскошную гостиную, длинно говорили о барышнѣ Аннѣ Сергѣевнѣ, которая построила въ селѣ школу и больницу. Горничная, когда лакей вышелъ, произнесла монологъ о томъ, что ученье — свѣтъ, а неученье — тьма; потомъ Мурашкина вернула лакея въ гостиную и заставила его сказать длинный монологъ о баринѣ-генералѣ, который не терпитъ убѣжденій дочери, собирается выдать ее за богатаго камеръ-юнкера и находитъ, что спасеніе народа заключается въ кругломъ невѣжествѣ. Затѣмъ, когда прислуга вышла, явилась сама барышня и заявила зрителю, что она не спала всю ночь и думала о Валентинѣ Ивановичѣ, сынѣ бѣднаго учителя, безвозмездно помогающемъ своему больному отцу. Валентинъ прошелъ всѣ науки, но не вѣруетъ ни въ дружбу, ни въ любовь, не знаетъ цѣли въ жизни и жаждетъ смерти, а потому ей, барышнѣ, нужно спасти его.
Павелъ Васильевичъ слушалъ и съ тоской вспоминалъ о своемъ диванѣ. Онъ злобно оглядывалъ Мурашкину, чувствовалъ, какъ по его барабаннымъ перепонкамъ стучалъ ея мужской теноръ, ничего не понималъ и думалъ:
«Чортъ тебя принесъ… Очень мнѣ нужно слушать твою чепуху!… Ну, чѣмъ я виноватъ, что ты драму написала? Господи, а какая тетрадь толстая! Вотъ наказаніе!»
Павелъ Васильевичъ взглянулъ на простѣнокъ, гдѣ висѣлъ портретъ его жены, и вспомнилъ, что жена приказала ему купить и привезти на дачу пять аршинъ тесьмы, фунтъ сыру и зубного порошку.
«Какъ бы мнѣ не потерять образчикъ тесьмы, — думалъ онъ. — Куда я его сунулъ? Кажется, въ синемъ пиджакѣ… А подлыя мухи успѣли-таки засыпать многоточіями женинъ портретъ. Надо будетъ приказать Ольгѣ помыть стекло… Читаетъ XII явленіе, значитъ, скоро конецъ перваго дѣйствія. Неужели въ такую жару, да еще при такой корпуленціи, какъ у этой туши, возможно вдохновеніе? Чѣмъ драмы писать, ѣла бы лучше холодную окрошку, да спала бы въ погребѣ…»
— Вы не находите, что этотъ монологъ нѣсколько длиненъ? — спросила вдругъ Мурашкина, поднимая глаза.
Павелъ Васильевичъ не слышалъ монолога. Онъ сконфузился и сказалъ такимъ виноватымъ тономъ, какъ будто не барыня, а онъ самъ написалъ этотъ монологъ:
— Нѣтъ, нѣтъ, нисколько… Очень мило… Мурашкина просіяла отъ счастья и продолжала читать:
— „Анна. — Васъ заѣлъ анализъ. Вы слишкомъ рано перестали жить сердцемъ и довѣрились уму. — Валентинъ. — Что такое сердце? Это понятіе анатомическое. Какъ условный терминъ того, что называется чувствами, я не признаю его. — Анна (смутившись). — А любовь? Неужели и она есть продуктъ ассоціаціи идей? Скажите откровенно: вы любили когда-нибудь? — Валентинъ (съ горечью). — Не будемъ трогать старыхъ, еще не зажившихъ ранъ (пауза). О чемъ вы задумались? — Анна. — Мнѣ кажется, что вы несчастливы“.
Во время ХѴІ явленія Павелъ Васильевичъ зѣвнулъ и нечаянно издалъ зубами звукъ, какой издаютъ собаки, когда ловятъ мухъ. Онъ испугался этого неприличнаго звука и, чтобы замаскировать его, придалъ своему лицу выраженіе умилительнаго вниманія.
«XѴII явленіе… Когда же конецъ? — думалъ онъ. — О, Боже мой! Если эта мука продолжится еще десять минутъ, то я крикну караулъ… Невыносимо!»
Но вотъ, наконецъ, барыня стала читать быстрѣе и громче, возвысила голосъ и прочла: «занавѣсъ».
Павелъ Васильевичъ легко вздохнулъ и собрался подняться, но тотчасъ же Мурашкина перевернула страницу и продолжала читать…
— Дѣйствіе втрое. Сцена представляетъ сельскую улицу. Направо школа, налѣво больница. На ступеняхъ послѣдней сидятъ поселяне и поселянки.
— Виноватъ… — перебилъ Павелъ Васильевичъ. — Сколько всѣхъ дѣйствій?
— Пять, — отвѣтила Мурашкина и тотчасъ же, словно боясь, чтобы слушатель не ушелъ, быстро продолжала. — Изъ окна школы глядитъ Валентинъ. Видно, какъ въ глубинѣ сцены поселяне носятъ свои пожитки въ кабакъ.
Какъ приговоренный къ казни и увѣренный въ невозможности помилованія, Павелъ Васильевичъ ужъ не ждалъ конца, ни на что не надѣялся, а только старался, чтобы его глаза не слипались и чтобы съ лица не сходило выраженіе вниманія. Будущее, когда барыня кончитъ драму и уйдетъ, казалось ему такимъ отдаленнымъ, что онъ и не думалъ о немъ.
— Тру-ту-ту-ту… — звучалъ въ его ушахъ голосъ Мурашкиной. — Тру-ту-ту… Жжжж…
«Забылъ я соды принять — думалъ онъ. — О чемъ, бишь, я? Да, о содѣ… У меня, по всей вѣроятности, катаръ желудка… Удивительно: Смирновскій цѣлый день глушитъ водку, и у него до сихъ поръ нѣтъ катара… На окно какая-то птичка сѣла… Воробей…»
Павелъ Васильевичъ сдѣлалъ усиліе, чтобы разомкнуть напряженныя, слипающіяся вѣки, зѣвнулъ, не раскрывая рта, и поглядѣлъ на Мурашкину. Та затуманилась, закачалась въ его глазахъ, стала трехголовой и уперлась головой въ потолокъ…
— „Валентинъ. — Нѣтъ, позвольте мнѣ уѣхать… — Анна (испуганно). — Зачѣмъ? — Валентинъ (въ сторону). — Она поблѣднѣла! (Ея) Не заставляйте меня объяснять причинъ. Скорѣе я умру, но вы не узнаете этихъ причинъ. — Анна (послѣ паузы). — Вы не можете уѣхать…“
Мурашкина стала пухнуть, распухла въ громадину и слилась съ сѣрымъ воздухомъ кабинета; виденъ былъ только одинъ ея двигающійся ротъ; потомъ она вдругъ стала маленькой, какъ бутылка, закачалась и вмѣстѣ со столомъ ушла въ глубину комнаты…
— „Валентинъ (держа Анну въ объятіяхъ). — Ты воскресила меня, указала цѣль жизни! Ты обновила меня, какъ весенній дождь обновляетъ пробужденную землю! Но… поздно, поздно! Грудь мою точитъ неизлѣчимый недугъ…“
Павелъ Васильевичъ вздрогнулъ и уставился посоловѣлыми, мутными глазами на Мурашкину; минуту глядѣлъ онъ неподвижно, какъ будто ничего не понимая…
— „Явленіе XI. Тѣ же, баронъ и становой съ понятыми… Валентинъ. — Берите меня! — Анна. — Я его! Берите и меня! Да, берите и меня! Я люблю его, люблю больше жизни! — Баронъ. — Анна Сергѣевна, вы забываете, что губите этимъ своего отца…“
Мурашкина опять стала пухнуть… Дико осматриваясь, Павелъ Васильевичъ приподнялся, вскрикнулъ груднымъ, неестественнымъ голосомъ, схватилъ со стола тяжелое прессъ-папье и, не помня себя, со всего размаха ударилъ имъ по головѣ Мурашкиной…
— Вяжите меня, я убилъ ее! — сказалъ онъ черезъ минуту вбѣжавшей прислугѣ.
Присяжные оправдали его.
«Осколки», 1887, № 24.
Произведеніе искусства.
Держа подъ мышкой что-то, завернутое въ 223-й нумеръ «Биржевыхъ Вѣдомостей», Саша Смирновъ, единственный сынъ у матери, сдѣлалъ кислое лицо и вошелъ въ кабинетъ доктора Кошелькова.
— А, милый юноша! — встрѣтилъ его докторъ. — Ну, какъ мы себя чувствуемъ? Что скажете хорошенькаго?
Саша заморгалъ глазами, приложилъ руку къ сердцу и сказалъ взволнованнымъ голосомъ:
— Кланяясь вамъ, Иванъ Николаевичъ, мамаша и велѣла благодарить васъ… Я единственный сынъ у матери, и вы спасли мнѣ жизнь… вылѣчили отъ опасной болѣзни, и… мы оба не знаемъ, какъ благодарить васъ.
— Полно, юноша! — перебилъ докторъ, раскисая отъ удовольствія. — Я сдѣлалъ только то, что всякій другой сдѣлалъ бы на моемъ мѣстѣ.
— Я единственный сынъ у своей матери.. Мы люди бѣдные и, конечно, не можемъ заплатить вамъ за вашъ трудъ, и… намъ очень совѣстно, докторъ, хотя, впрочемъ, мамаша и я… единственный сынъ у матери, убѣдительно просимъ васъ принять въ знакъ нашей благодарности… вотъ эту вещь, которая… Вещь очень дорогая, изъ старинной бронзы… рѣдкое произведеніе искусства.
— Напрасно! — поморщился докторъ. — Ну, къ чему это?
— Нѣтъ, ужъ вы, пожалуйста, не отказывайтесь, — продолжалъ бормотать Саша, развертывая свертокъ. — Вы обидите отказомъ и меня, и мамашу… Вещь очень хорошая… изъ старинной бронзы… Досталась она намъ отъ покойнаго папаши и мы хранили ее, какъ дорогую память… Мой папаша скупалъ старинную бронзу и продавалъ ее любителямъ… Теперь мамаша и я этимъ же занимаемся…
Саша развернулъ вещь и торжественно поставилъ ее на столъ. Это былъ невысокій канделябръ старой бронзы, художественной работы. Изображалъ онъ группу: на пьедесталѣ стояли двѣ женскія фигуры въ костюмахъ Евы и въ позахъ, для описанія которыхъ у меня не хватаетъ ни смѣлости, ни подобающаго темперамента. Фигуры кокетливо улыбались и вообще имѣли такой видъ, что, кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвѣчникъ, то онѣ спрыгнули бы съ пьедестала и устроили бы въ комнатѣ такой дебошъ, о которомъ, читатель, даже и думать неприлично.
Поглядѣвъ на подарокъ, докторъ медленно почесалъ за ухомъ, крякнулъ и нерѣшительно высморкался.
— Да, вещь, дѣйствительно, прекрасная, — пробормоталъ онъ. — но… какъ бы выразиться, не того… нелитературна слишкомъ… Это ужъ не декольте, а чортъ знаетъ что…
— То-есть, почему же?
— Самъ змій-искуситель не могъ бы придумать ничего сквернѣе… Вѣдь поставить на столѣ такую фантасмагорію, значитъ всю квартиру загадить!
— Какъ вы странно, докторъ, смотрите на искусство! — обидѣлся Саша. — Вѣдь это художественная вещь, вы поглядите! Столько красоты и изящества, что душу наполняетъ благоговѣйное чувство и къ горлу подступаютъ слезы! Когда видишь такую красоту, то забываешь все земное… Вы поглядите, сколько движенія, какая масса воздуху, экспрессіи!
— Все это я отлично понимаю, милый мой, — перебилъ докторъ: — но вѣдь я человѣкъ семейный, у меня тутъ дѣтишки бѣгаютъ, дамы бываютъ.
— Конечно, если смотрѣть съ точки зрѣнія толпы, — сказалъ Саша, — то, конечно, эта высокохудожественная вещь представляется въ иномъ свѣтѣ… Но, докторъ, будьте выше толпы, тѣмъ болѣе, что своимъ отказомъ вы глубоко огорчите и меня, и мамашу. Я единственный сынъ у матери… вы спасли мнѣ жизнь… Мы отдаемъ вамъ самую дорогую для насъ вещь, и… и я жалѣю только, что у васъ нѣтъ пары для этого канделябра…
— Спасибо, голубчикъ, я очень благодаренъ… Кланяйтесь мамашѣ, но, ей-Богу, сами посудите, у меня тутъ дѣтишки бѣгаютъ, дамы бываютъ… Ну, впрочемъ, пусть остается! Вѣдь вамъ не втолкуешь.
— И толковать нечего, — обрадовался Саша. — Этотъ канделябръ вы тутъ поставьте, вотъ около вазы. Эка жалость, что пары нѣтъ! Такая жалость! Ну, прощайте, докторъ.
По уходѣ Саши докторъ долго глядѣлъ на канделябръ, чесалъ у себя за ухомъ и размышлялъ.
«Вещь превосходная, спора нѣтъ, — думалъ онъ. — и бросать ее жалко… Оставить же у себя невозможно… Гм!… Вотъ задача! Кому бы ее подарить или пожертвовать?»
Послѣ долгаго размышленія, онъ вспомнилъ про своего хорошаго пріятеля, адвоката Ухова, которому былъ долженъ за веденіе дѣла.
— И отлично, — рѣшилъ докторъ. — Ему, какъ пріятелю, неловко взять съ меня деньги, и будетъ очень прилично, если я презентую ему вещь. Отвезу-ка я ему эту чертовщину! Кстати же онъ холостъ и легкомысленъ…
Не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, докторъ одѣлся, взялъ канделябръ и поѣхалъ къ Ухову.
— Здорово, пріятель! — сказалъ онъ, заставъ адвоката дома. — Я къ тебѣ… Пришелъ благодарить, братецъ, за твои труды… Денегъ не хочешь брать, такъ возьми хоть эту вотъ вещицу… вотъ, братецъ ты мой… Вещица — роскошь!
Увидѣвъ вещицу, адвокатъ пришелъ въ неописанный восторгъ.
— Вотъ такъ штука! — захохоталъ онъ. — Ахъ, чортъ подери его совсѣмъ, придумаютъ же черти такую штуку! Чудесно! Восхитительно! Гдѣ ты досталъ такую прелесть?
Изливъ свой восторгъ, адвокатъ пугливо поглядѣлъ на двери и сказалъ:
— Только ты, братъ, убери свой подарокъ. Я не возьму…
— Почему? — испугался докторъ.
— А потому… У меня бываетъ тутъ мать, кліенты… да и отъ прислуги совѣстно.
— Ни-ни-ни… Не смѣешь отказываться! — замахалъ руками докторъ. — Это свинство съ твоей стороны! Вещь художественная… сколько движенія… экспрессіи… И говорить не хочу! Обидишь!
— Хоть бы замазано было, или фиговые листочки нацѣпить…
Но докторъ еще пуще замахалъ руками, выскочилъ изъ квартиры Ухова, и довольный, что сумѣлъ сбыть съ рукъ подарокъ, поѣхалъ домой…
По уходѣ его адвокатъ осмотрѣлъ канделябръ, потрогалъ его со всѣхъ сторонъ пальцами и, подобно доктору, долго ломалъ голову надъ вопросомъ: что дѣлать съ подаркомъ?
«Вещь прекрасная, — разсуждалъ онъ: — и бросить жалко, и держать, у себя неприлично. Самое лучшее — это подарить кому-нибудь… Вотъ что, поднесу-ка я этотъ канделябръ сегодня вечеромъ комику Шашкину. Каналья любитъ подобныя штуки, да и кстати же у него сегодня бенефисъ…»
Сказано — сдѣлано. Вечеромъ тщательно завернутый канделябръ былъ поднесенъ комику Шашкину. Весь вечеръ уборную комика брали приступомъ мужчины, приходившіе полюбоваться на подарокъ; все время въ уборной стоялъ восторженный гулъ и смѣхъ, похожій на лошадиное ржанье. Если какая-нибудь изъ актрисъ подходила къ двери и спрашивала: «можно войти?», то тотчасъ же слышался хриплый голосъ комика:
— Нѣтъ, нѣтъ, матушка! Я не одѣтъ!
Послѣ спектакля комикъ пожималъ плечами, разводилъ руками и говорилъ:
— Ну, куда я эту гадость дѣну? Вѣдь я на частной квартирѣ живу! У меня артистки бываютъ! Это не фотографія, въ столъ не спрячешь!
— А вы, сударь, продайте, — посовѣтовалъ парикмахеръ, разоблачая комика. — Тутъ въ предмѣстьѣ живетъ старуха, которая покупаетъ старинную бронзу… Поѣзжайте и спросите Смирнову… Ее всякій знаетъ.
Комикъ послушался… Дня черезъ два докторъ Кошельковъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и, приложивъ палецъ ко лбу, думалъ о желчныхъ кислотахъ. Вдругъ отворилась дверь, и въ кабинетъ влетѣлъ Саша Смирновъ. Онъ улыбался, сіялъ и вся его фигура дышала счастьемъ… Въ рукахъ онъ держалъ что-то завернутое въ газету.
— Докторъ! — началъ онъ, задыхаясь. — Представьте мою радость! На ваше счастье, намъ удалось пріобрѣсти пару для вашего канделябра!… Мамаша такъ счастлива… Я единственный сынъ у матери… вы спасли мнѣ жизнь…
И Саша, дрожа отъ чувства благодарности, поставилъ передъ докторомъ канделябръ. Докторъ разинулъ ротъ, хотѣлъ было что-то сказать, но не сказалъ ничего: у него отнялся языкъ.
«Осколки», 1886, № 50.
Орденъ.
Учитель военной прогимназіи, коллежскій регистраторъ Левъ Пустяковъ, обиталъ рядомъ съ другомъ своимъ поручикомъ Леденцовымъ. Къ послѣднему онъ и направилъ свои стопы въ новогоднее утро.
— Видишь ли, въ чемъ дѣло, Гриша, — сказалъ онъ поручику послѣ обычнаго поздравленія съ новымъ годомъ. — Я не сталъ бы тебя безпокоить, если бы не крайняя надобность. Одолжи мнѣ, голубчикъ, на сегодняшній день твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обѣдаю у купца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца Спичкина: онъ страшно любитъ ордена и чуть ли не мерзавцами считаетъ тѣхъ, у кого не болтается что-нибудь на шеѣ или въ петлицѣ. И къ тому же, у него двѣ дочери… Настя, знаешь, и Зина… Говорю, какъ другу… Ты меня понимаешь, милый мой. Дай, сдѣлай милость!
Все это проговорилъ Пустяковъ, заикаясь, краснѣя и робко оглядываясь на дверь. Поручикъ выругался, но согласился.
Въ два часа пополудни Пустяковъ ѣхалъ на извозчикѣ къ Спичкинымъ и, распахнувши чуточку шубу, глядѣлъ себѣ на грудь. На груди сверкалъ золотомъ и отливалъ эмалью чужой Станиславъ.
«Какъ-то и уваженія къ себѣ больше чувствуешь! — думалъ учитель, покрякивая. — Маленькая штучка, рублей пять, не больше стоитъ, а какой фуроръ производитъ!»
Подъѣхавъ къ дому Спичкина, онъ распахнулъ шубу и сталъ медленно расплачиваться съ извозчикомъ. Извозчикъ, какъ показалось ему, увидѣвъ его погоны, пуговицы и Станислава, окаменѣлъ. Пустяковъ самодовольно кашлянулъ и вошелъ въ домъ. Снимая въ передней шубу, онъ заглянулъ въ Залу. Тамъ за длиннымъ обѣденнымъ столомъ сидѣли уже человѣкъ пятнадцать и обѣдали. Слышался говоръ и звяканье посуды.
— Кто это тамъ звонитъ? — послышался голосъ хозяина. — Ба, Левъ Николаичъ! Милости просимъ. Немножко опоздали, но это не бѣда… Сейчасъ только сѣли.
Пустяковъ выставилъ впередъ грудь, поднялъ голову и, потирая руки, вошелъ въ залу. Но тутъ онъ увидѣлъ нѣчто ужасное. За столомъ, рядомъ съ Зиной, сидѣлъ его товарищъ по службѣ, учитель французскаго языка Трамблянъ. Показать французу орденъ — значило бы вызвать массу самыхъ непріятныхъ вопросовъ, значило бы осрамиться на вѣки, обезславиться… Первою мыслью Пустякова было сорвать орденъ, или бѣжать назадъ; но орденъ быть крѣпко пришитъ и отступленіе было уже невозможно. Быстро прикрывъ правой рукой орденъ, онъ сгорбился, неловко отдалъ общій поклонъ и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стулъ, какъ разъ противъ сослуживца-француза.
«Выпивши, должно быть!» — подумалъ Спичкинъ, поглядѣвъ на его сконфуженное лицо.
Передъ Пустяковымъ поставили тарелку супу. Онъ взялъ лѣвой рукой ложку, но, вспомнивъ, что лѣвой рукой не подобаетъ ѣсть въ благоустроенномъ обществѣ, заявилъ, что онъ уже отобѣдалъ и ѣсть не хочетъ.
— Я уже покушалъ-съ… Мерси-съ… — пробормоталъ онъ. — Былъ я съ визитомъ у дяди, протоіерея Елеева, и онъ упросилъ меня… тово… пообѣдать.
Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой: супъ издавалъ вкусный запахъ, а отъ паровой осетрины шелъ необыкновенно-аппетитный дымокъ. Учитель попробовалъ освободить правую руку и прикрыть орденъ лѣвой, но это оказалось неудобнымъ.
«Замѣтятъ… И черезъ всю грудь рука будетъ протянута, точно пѣть собираюсь. Господи, хоть бы скорѣе обѣдъ кончился! Въ трактирѣ ужо пообѣдаю!»
Послѣ третьяго блюда онъ робко, однимъ глазкомъ поглядѣлъ на француза. Трамблянъ, почему-то сильно сконфуженный, глядѣлъ на него и тоже ничего не ѣлъ. Поглядѣвъ другъ на друга, оба еще болѣе сконфузились и опустили глаза въ пустыя тарелки.
«Замѣтилъ, подлецъ! — подумалъ Пустяковъ. — По рожѣ вижу, что замѣтилъ! А онъ, мерзавецъ, кляузникъ. Завтра же донесетъ директору!»
Съѣли хозяева и гости четвертое блюдо, съѣли волею судебъ, и пятое…
Поднялся какой-то высокій господинъ съ широкими, волосистыми ноздрями, горбатымъ носомъ и отъ природы прищуренными глазами. Онъ погладилъ себя по головѣ и провозгласилъ:
— Э-э-э… эп… эп… эпредлагаю эвыпить за процвѣтаніе сидящихъ здѣсь дамъ!
Обѣдающіе шумно поднялись и взялись за бокалы. Громкое «ура» пронеслось по всѣмъ комнатамъ. Дамы заулыбались и потянулись чокаться. Пустяковъ поднялся и взялъ свою рюмку въ лѣвую руку.
— Левъ Николаичъ, потрудитесь передать этотъ бокалъ Настасьѣ Тимоѳеевнѣ! — обратился къ нему какой-то мужчина, подавая бокалъ. — Заставьте ее выпить!
На этотъ разъ Пустяковъ, къ великому своему ужасу, долженъ былъ пустить въ дѣло и правую руку. Станиславъ съ помятой красной ленточкой увидѣлъ, наконецъ, свѣтъ и засіялъ. Учитель поблѣднѣлъ, опустилъ голову и робко поглядѣлъ въ сторону француза. Тотъ глядѣлъ на него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались и съ лица медленно сползалъ конфузъ…
— Юлій Августовичъ! — обратился къ французу хозяинъ. — Передайте бутылочку по принадлежности!
Трамблянъ нерѣшительно протянулъ правую руку къ бутылкѣ и… о, счастье! Пустяковъ увидалъ на его груди орденъ. И то былъ не Станиславъ, а цѣлая Анна! Значитъ, и французъ сжульничалъ! Пустяковъ засмѣялся отъ удовольствія, сѣлъ на стулъ и развалился… Теперь уже не было надобности скрывать Станислава! Оба грѣшны однимъ грѣхомъ и некому, стало-быть, доносить и безславить…
— А-а-а… гм!… — промычалъ Спичкинъ, увидѣвъ на груди учителя орденъ.
— Да-съ! — сказалъ Пустяковъ. — Удивительное дѣло, Юлій Августовичъ! Какъ было мало у насъ передъ праздниками представленій! Сколько у насъ народу, а получили только вы да я! Уди-ви-тель-ное дѣло!
Трамблянъ весело закивалъ головой и выставилъ впередъ лѣвый лацканъ, на которомъ красовалась Анна 3-й степени.
Послѣ обѣда Пустяковъ ходилъ по всѣмъ комнатамъ и показывалъ барышнямъ орденъ. На душѣ у него было легко, вольготно, хотя и пощипывалъ подъ ложечкой голодъ.
«Знай я такую штуку, — думалъ онъ, завистливо поглядывая на Трамбляна, бесѣдовавшаго со Спичкинымъ объ орденахъ: — я бы Владиміра нацѣпилъ. Эхъ, не догадался!»
Только эта одна мысль и помучивала его. Въ остальномъ же онъ былъ совершенно счастливъ.
«Осколки», 1884, № 2.
Смерть чиновника.
Въ одинъ прекрасный вечеръ, не менѣе прекрасный экзекуторъ, Иванъ Дмитричъ Червяковъ, сидѣлъ во второмъ ряду креселъ и глядѣлъ въ бинокль на «Корневильскіе колокола». Онъ глядѣлъ и чувствовалъ себя на верху блаженства. Но вдругъ… Въ разсказахъ часто встрѣчается это «но вдругъ». Авторы правы: жизнь такъ полна внезапностей! Но вдругъ лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыханіе остановилось… онъ отвелъ отъ глазъ бинокль, нагнулся и… апчхи!!! Чихнулъ, какъ видите. Чихать никому и нигдѣ не возбраняется. Чихаютъ и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные совѣтники. Всѣ чихаютъ. Червяковъ нисколько не сконфузился, утерся платочкомъ и, какъ вѣжливый человѣкъ, поглядѣлъ вокругъ себя: не обезпокоилъ ли онъ кого-нибудь своимъ чиханьемъ? Но тутъ ужъ пришлось сконфузиться. Онъ увидѣлъ, что старичокъ, сидѣвшій впереди него, въ первомъ ряду креселъ, старательно вытиралъ свою лысину и шею перчаткой и бормоталъ что-то. Въ старичкѣ Червяковъ узналъ статскаго генерала Бризжалова, служащаго по вѣдомству путей сообщенія.
«Я его обрызгалъ! — подумалъ Червяковъ. — Не мой начальникъ, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».
Червяковъ кашлянулъ, подался туловищемъ впередъ и зашепталъ генералу на ухо:
— Извините, ваше-ство, я васъ обрызгалъ… я нечаянно…
— Ничего, ничего…
— Ради Бога, извините. Я вѣдь… я не желалъ!
— Ахъ, сидите, пожалуйста! Дайте слушать! Червяковъ сконфузился, глупо улыбнулся и началъ глядѣть на сцену. Глядѣлъ онъ, но ужъ блаженства больше не чувствовалъ. Его начало помучивать безпокойство. Въ антрактѣ онъ подошелъ къ Бризжалову, походилъ возлѣ него и, поборовши робость, пробормоталъ:
— Я васъ обрызгалъ, ваше-ство… Простите… Я вѣдь… не то чтобы…
— Ахъ, полноте… Я ужъ забылъ, а вы все о томъ же! — сказалъ генералъ и нетерпѣливо шевельнулъ нижней губой.
«Забылъ, а у самого ехидство въ глазахъ, — подумалъ Червяковъ, подозрительно поглядывая на генерала. — И говорить не хочетъ. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желалъ… что это законъ природы, а то подумаетъ, что я плюнуть хотѣлъ.. Теперь не подумаетъ, такъ послѣ подумаетъ!…»
Придя домой, Червяковъ разсказалъ женѣ о своемъ невѣжествѣ. Жена, какъ показалось ему, слишкомъ легкомысленно отнеслась къ происшедшему; она только испугалась, а потомъ, когда узнала, что Бризжаловъ «чужой», успокоилась.
— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумаетъ, что ты себя въ публикѣ держать не умѣешь!
— То-то вотъ и есть! Я извинялся, да онъ какъ-то странно… Ни одного слова путнаго не сказалъ. Да и некогда было разговаривать.
На другой день Червяковъ надѣлъ новый вицъ-мундиръ, подстригся и пошелъ къ Бризжалову объяснять… Войдя въ пріемную генерала, онъ увидѣлъ тамъ много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже началъ пріемъ прошеній. Опросивъ нѣсколько просителей, генералъ поднялъ глаза и на Червякова.
— Вчера въ «Аркадіи», ежели припомните, ваше-ство, — началъ докладывать экзекуторъ: — я чихнулъ-съ и… нечаянно обрызгалъ… Изв…
— Какіе пустяки… Богъ знаетъ что! Вамъ что угодно? — обратился генералъ къ слѣдующему просителю.
«Говорить не хочетъ! — подумалъ Червяковъ, блѣднѣя. — Сердится, значитъ… Нѣтъ, этого нельзя такъ оставить… Я ему объясню…»
Когда генералъ кончилъ бесѣду съ послѣднимъ просителемъ и направился во внутренніе апартаменты, Червяковъ шагнулъ за нимъ и забормоталъ:
— Ваше-ство! Ежели я осмѣливаюсь безпокоить ваше-ство, то именно изъ чувства, могу сказать, раскаянія!… Не нарочно, сами изволите знать-съ!
Генералъ состроилъ плаксивое лицо и махнулъ рукой.
— Да вы просто смѣетесь, милостисдарь! — сказалъ онъ, скрываясь за дверью.
«Какія же тутъ насмѣшки? — подумалъ Червяковъ. — Вовсе тутъ нѣтъ никакихъ насмѣшекъ! Генералъ, а не можетъ понять! Когда такъ, не стану же я больше извиняться передъ этимъ фанфарономъ! Чортъ съ нимъ! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-Богу, не стану!»
Такъ думалъ Червяковъ, идя домой. Письма генералу онъ не написалъ. Думалъ, думалъ, и никакъ не выдумалъ этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.
— Я вчера приходилъ безпокоить ваше-ство, — забормоталъ онъ, когда генералъ поднялъ на него вопрошающіе глаза: — не для того, чтобы смѣяться, какъ вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнулъ-съ… а смѣяться я и не думалъ. Смѣю ли я смѣяться? Ежели мы будемъ смѣяться, такъ никакого тогда, значитъ, и уваженія къ персонамъ… не будетъ…
— Пошелъ вонъ!! — гаркнулъ вдругъ посинѣвшій и затрясшійся генералъ.
— Что-съ? — спросилъ шопотомъ Червяковъ, млѣя отъ ужаса.
— Пошелъ вонъ!! — повторилъ генералъ, затопавъ ногами. Въ животѣ у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, онъ попятился къ двери, вышелъ на улицу и поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицъ-мундира, онъ легъ на диванъ и… померъ.
«Осколки», 1883, № 27.
Канитель.
На клиросѣ стоитъ дьячокъ Отлукавинъ и держитъ между вытянутыми, жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленькій лобъ его собрался въ морщины, на носу играютъ пятна всѣхъ цвѣтовъ, начиная съ розоваго и кончая темно-синимъ. Передъ нимъ на рыжемъ переплетѣ Цвѣтной Тріоди лежатъ двѣ бумажки. На одной изъ нихъ написано «о здравіи», на другой — «за упокой», и подъ обоими заглавіями по ряду именъ… Около клироса стоитъ маленькая старушонка съ озабоченнымъ лицомъ и съ котомкой на спинѣ. Она задумалась.
— Дальше кого? — спрашиваетъ дьячокъ, лѣниво почесывая за ухомъ. — Скорѣй, убогая, думай, а то мнѣ некогда. Сейчасъ часы читать стану.
— Сейчасъ, батюшка… Ну, пиши… О здравіи рабовъ Божіихъ: Андрея и Дарьи со чады… Митрія, опять Андрея, Антипа, Марьи…
— Постой, не шибко… Не за зайцемъ скачешь, успѣешь.
— Написалъ Марію? Ну, таперя Кирилла, Гордѣя, младенца новопреставленнаго Герасима, Пантелѣя… Записалъ усопшаго Пантелѣя?
— Постой… Пантелѣй померъ?
— Померъ… — вздыхаетъ старуха.
— Такъ какъ же ты велишь о здравіи записывать? — сердится дьячокъ, зачеркивая Пантелѣя и перенося его на другую бумажку. — Вотъ тоже еще… Ты говори толкомъ, а не путай. Кого еще за упокой?
— За упокой? Сейчасъ… постой… Ну, пиши… Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора… Запиши… воина Захара… Какъ пошелъ на службу въ четвертомъ годѣ, такъ съ той поры и не слыхать…
— Стало-быть, онъ померъ?
— А кто жъ его знаетъ! Можетъ, померъ, а можетъ, и живъ… Ты пиши…
— Куда же я его запишу? Ежели, скажемъ, померъ, то за упокой, коли живъ, то о здравіи… Пойми вотъ вашего брата!
— Гм!… Ты, родименькій, его на обѣ записочки запиши, а тамъ видно будетъ. Да ему все равно, какъ его ни записывай: непутящій человѣкъ… пропащій… Записалъ? Таперя за упокой Марка, Левонтія, Арину… ну, и Кузьму съ Анной… болящую Ѳедосью…
— Болящую-то Ѳедосью за упокой? Тю!
— Это меня-то за упокой? Ошалѣлъ, что ли?
— Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, такъ и говори, что не померла, а нечего въ за упокой лѣзть! Путаешь тутъ! Изволь вотъ теперь Ѳедосью хѣрить и въ другое мѣсто писать… всю бумагу изгадилъ! Ну, слушай, я тебѣ прочту… О здравіи Андрея, Дарьи со чады, паки Андрея, Антипія, Маріи, Кирилла, новопреставленнаго младенца Гер… Постой, какъ же сюда этотъ Герасимъ попалъ? Новопреставленный, и вдругъ — о здравіи! Нѣтъ, запутала ты меня, убогая! Богъ съ тобой, совсѣмъ запутала!
Дьячокъ крутитъ головой, зачеркиваетъ Герасима и переноситъ его въ заупокойный отдѣлъ.
— Слушай! О здравіи Маріи, Кирилла, воина Захаріи… Кого еще?
— Авдотью записалъ?
— Авдотью? Гм!… Авдотью… Евдокію… — пересматриваетъ дьячокъ обѣ бумажки. — Помню, записывалъ ее, а теперь, шутъ ее знаетъ… никакъ не найдешь… Вотъ она! За упокой записана!
— Авдотью-то за упокой? — удивляется старуха. — Году еще нѣтъ, какъ замужъ вышла, а ты на нее ужъ смерть накликаешь!… Самъ вотъ, сердешный, путаешь, а на меня злобишься. Ты съ молитвой пиши, а коли будешь въ сердцѣ злобу имѣть, то бѣсу радость. Это тебя бѣсъ хороводитъ да путаетъ…
— Постой, не мѣшай…
Дьячокъ хмурится и, подумавъ, медленно зачеркиваетъ на заупокойномъ листкѣ Авдотью. Перо на буквѣ «д» взвизгиваетъ и даетъ большую кляксу. Дьячокъ конфузится и чешетъ затылокъ.
— Авдотью, стало-бытъ, долой отсюда… — бормочетъ онъ смущенно: — а записать ее туда… Такъ? Постой… Ежели ее туда, то будетъ о здравіи, ежели же сюда, то за упокой… Совсѣмъ запутала баба! И этотъ еще воинъ Захарія встрялъ сюда… Шутъ его принесъ… Ничего не разберу! Надо сызнова…
Дьячокъ лѣзетъ въ шкапчикъ и достаетъ оттуда осьмушку чистой бумаги.
— Выкинь Захарію, коли такъ… — говоритъ старуха. — Ужъ Богъ съ нимъ, выкинь…
— Молчи!
Дьячокъ макаетъ медленно перо и списываетъ съ обѣихъ бумажекъ имена на новый листокъ.
— Я ихъ всѣхъ гуртомъ запишу, — говоритъ онъ: — а ты неси къ отцу дьякону… Пущай дьяконъ разберетъ, кто здѣсь живой, кто мертвый; онъ въ семинаріи обучался, а я этихъ самыхъ дѣловъ… хоть убей, ничего не понимаю.
Старуха беретъ бумажку, подаетъ дьячку старинныя полторы копейки и сѣменитъ къ алтарю.
«Осколки», 1885, № 17.
Хирургія.
Земская больница. За отсутствіемъ доктора, уѣхавшаго жениться, больныхъ принимаетъ фельдшеръ Курятинъ, толстый человѣкъ, лѣтъ сорока, въ поношенной чечунчовой жакеткѣ и въ истрепанныхъ триковыхъ брюкахъ. На лицѣ выраженіе чувства долга и пріятности. Между указательнымъ и среднимъ пальцами лѣвой руки — сигара, распространяющая зловоніе.
Въ пріемную входитъ дьячокъ Вонмигласовъ, высокій, коренастый старикъ, въ коричневой рясѣ и съ широкимъ кожанымъ поясомъ. Правый глазъ съ бѣльмомъ и полузакрытъ, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячокъ ищетъ глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль съ карболовымъ растворомъ, потомъ вынимаетъ изъ краснаго платочка просфору и съ поклономъ кладетъ ее передъ фельдшеромъ.
— А-а-а… мое вамъ! — зѣваетъ фельдшеръ. — Съ чѣмъ пожаловали?
— Съ воскреснымъ днемъ васъ, Сергѣй Кузьмичъ… Къ вашей милости… Истинно и правдиво въ псалтыри сказано, извините: «Питіе мое съ плачемъ растворяхъ». Сѣлъ намедни со старухой чай пить и — ни Боже мой, ни капельки, ни синь-пороха, хоть ложись да помирай… Хлебнешь чуточку — и силы моей нѣту! А кромѣ того, что въ самомъ зубѣ, но и всю эту сторону… Такъ и ломитъ, такъ и ломитъ! Въ ухо отдаетъ, извините, словно въ немъ гвоздикъ или другой какой предметъ: такъ и стрѣляетъ, такъ и стрѣляетъ! Согрѣшихомъ и беззаконновахомъ… Студными бо окаляхъ душу грѣхми и въ лѣности житіе мое иждихъ… За грѣхи, Сергѣй Кузьмичъ, за грѣхи! Отецъ іерей послѣ литургіи упрекаетъ: «Косноязыченъ ты, Ефимъ, и гугнивъ сталъ. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тутъ пѣніе, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши…
— Мда… Садитесь… Раскройте ротъ!
Вонмигласовъ садится и раскрываетъ ротъ. Курятинъ хмурится, глядитъ въ ротъ и среди пожелтѣвшихъ отъ времени и табаку зубовъ усматриваетъ одинъ зубъ, украшенный зіяющимъ дупломъ.
— Отецъ діаконъ велѣли водку съ хрѣномъ прикладывать — не помогло. Гликерія Анисимовна, дай Богъ имъ здоровья, дали на руку ниточку носить съ Аѳонской горы, да велѣли теплымъ молокомъ зубъ полоскать, а я, признаться, ниточку-то надѣлъ, а въ отношеніи молока не соблюлъ: Бога боюсь, постъ…
— Предразсудокъ… (пауза). Вырвать его нужно, Ефимъ Михеичъ!
— Вамъ лучше знать, Сергѣй Кузьмичъ. На то вы и обучены, чтобъ это дѣло понимать какъ оно есть, что вырвать, а что каплями или прочимъ чѣмъ… На то вы, благодѣтели, и поставлены, дай Богъ вамъ здоровья, чтобы мы за васъ денно и нощно, отцы родные… по гробъ жизни…
— Пустяки… — скромничаетъ фельдшеръ, подходя къ шкапу и роясь въ инструментахъ. — Хирургія — пустяки… Тутъ во всемъ привычка, твердость руки… Разъ плюнуть… Намедни тоже, вотъ какъ и вы, пріѣзжаетъ въ больницу помѣщикъ Александръ Иванычъ Египетскій… Тоже съ зубомъ… Человѣкъ образованный, обо всемъ разспрашиваетъ, во все входитъ, какъ и что. Руку пожимаетъ, по имени и отчеству… Въ Петербургѣ семь лѣтъ жилъ, всѣхъ профессоровъ перенюхалъ… Долго мы съ нимъ, тутъ… Христомъ-Богомъ молитъ: вырвите вы мнѣ его, Сергѣй Кузьмичъ! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тутъ понимать надо, безъ понятія нельзя… Зубы разные бываютъ. Одинъ рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третій ключомъ… Кому какъ.
Фельдшеръ беретъ козью ножку, минуту смотритъ на нее вопросительно, потомъ кладетъ и беретъ щипцы.
— Ну-съ, раскройте ротъ пошире… — говоритъ онъ, подходя съ щипцами къ дьячку. — Сейчасъ мы его… тово… Разъ плюнуть… Десну подрѣзать только… тракцію сдѣлать по вертикальной оси… и все… (подрѣзываетъ десну) и все…
— Благодѣтели вы наши… Намъ, дуракамъ, и невдомекъ, а васъ Господь просвѣтилъ…
— Не разсуждайте, ежели у васъ ротъ раскрытъ… Этотъ легко рвать, а бываетъ такъ, что одни только корешки… Этотъ — разъ плюнуть… (накладываетъ щипцы). Постойте, не дергайтесь… Сидите неподвижно… Въ мгновеніе ока… (дѣлаетъ тракцію). Главное, чтобъ поглубже взять (тянетъ)… чтобъ коронка не сломалась…
— Отцы наши… Мать Пресвятая… Ввв…
— Не тово… не тово… какъ его? Не хватайте руками! Пустите руки! (тянетъ). Сейчасъ… Вотъ, вотъ… Дѣло-то вѣдь не легкое…
— Отцы… радѣтели… (кричитъ) Ангелы! Ого-го… Да дергай же, дергай! Чего пять лѣтъ тянешь?
— Дѣло-то вѣдь… хирургія… Сразу нельзя… Вотъ, вотъ…
Вонмигласовъ поднимаетъ колѣни до локтей, шевелитъ пальцами, выпучиваетъ глаза, прерывисто дышитъ… На багровомъ лицѣ его выступаетъ потъ, на глазахъ слезы. Курятинъ сопитъ, топчется передъ дьячкомъ и тянетъ… Проходятъ мучительнѣйшія полминуты — и щипцы срываются съ, зуба. Дьячокъ вскакиваетъ и лѣзетъ пальцами въ ротъ. Во рту нащупываетъ онъ зубъ на старомъ мѣстѣ.
— Тянулъ! — говоритъ онъ плачущимъ и въ то же время насмѣшливымъ голосомъ. — Чтобъ тебя такъ на томъ свѣтѣ потянуло! Благодаримъ покорно! Коли не умѣешь рвать, такъ не берись! Свѣта Божьяго не вижу…
— А ты зачѣмъ руками хватаешь? — сердится фельдшеръ. — Я тяну, а ты мнѣ подъ руку толкаешь и разныя глупыя слова… Дура!
— Самъ ты дура!
— Ты думаешь, мужикъ, легко зубъ-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полѣзъ да въ колокола отбарабанилъ! (дразнитъ) «Не умѣешь, не умѣетъ!» Скажи, какой указчикъ нашелся! Ишь ты… Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвалъ, да и тотъ ничего, никакихъ словъ… Человѣкъ почище тебя, а не хваталъ руками… Садись! Садись, тебѣ говорю!
— Свѣта не вижу… Дай духъ перевести… Охъ! (садится). Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай… Сразу!
— Учи ученаго! Экій, Господи, народъ необразованный! Живи, вотъ, съ этакими… очумѣешь! Раскрой ротъ… (накладываетъ щипцы). Хирургія, братъ, не шутка… Это не на клиросѣ читать… (дѣлаетъ тракцію). Не дергайся… Зубъ, выходитъ, застарѣлый, глубоко корни пустилъ… (тянетъ). Не шевелись… Такъ… такъ… Не шевелись… Ну, ну… (слышенъ хрустящій звукъ). Такъ и зналъ!
Вонмигласовъ сидитъ минуту неподвижно, словно безъ чувствъ. Онъ ошеломленъ… Глаза его тупо глядятъ въ пространство, на блѣдномъ лицѣ потъ.
— Было бъ мнѣ козьей ножкой… — бормочетъ фельдшеръ. — Этакая оказія!
Придя въ себя, дьячокъ суетъ въ ротъ пальцы и на мѣстѣ больного зуба находитъ два торчащихъ выступа.
— Парршивый чортъ… — выговариваетъ онъ. — Насажали васъ здѣсь, иродовъ, на нашу погибель!
— Поругайся мнѣ еще тутъ… — бормочетъ фельдшеръ, кладя въ шкапъ щипцы. — Невѣжа… Мало тебя въ бурсѣ березой потчивали… Господинъ Египетскій, Александръ Иванычъ, въ Петербургѣ лѣтъ семь жилъ… образованность… одинъ костюмъ рублей сто стоитъ… да и то не ругался… А ты что за пава такая? Ништо тебѣ, не околѣешь!
Дьячокъ беретъ со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходитъ во-свояси…
«Осколки», 1884, № 32.
Винтъ.
Въ одну скверную осеннюю ночь Андрей Степановичъ Пересолинъ ѣхалъ изъ театра. Ѣхалъ онъ и размышлялъ о той пользѣ, какую приносили бы театры, если бы въ нихъ давались пьесы нравственнаго содержанія. Проѣзжая мимо правленія, онъ бросилъ думать о пользѣ и сталъ глядѣть на окна дома, въ которомъ онъ, выражаясь языкомъ поэтовъ и шкиперовъ, управлялъ рулемъ. Два окна, выходившія изъ дежурной комнаты, были ярко освѣщены.
«Неужели они до сихъ поръ съ отчетомъ возятся? — подумалъ Пересолинъ. — Четыре ихъ тамъ дурака, и до сихъ поръ еще не кончили! Чего добраго, люди подумаютъ, что я имъ и ночью покою не даю. Пойду подгоню ихъ… — Остановись, Гурій!»
Пересолинъ вылѣзъ изъ экипажа и пошелъ въ правленіе. Парадная дверь была заперта, задній же ходъ, имѣвшій одну только испортившуюся задвижку, былъ настежь. Пересолинъ воспользовался послѣднимъ, и черезъ какую-нибудь минуту стоялъ уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отворена, и Пересолинъ, взглянувъ въ нее, увидѣлъ нѣчто необычайное. За столомъ, заваленнымъ большими счетными листами, при свѣтѣ двухъ лампъ, сидѣли четыре чиновника и играли въ карты. Сосредоточенные, неподвижные, съ лицами, окрашенными въ зеленый цвѣтъ отъ абажуровъ, они напоминали сказочныхъ гномовъ или, чего Боже избави, фальшивыхъ монетчиковъ… Еще болѣе таинственности придавала имъ ихъ игра. Судя по ихъ манерамъ и карточнымъ терминамъ, которые они изрѣдка выкрикивали, то былъ винтъ; судя же по всему тому, что услышалъ Пересолинъ, эту игру нельзя было назвать ни винтомъ, ни даже игрой въ карты. То было нѣчто неслыханное, странное и таинственное… Въ чиновникахъ Пересолинъ узналъ Серафима Звиздулина, Степана Кулакевича, Еремѣя Недоѣхова и Ивана Писулина.
— Какъ же это ты ходишь, чортъ голландскій, — разсердился Звиздулинъ, съ остервенѣніемъ глядя на своего партнера vis-à-vis. — Развѣ такъ можно ходить? У меня на рукахъ былъ Дороѳеевъ самъ-другъ, Шепелевъ съ женой да Степка Ерлаковъ, а ты ходишь съ Кофейкина. Вотъ мы и безъ двухъ! А тебѣ бы, садовая голова, съ Поганкина ходить!
— Ну, и что жъ тогда бъ вышло? — окрысился партнеръ. — Я пошелъ бы съ Поганкина, а у Ивана Андреича Пересолинъ на рукахъ.
«Мою фамилію къ чему-то приплели… — пожалъ плечами Пересолинъ. — Не понимаю!» Писулинъ сдалъ снова и чиновники продолжали:
— Государственный банкъ…
— Два — казенная палата…
— Безъ козыря…
— Ты безъ козыря?? Гм!… Губернское правленье — два… Погибать — такъ погибать, шутъ возьми! Тотъ разъ на народномъ просвѣщеніи безъ одной остался, сейчасъ на губернскомъ правленіи нарвусь. Плевать!
— Маленькій шлемъ на народномъ просвѣщеніи!
«Не понимаю!» — прошепталъ Пересолинъ.
— Хожу со статскаго… Бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку или губернскаго.
— Зачѣмъ намъ титуляшку? Мы и Пересолинымъ хватимъ…
— А мы твоего Пересолина по зубамъ… по зубамъ… У насъ Рыбниковъ есть. Быть вамъ безъ трехъ! Показывайте Пересолиху! Нечего вамъ ее, каналью, за обшлагъ прятать!
«Мою жену затрогали… — подумалъ Пересолинъ… — Не понимаю».
И, не желая долѣе оставаться въ недоумѣніи, Пересолинъ открылъ дверь и вошелъ въ дежурную. Если бы передъ чиновниками явился самъ чортъ съ рогами и съ хвостомъ, то онъ не удивилъ бы и не испугалъ такъ, какъ испугалъ и удивилъ ихъ начальникъ. Явись передъ ними умершій въ прошломъ году экзекуторъ, проговори онъ имъ гробовымъ голосомъ: «Идите за мной, аггелы, въ мѣсто, уготованное канальямъ», и дыхни онъ на нихъ холодомъ могилы, они не поблѣднѣли бы такъ, какъ поблѣднѣли, узнавъ Пересолина. У Недоѣхова отъ перепугу даже кровь изъ носа пошла, а у Кулакевича забарабанило въ правомъ ухѣ и самъ собою развязался галстукъ. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на полъ. Минуту въ дежурной царила тишина…
— Хорошо же вы отчетъ переписываете! — началъ Пересолинъ. — Теперь понятно, почему вы такъ любите съ отчетомъ возиться… Что вы сейчасъ дѣлали?…
— Мы только на минутку, ваше-ство… — прошепталъ Звиздулинъ. — Карточки разсматривали… Отдыхали…
Пересолинъ подошелъ къ столу и медленно пожалъ плечами. На столѣ лежали не карты, а фотографическія карточки обыкновеннаго формата, снятыя съ картона и наклеенныя на игральныя карты. Карточекъ было много. Разсматривая ихъ, Пересолинъ увидѣлъ себя, свою жену, много своихъ подчиненныхъ, знакомыхъ…
— Какая чепуха… Какъ же вы это играете?
— Это не мы, ваше-ство, выдумали… Сохрани Богъ… Это мы только примѣръ взяли…
— Объясни-ка, Звиздулинъ! Какъ вы играли? Я все видѣлъ и слышалъ, какъ вы меня Рыбниковымъ били… Ну, чего мнешься? Вѣдь я тебя не ѣмъ? Разсказывай!
Звиздулинъ долго стѣснялся и трусилъ. Наконецъ, когда Пересолинъ сталъ сердиться, фыркать и краснѣть отъ нетерпѣнія, онъ послушался. Собравъ карточки и перетасовавъ, онъ разложилъ ихъ по столу и началъ объяснять:
— Каждый портретъ, ваше-ство, какъ и каждая карта, свою суть имѣетъ… значеніе. Какъ и въ колодѣ, такъ и здѣсь 52 карты и четыре масти… Чиновники казенной палаты — черви, губернское правленіе — трефы, служащіе по министерству народнаго просвѣщенія — бубны, а пиками будетъ отдѣленіе государственнаго банка. Ну-съ… Дѣйствительные статскіе совѣтники у насъ тузы, статскіе совѣтники — короли, супруги особъ ІѴ и Ѵ класса — дамы, коллежскіе совѣтники — валеты, надворные совѣтники — десятки, и такъ далѣе. Я, напримѣръ, — вотъ моя карточка, — тройка, такъ какъ, будучи губернскій секретарь…
— Ишь ты… Я, стало-быть, тузъ?
— Трефовый-съ, а ея превосходительство — дама-съ…
— Гм!… Это оригинально… А ну-ка, давайте сыграемъ! Посмотрю…
Пересолинъ снялъ пальто и, недовѣрчиво улыбаясь, сѣлъ за столъ. Чиновники: тоже сѣли по его приказанію, и игра началась…
Сторожъ Назаръ, пришедшій въ семь часовъ утра мести дежурную комнату, былъ пораженъ. Картина, которую увидѣлъ онъ, войдя со щеткой, была такъ поразительна, что онъ помнитъ ее теперь даже тогда, когда, напившись пьянъ, лежитъ въ безпамятствѣ. Пересолинъ, блѣдный, сонный и непричесанный, стоялъ передъ Недоѣховымъ и, держа его за пуговицу, говорилъ:
— Пойми же, что ты не могъ съ Шепелева ходить, если зналъ, что у меня на рукахъ я самъ-четвертъ. У Звиздулина Рыбниковъ съ женой, три учителя гимназіи, да моя жена, у Недоѣхова банковцы и три маленькихъ изъ губернской управы. Тебѣ бы нужно было съ Крышкина ходить! Ты не гляди, что они съ казенной палаты ходятъ! Они себѣ на умѣ!
— Я, ваше-ство, пошелъ съ титулярнаго, потому думалъ, что у нихъ дѣйствительный.
— Ахъ, голубчикъ, да вѣдь такъ нельзя думать! Это не игра! Такъ играютъ одни только сапожники. Ты разсуждай!… Когда Кулакевичъ пошелъ съ надворнаго губернскаго правленія, ты долженъ былъ бросать Ивана Ивановича Гренландскаго, потому что зналъ, что у него Наталья Дмитріевна самъ-третей съ Егоръ Егорычемъ… Ты все испортилъ! Я тебѣ сейчасъ докажу. Садитесь, господа, еще одинъ роберъ сыграемъ!
И, уславши удивленнаго Назара, чиновники усѣлись и продолжали игру.
«Осколки», 1884, № 39.
Капитанскій мундиръ.
Восходящее солнце хмурилось на уѣздный городъ, пѣтухи еще только потягивались, а между тѣмъ въ кабакѣ дяди Рылкина уже были посѣтители. Ихъ было трое: портной Меркуловъ, городовой Жратва и казначейскій разсыльный Смѣхуновъ. Всѣ трое были выпивши.
— Не говори! И не говори! — разсуждалъ Меркуловъ, держа городового за пуговицу. — Чинъ гражданскаго вѣдомства, ежели взять котораго повыше, въ портняжномъ смыслѣ завсегда утретъ носъ генералу. Взять таперича хотя камергера… Что это за человѣкъ? Какого званія? А ты считай… Четыре аршина сукна наилучшаго фабрики Прюнделя съ сыновьями, пуговки, золотой воротникъ, штаны бѣлые съ золотымъ лампасомъ, всѣ груди въ золотѣ, на воротѣ, на рукавахъ и на клапанахъ блескъ! Таперича ежели шить на господъ гофмейстеровъ, шталмейстеровъ, церемоніймейстеровъ и прочихъ министерій… Ты какъ понимаешь? Помню это, шили мы на гофмейстера графа Андрея Семеныча Вонляревскаго. Мундиръ — не подходи! Берешься за него руками, а въ жилкахъ пульса — цикъ! цикъ! Настоящіе господа, ежели шьютъ, то не смѣй ихъ безпокоить. Снялъ мѣрку и шей, а ходить примѣривать да прифасониваться никакъ невозможно. Ежели ты стоющій портной, то сразу по мѣркѣ сдѣлай… Съ колокольни спрыгни, въ сапоги попади — во какъ! А около насъ былъ, братецъ ты мой, какъ теперь помню, жандармскій корпусъ… Хозяинъ нашъ Осипъ Якличъ и выбиралъ изъ жандармовъ, которые подходяще, чтобъ заказчику подъ корпусъ подходили, для примѣрки. Ну-съ, это самое… выбрали мы, братецъ ты мой, для графскаго мундира одного подходящаго жандармика. Позвали… Надѣвай, харя, и чувствуй!… Потѣха! Надѣлъ онъ, это самое, мундиръ таперя, поглядѣлъ на груди — и что жъ! Обомлѣлъ, знаешь, затрепеталъ, безъ чувствъ…
— А на исправниковъ шили? — освѣдомился Смѣхуновъ.
— Эко-ся, важная птица! Въ Петербургѣ исправниковъ этихъ, какъ собакъ нерѣзаныхъ… Тутъ передъ ними шапку ломаютъ, а тамъ — «посторонись, чево прешь!» Шили мы на господъ военныхъ, да на особъ первыхъ четырехъ классовъ. Особа особѣ рознь… Ежели ты, положимъ, пятаго класса, то ты — пустяки… Приходи черезъ недѣлю и все готово — потому, окромя воротника и нарукавниковъ, ничего… А ежели который четвертаго класса, или третьяго, или, положимъ, второго, тутъ ужъ хозяинъ всѣмъ въ зубы и бѣги въ жандармскій корпусъ. Шили мы разъ, братецъ ты мой, на персидскаго консула. Нашили мы ему на грудяхъ и на спинѣ золотыхъ кренделей на полторы тыщи. Думали, что не отдастъ; анъ нѣтъ, заплатилъ… Въ Петербургѣ даже и въ татарахъ благородство есть.
Долго разсказывалъ Меркуловъ. Въ девятомъ часу онъ, подъ вліяніемъ воспоминаній, заплакалъ и сталъ горько жаловаться на судьбу, загнавшую его въ городишко, наполненный одними только купцами и мѣщанами. Городовой отвелъ уже двоихъ въ полицію, разсыльный уходилъ два раза на почту и въ казначейство и опять приходилъ, а онъ все жаловался. Въ полдень онъ стоялъ передъ дьячкомъ, билъ себя кулакомъ по груди и ропталъ:
— Не желаю я на хамовъ шить! Не согласенъ! Въ Петербургѣ я самолично на барона Шпуцеля и на господъ офицеровъ шилъ! Отойди отъ меня, длиннополая кутья, чтобъ я тебя не видѣлъ своими глазами! Отойди!
— Возмечтали вы о себѣ высоко, Трифонъ Пантелѣичъ, — убѣждалъ портного дьячокъ. — Хоть вы и артистъ въ своемъ цехѣ, но Бога и религію не должны забывать. Арій возмечталъ, въ родѣ какъ вы, и померъ поносной смертью. Ой, помрете и вы!
— И помру! Пущай лучше помру, чѣмъ зипуны шить!
— Мой анаѳема здѣсь? — послышался вдругъ за дверью бабій голосъ, и въ кабакъ вошла жена Меркулова Аксинья, пожилая баба съ подсученными рукавами и перетянутымъ животомъ. — Гдѣ онъ, идолъ? — окинула она негодующимъ взоромъ посѣтителей. — Иди домой, чтобъ тебя разорвало, тамъ тебя какой-то офицеръ спрашиваетъ!
— Какой офицеръ? — удивился Меркуловъ.
— А шутъ его знаетъ! Сказываетъ, заказать пришелъ.
Меркуловъ почесалъ всей пятерней свой большой носъ, что онъ дѣлалъ всякій разъ, когда хотѣлъ выразить крайнее изумленіе, и пробормоталъ:
— Бѣлены баба объѣлась… Пятнадцатъ годовъ не видалъ лица благороднаго и вдругъ нынче, въ постный день — офицеръ съ заказомъ! Гм!… Пойти поглядѣть…
Меркуловъ вышелъ изъ кабака и, спотыкаясь, побрелъ домой… Жена не обманула его. У порога своей избы онъ увидѣлъ капитана Урчаева, дѣлопроизводителя мѣстнаго воинскаго начальника.
— Ты гдѣ это шатаешься? — встрѣтилъ его капитанъ. — Цѣлый часъ жду… Можешь мнѣ мундиръ сшить?
— Ваше благор… Господи! — забормоталъ Меркуловъ, захлебываясь и срывая со своей головы шапку вмѣстѣ съ клочкомъ волосъ. — Ваше благородіе! Да нешто впервой мнѣ это самое? Ахъ Господи! На барона Шпуцеля шилъ… Эдуарда Карлыча… господинъ подпоручикъ Зембулатовъ до сей поры мнѣ десять рублей долженъ. Ахъ! Жена, да дай же его благородію стульчикъ, побей меня Богъ… Прикажете мѣрочку снять, или дозволите шить на глазомѣръ?
— Ну-съ… Твое сукно и чтобъ черезъ недѣлю было готово… Сколько возьмешь?
— Помилуйте, ваше благородіе… Что вы-съ, — усмѣхнулся Меркуловъ. — Я не купецъ какой-нибудь. Мы вѣдь понимаемъ, какъ съ господами… Когда на консула персидскаго шили, и то безъ словъ…
Снявши съ капитана мѣрку и проводивъ его, Меркуловъ цѣлый часъ стоялъ посреди избы и съ отупѣніемъ глядѣлъ на жену. Ему не вѣрилось…
— Вѣдь этакая, скажи на милость, оказія! — проворчалъ онъ наконецъ. — Гдѣ же я денегъ возьму на сукно? Аксинья, дай-ка, братецъ ты мой, мнѣ въ кредитъ тѣ деньги, что за корову выручили!
Аксинья показала ему кукишъ и плюнула. Немного погодя, она работала кочергой, била на мужниной головѣ горшки, таскала его за бороду, выбѣгала на улицу и кричала: «Ратуйте, кто въ Бога вѣруетъ! Убилъ!…» Но ни къ чему не привели эти протесты. На другое утро она лежала въ постели и прятала отъ подмастерій свои синяки, а Меркуловъ ходилъ по лавкамъ и, ругаясь съ купцами, выбиралъ подходящее сукно.
Для портного наступила новая эра. Просыпаясь утромъ и обводя мутными глазами свой маленькій мірокъ, онъ уже не плевалъ съ остервенѣніемъ… А что диковиннѣе всего, онъ пересталъ ходить въ кабакъ и занялся работой. Тихо помолившись, онъ надѣвалъ большіе стальные очки, хмурился и священнодѣйственно раскладывалъ на столѣ сукно.
Черезъ недѣлю мундиръ былъ готовъ. Выгладивъ его, Меркуловъ вышелъ на улицу, повѣсилъ на плетень и занялся чисткой; сниметъ пушинку, отойдетъ на сажень, щурится долго на мундиръ и опять сниметъ пушинку — и этакъ часа два.
— Бѣда съ этими господами! — говорилъ онъ прохожимъ. — Нѣтъ ужъ больше моей возможности, замучился! Образованные, деликатные — подика-сь угоди.
На другой день послѣ чистки Меркуловъ помазалъ голову масломъ, причесался, завернулъ мундиръ въ новый коленкоръ и отправился къ капитану.
— Некогда мнѣ съ тобой, остолопомъ, разговаривать! — останавливалъ онъ каждаго встрѣчнаго. — Нешто не видишь, что мундиръ къ капитану несу?
Черезъ полчаса онъ воротился отъ капитана.
— Съ полученіемъ васъ, Трифонъ Пантелѣичъ! — встрѣтила его Аксинья, широко ухмыляясь и застыдившись.
— Ну, и дура! — отвѣтилъ ей мужъ. — Нешто настоящіе господа платятъ сразу? Это не купецъ какой-нибудь — взялъ да тебѣ сразу и вывалилъ! Дура…
Дня два Меркуловъ лежалъ на печи, не пилъ, не ѣлъ, и предавался чувству самоудовлетворенія, точь-въ-точь какъ Геркулесъ по совершеніи всѣхъ своихъ подвиговъ. На третій онъ отправился за получкой.
— Ихъ благородіе вставши? — прошепталъ онъ, вползая въ переднюю и обращаясь къ денщику.
И получивъ отрицательный отвѣтъ, онъ сталъ столбомъ у косяка и принялся ждать.
— Гони въ шею! Скажи, что въ субботу! — услышалъ онъ, послѣ продолжительнаго ожиданія, хрипѣнье капитана.
То же самое услышалъ онъ въ субботу, въ одну, потомъ въ другую… Цѣлый мѣсяцъ ходилъ онъ къ капитану, высиживалъ долгіе часы въ передней и вмѣсто денегъ получалъ приглашеніе убираться къ чорту и придти въ субботу. Но онъ не унывалъ, не ропталъ, а напротивъ… Онъ даже пополнѣлъ. Ему нравилось долгое ожиданіе въ передней, «гони въ шею» звучало въ его ушахъ сладкой мелодіей.
— Сейчасъ узнаешь благороднаго! — восторгался онъ всякій разъ, возвращаясь отъ капитана домой. — У насъ въ Питерѣ всѣ такіе были…
До конца дней своихъ согласился бы Меркуловъ ходить къ капитану и ждать въ передней, если бы не Аксинья, требовавшая обратно деньги, вырученныя за корову.
— Принесъ деньги? — встрѣчала она его каждый разъ. — Нѣтъ? Что же ты со мной дѣлаешь, песъ лютый? А?… Митька, гдѣ кочерга?
Однажды подъ вечеръ Меркуловъ шелъ съ рынка и тащилъ на спинѣ куль съ углемъ. За нимъ торопилась Аксинья.
— Ужо будетъ тебѣ дома на орѣхи! Погоди, — бормотала она, думая о деньгахъ, вырученныхъ за корову.
Вдругъ Меркуловъ остановился, какъ вкопанный, и радостно вскрикнулъ. Изъ трактира «Веселіе», мимо котораго они шли, опрометью выбѣжалъ какой-то господинъ въ цилиндрѣ, съ краснымъ лицомъ и пьяными глазами. За нимъ гнался капитанъ Урчаевъ съ кіемъ въ рукѣ, безъ шапки, растрепанный, разлохмаченный. Новый мундиръ его былъ весь въ мѣлу, одна погона глядѣла въ сторону.
— Я заставлю тебя играть, шулеръ! — кричалъ капитанъ, неистово махая кіемъ и утирая со лба потъ. — Я научу тебя, протобестія, какъ играть съ порядочными людьми!
— Поглядика-сь, дура! — зашепталъ Меркуловъ, толкая жену подъ локоть и хихикая. — Сейчасъ видать благороднаго. Купецъ ежели что сошьетъ для своего мужицкаго рыла, такъ и сносу нѣтъ, лѣтъ десять таскаетъ, а этотъ ужъ истрепалъ мундиръ! Хоть новый шей!
— Поди попроси у него деньги! — сказала Аксинья. — Поди!
— Что ты, дура! На улицѣ? И ни-ни…
Какъ ни противился Меркуловъ, но жена заставила его подойти къ разсвирѣпѣвшему капитану и заговорить о деньгахъ.
— Пошелъ вонъ! — отвѣтилъ ему капитанъ. — Ты мнѣ надоѣлъ!
— Я, ваше благородіе, понимаю-съ… Я ничего-съ… но жена… неразумная тварь… Сами знаете, какой умъ въ головѣ у ихняго бабьяго званія…
— Ты мнѣ надоѣлъ, говорятъ тебѣ! — взревѣлъ капитанъ, тараща на него пьяные, мутные глаза. — Пошелъ прочь!
— Понимаю, ваше благородіе! Но я касательно бабы, потому, изволите знать, деньги-то коровьи… Отцу Іудѣ корову продали…
— А-а-а… ты еще разговаривать, тля!
Капитанъ размахнулся и — трахъ! Со спины Меркулова посылался уголь, изъ глазъ — искры, изъ рукъ выпала шапка… Аксинья обомлѣла.. Минуту стояла она неподвижно, какъ Лотова жена, обращенная въ соляной столбъ, потомъ зашла впередъ и робко взглянула на лицо мужа… Къ ея великому удивленію, на лицѣ Меркулова плавала блаженная улыбка, на смѣющихся глазахъ блестѣли слезы…
— Сейчасъ видать настоящихъ господъ! — бормоталъ онъ. — Люди деликатные, образованные… Точь-въ-точь, бывало… по самому этому мѣсту, когда носилъ шубу къ барону Шпуцелю, Эдуарду Карлычу… Размахнулись и — трахъ! И господинъ подпоручикъ Зембулатовъ тоже… Пришелъ къ нимъ, а они вскочили и изо всей мочи… Эхъ, прошло, жена, мое время! Не понимаешь ты ничего! Прошло мое время!
Меркуловъ махнулъ рукой и, собравъ уголь, побрелъ домой.
«Осколки», 1885, № 4.
Живая хронологія.
Гостиная статскаго совѣтника Шарамыкина окутана пріятнымъ полумракомъ. Большая бронзовая лампа съ зеленымъ абажуромъ краситъ въ зелень à la «украинская ночь» стѣны, мебель, лица… Изрѣдка въ потухающемъ каминѣ вспыхиваетъ тлѣющее полѣно и на мгновеніе заливаетъ лица цвѣтомъ пожарнаго зарева; но это не портитъ общей свѣтовой гармоніи, Общій тонъ, какъ говорятъ художники, выдержанъ.
Передъ каминомъ въ креслѣ, въ позѣ только что пообѣдавшаго человѣка, сидитъ самъ Шарамыкинъ, пожилой господинъ съ сѣдыми чиновничьими бакенами и съ кроткими голубыми глазами. По лицу его разлита нѣжность, губы сложены въ грустную улыбку. У его ногъ, протянувъ къ камину ноги и лѣниво потягиваясь, сидитъ на скамеечкѣ вице-губернаторъ Лопневъ, бравый мужчина, лѣтъ сорока. Около піанино возятся дѣти Шарамыкина: Нина, Коля, Надя и Ваня. Изъ слегка отворенной двери, ведущей въ кабинетъ г-жи Шарамыкиной, робко пробивается свѣтъ. Тамъ за дверью, за своимъ письменнымъ столомъ сидитъ жена Шарамыкина, Анна Павловна, предсѣдательница мѣстнаго дамскаго комитета, живая и пикантная дамочка, лѣтъ тридцати съ хвостикомъ. Ея черные, бойкіе глазки бѣгаютъ сквозь пенснэ по страницамъ французскаго романа. Подъ романомъ лежитъ растрепанный комитетскій отчетъ за прошлый годъ.
— Прежде нашъ городъ въ этомъ отношеніи былъ счастливѣе, — говоритъ Шарамыкинъ, щуря свои кроткіе глаза на тлѣющіе уголья. — Ни одной зимы не проходило безъ того, чтобы не пріѣзжала какая-нибудь звѣзда. Бывали и знаменитые актеры, и пѣвцы, а нынче… чортъ знаетъ что! кромѣ фокусниковъ да шарманщиковъ никто не наѣзжаетъ. Никакого эстетическаго удовольствія… Живемъ, какъ въ лѣсу. Да-съ… А помните, ваше превосходительство, того итальянскаго трагика… какъ его?… еще такой брюнетъ, высокій… Дай Богъ память… Ахъ, да! Луиджи-Эрнесто-де-Руджіеро… Талантъ замѣчательный… Сила! Одно слово скажетъ, бывало, и театръ ходоромъ ходитъ. Моя Анюточка принимала большое участіе въ его талантѣ. Она ему и театръ выхлопотала, и билеты на десять спектаклей распродала… Онъ ее за это декламаціи и мимікѣ училъ. Душа человѣкъ! Пріѣзжалъ онъ сюда… чтобъ не соврать… лѣтъ двѣнадцать тому назадъ… Нѣтъ, вру… Меньше, лѣтъ десять… Анюточка, сколько нашей Нинѣ лѣтъ?
— Десятый годъ! — кричитъ изъ своего кабинета Анна Павловна. — А что?
— Ничего, мамочка, это я такъ… И пѣвцы хорошіе пріѣзжали, бывало… Помните вы tenore di grazia14 Прилипчина? Что за душа человѣкъ! Что за наружность! Блондинъ… лицо этакое выразительное, манеры парижскія… А что за голосъ, ваше превосходительство! Одна только бѣда: нѣкоторыя ноты желудкомъ пѣлъ и «ре» фистулой бралъ, а то все хорошо. У Тамберлика, говорилъ, учился… Мы съ Анюточкой выхлопотали ему залу въ общественномъ собраніи, и въ благодарность за это онъ, бывало, намъ цѣлые дни и ночи распѣвалъ… Анюточку пѣть училъ… Пріѣзжалъ онъ, какъ теперь помню, въ великомъ посту, лѣтъ… лѣтъ двѣнадцать тому назадъ. Нѣтъ, больше… Вотъ память, прости Господи! Анюточка, сколько нашей Надечкѣ лѣтъ?
— Двѣнадцать!
— Двѣнадцать… ежели прибавить десять мѣсяцевъ… Ну, такъ и есть… тринадцать!… Прежде у насъ въ городѣ какъ-то и жизни больше было… Взять къ примѣру хоть благотворительные вечера. Какіе прекрасные бывали у насъ прежде вечера. Что за прелесть! И поютъ, и играютъ, и читаютъ… Послѣ войны, помню, когда здѣсь плѣнные турки стояли, Анюточка дѣлала вечеръ въ пользу раненыхъ. Собрали тысячу сто рублей… Турки-офицеры, помню, безъ ума были отъ Анюточкина голоса и все ей руку цѣловали. Хе, хе… Хоть и азіаты, а признательная нація. Вечеръ до того удался, что я, вѣрите ли, въ дневникъ записалъ. Это было, какъ теперь помню, въ… семьдесятъ шестомъ… нѣтъ! въ семьдесятъ седьмомъ… Нѣтъ! Позвольте, когда у насъ турки стояли? Анюточка, сколько нашему Колечкѣ лѣтъ?
— Мнѣ, папа, семь лѣтъ! — говоритъ Коля, черномазый мальчуганъ съ смуглымъ лицомъ и черными, какъ уголь, волосами.
— Да, постарѣли и энергіи той ужъ нѣтъ!… — соглашается Лопневъ, вздыхая. — Вотъ гдѣ причина… Старость, батенька! Новыхъ иниціаторовъ нѣтъ, а старые состарились… Нѣтъ ужъ того огня. Я, когда былъ помоложе, не любилъ, чтобъ общество скучало… Я былъ первымъ помощникомъ вашей Анны Павловны… Вечеръ ли съ благотворительною цѣлью устроить, лотерею ли, пріѣзжую ли знаменитость поддержать — все бросалъ и начиналъ хлопотать. Одну зиму, помню, я до того захлопотался и набѣгался, что даже заболѣлъ… Не забыть мнѣ этой зимы!… Помните, какой спектакль сочинили мы съ вашей Анной Павловной въ пользу погорѣльцевъ?
— Да это въ какомъ году было?
— Не очень давно… Въ семьдесятъ девятомъ… Нѣтъ, въ восьмидесятомъ, кажется! Позвольте, сколько вашему Ванѣ лѣтъ?
— Пять! — кричитъ изъ кабинета Анна Павловна.
— Ну, стало-быть, это было шесть лѣтъ тому назадъ… Да-съ, батенька, были дѣла! Теперь ужъ не то! Нѣтъ того огня!
Лопневъ и Шарамыкинъ задумываются. Тлѣющее полѣно вспыхиваетъ въ послѣдній разъ и подергивается пепломъ.
«Осколки», 1885, № 8.
Восклицательный знакъ. Святочный разсказъ.
Въ ночь подъ Рождество Ефимъ Ѳомичъ Перекладинъ, коллежскій секретарь, легъ спать обиженный и даже оскорбленный.
— Отвяжись ты, нечистая сила! — рявкнулъ онъ со злобой на жену, когда та спросила, отчего онъ такой хмурый.
Дѣло въ томъ, что онъ только-что вернулся изъ гостей, гдѣ сказано было много непріятныхъ и обидныхъ для него вещей. Сначала заговорили о пользѣ образованія вообще, потомъ же незамѣтно перешли къ образовательному цензу служащей братіи, причемъ было высказано много сожалѣній, упрековъ и даже насмѣшекъ по поводу низкаго уровня. И тутъ, какъ это водится во всѣхъ россійскихъ компаніяхъ, съ общихъ матерій перешли къ личностямъ.
— Взять, напримѣръ, хоть васъ, Ефимъ Ѳомичъ, — обратился къ Перекладину одинъ юноша. — Вы занимаете приличное мѣсто… а какое образованіе вы получили?
— Никакого-съ. Да у насъ образованіе и не требуется, — кротко отвѣтилъ Перекладинъ. — Пиши правильно, вотъ и все…
— Гдѣ же это вы правильно писать-то научились?
— Привыкъ-съ… За сорокъ лѣтъ службы можно руку набить-съ… Оно, конечно, спервоначалу трудно было, дѣлывалъ ошибки, но потомъ привыкъ-съ… и ничего…
— А знаки препинанія?
— И знаки препинанія ничего.. Правильно ставлю.
— Гм!… — сконфузился юноша. — Но привычка совсѣмъ не то что образованіе. Мало того, что вы знаки препинанія правильно ставите… мало-съ! Нужно сознательно ставить! Вы ставите запятую и должны сознавать, для чего ее ставите… да-съ! А это ваше безсознательное… рефлекторное правописаніе и гроша не стоитъ. Это машинное производство и больше ничего.
Перекладинъ смолчалъ и даже кротко улыбнулся (юноша былъ сынъ статскаго совѣтника и самъ имѣлъ право на чинъ X класса), но теперь, ложась спать, онъ весь обратился въ негодованіе и злобу.
«Сорокъ лѣтъ служилъ, — думалъ онъ: и никто меня дуракомъ не назвалъ, а тутъ, поди ты, какіе критики нашлись! „Безсознательно!… Лефлекторно! Машинное производство“… Ахъ, ты, чортъ тебя возьми! Да я еще, можетъ-быть, больше тебя понимаю, даромъ что въ твоихъ университетахъ не былъ!»
Изливъ мысленно по адресу критика всѣ извѣстныя ему ругательства и согрѣвшись подъ одѣяломъ, Перекладинъ сталъ успокаиваться.
«Я знаю… понимаю… — думалъ онъ, засыпая. — Не поставлю тамъ двоеточія, гдѣ запятую нужно, стало-быть, сознаю, понимая. Да… Такъ-то, молодой человѣкъ… Сначала пожить нужно, послужить, а потомъ ужъ стариковъ судить»…
Въ закрытыхъ глазахъ засыпавшаго Перекладина сквозь толпу темныхъ, улыбавшихся облаковъ метеоромъ пролетѣла огненная запятая. За ней другая, третья, и скоро весь безграничный, темный фонъ, разстилавшійся передъ его воображеніемъ, покрылся густыми толпами летавшихъ запятыхъ…
«Хоть эти запятыя взять… — думалъ Перекладинъ, чувствуя, какъ его члены сладко нѣмѣютъ отъ наступавшаго сна. — Я ихъ отлично понимаю… Для каждой могу мѣсто найти, ежели хочешь… и… и сознательно, а не зря… Экзаменуй, и увидишь… Запятыя ставятся въ разныхъ мѣстахъ, гдѣ надо, гдѣ и не надо. Чѣмъ путаннѣе бумага выходитъ, тѣмъ больше запятыхъ нужно. Ставятся онѣ передъ «который» и передъ «что». Ежели въ бумагѣ перечислять чиновниковъ, то каждаго изъ нихъ надо запятой отдѣлять… Знаю!»
Золотыя запятыя завертѣлись и унеслись въ сторону. На ихъ мѣсто прилетѣли огненныя точки…
«А точка въ концѣ бумаги ставится… Гдѣ нужно большую передышку сдѣлать и на слушателя взглянуть, тамъ тоже точка. Послѣ всѣхъ длинныхъ мѣстъ нужно точку, чтобъ секретарь, когда будетъ читать, слюной не истекъ. Больше же нигдѣ точка не ставится…»
Опять налетаютъ запятыя… Онѣ мѣшаются съ точками, кружатся — и Перекладинъ видитъ цѣлое сонмище точекъ съ запятой и двоеточій…
«И этихъ знаю… — думаетъ онъ. — Гдѣ запятой мало, а точки много, тамъ надо точку съ запятой. Передъ «но» и «слѣдственно» всегда ставлю точку съ запятой… Ну-съ, а двоеточіе? Двоеточіе ставится послѣ словъ «постановили», «рѣшили»…
Точки съ запятой и двоеточія потухли. Наступила очередь вопросительныхъ знаковъ. Эти выскочили изъ облаковъ и заканканировали…
«Эка невидаль: знакъ вопросительный! Да хоть тысяча ихъ, всѣмъ мѣсто найду. Ставятся они всегда, когда запросъ нужно дѣлать или, положимъ, о бумагѣ справиться… «Куда отнесенъ остатокъ суммъ за такой-то годъ?» или — «Не найдетъ ли полицейское управленіе возможнымъ оную Иванову и проч.?…»
Вопросительные знаки одобрительно закивали своими крючками и моментально, словно по командѣ, вытянулись въ знаки восклицательные…
«Гм!… Этотъ знакъ препинанія въ письмахъ часто ставится. «Милостивый государь мой!» или «Ваше превосходительство, отецъ и благодѣтель!…» А въ бумагахъ когда?
Восклицательные знаки еще больше вытянулись и остановились въ ожиданіи…
«Въ бумагахъ они ставятся, когда… тово… этого… какъ его? Гм!… Въ самомъ дѣлѣ, когда же ихъ въ бумагахъ ставятъ? Постой… дай Богъ память… Гм!…»
Перекладинъ открылъ глаза и повернулся на другой бокъ. Но не успѣлъ онъ вновь закрыть глаза, какъ на темномъ фонѣ опять появились восклицательные знаки.
«Чортъ ихъ возьми… Когда же ихъ ставить нужно? — подумалъ онъ, стараясь выгнать изъ своего воображенія непрошеныхъ гостей. — Неужели забылъ? Или забылъ, или же… никогда ихъ не ставилъ…»
Перекладинъ сталъ припоминать содержаніе всѣхъ бумагъ, которыя онъ написалъ за сорокъ лѣтъ своего служенія; но какъ онъ ни думалъ, какъ ни морщилъ лобъ, въ своемъ прошломъ онъ не нашелъ ни одного восклицательнаго знака.
«Что за оказія! Сорокъ лѣтъ писалъ и ни разу восклицательнаго знака не поставилъ… Гм!… Но когда же онъ, чортъ длинный, ставится?»
Изъ-за ряда огненныхъ восклицательныхъ знаковъ показалась ехидно смѣющаяся рожа юноши-критика. Сами знаки улыбнулись и слились въ одинъ большой восклицательный знакъ.
Перекладинъ встряхнулъ головой и открылъ глаза.
«Чортъ знаетъ что… — подумалъ онъ. — Завтра къ утрени вставать надо, а у меня это чертобѣсіе изъ головы не выходитъ… Тьфу! Но… когда же онъ ставится? Вотъ тебѣ и привычка! Вотъ тебѣ и набилъ руку! За сорокъ лѣтъ ни одного восклицательнаго! А?»
Перекладинъ перекрестился и закрылъ глаза, но тотчасъ же открылъ ихъ; на темномъ фонѣ все еще стоялъ большой знакъ…
«Тьфу! Этакъ всю ночь не уснешь». — Марѳуша! — обратился онъ къ своей женѣ, которая часто хвасталась тѣмъ, что кончила курсъ въ пансіонѣ. — Ты не знаешь ли, душенька, когда въ бумагахъ ставится восклицательный знакъ?
— Еще бы не знать! Недаромъ въ пансіонѣ семь лѣтъ училась. Наизусть всю грамматику помню. Этотъ знакъ ставится при обращеніяхъ, восклицаніяхъ и при выраженіяхъ восторга, негодованія, радости, гнѣва и прочихъ чувствъ.
«Тэкъ-съ… — подумалъ Перекладинъ. — Восторгъ, негодованіе, радость, гнѣвъ и прочія чувства…»
Коллежскій секретарь задумался… Сорокъ лѣтъ писалъ онъ бумаги, написалъ онъ ихъ тысячи, десятки тысячъ, но не помнитъ ни одной строки, которая выражала бы восторгъ, негодованіе или что-нибудь въ этомъ родѣ…
«И прочія чувства… — думалъ онъ. — Да нешто въ бумагахъ нужны чувства? Ихъ и безчувственный писать можетъ…»
Рожа юноши-критика опять выглянула изъ-за огненнаго знака и ехидно улыбнулась. Перекладинъ поднялся и сѣлъ на кровати. Голова его болѣла, на лбу выступилъ холодный потъ… Въ углу ласково теплилась лампадка, мебель глядѣла празднично, чистенько, отъ всего такъ и вѣяло тепломъ и присутствіемъ женской руки, но бѣдному чиношѣ было холодно, неуютно, точно онъ заболѣлъ тифомъ. Знакъ восклицательный стоялъ уже не въ закрытыхъ глазахъ, а передъ нимъ, въ комнатѣ, около женинаго туалета и насмѣшливо мигалъ ему…
— Пишущая машина! Машина! — шептало привидѣніе, дуя на чиновника сухимъ холодомъ. — Деревяжка безчувственная!
Чиновникъ укрылся одѣяломъ, но и подъ одѣяломъ онъ увидѣлъ привидѣніе; прильнулъ лицомъ къ жениному плечу, и изъ-за плеча торчало то же самое… Всю ночь промучился бѣдный Перекладинъ, но и днемъ не оставило его привидѣніе. Онъ видѣлъ его всюду: въ надѣваемыхъ сапогахъ, въ блюдечкѣ съ чаемъ, въ Станиславѣ…
«И прочія чувства… — думалъ онъ. — Это правда, что никакихъ чувствъ не было… Пойду сейчасъ къ начальству расписываться… а развѣ это съ чувствами дѣлается? Такъ, зря… Поздравительная машина…»
Когда Перекладинъ вышелъ на улицу и крикнулъ извозчика, то ему показалось, что вмѣсто извозчика подкатилъ восклицательный знакъ.
Придя въ переднюю начальника, онъ вмѣсто швейцара увидѣлъ тотъ же знакъ… И все это говорило ему о восторгѣ, негодованіи, гнѣвѣ… Ручка съ перомъ тоже глядѣла восклицательнымъ знакомъ. Перекладинъ взялъ ее, обмакнулъ перо въ чернила и расписался:
«Коллежскій секретарь Ефимъ Перекладинъ!!!»
И ставя эти три знака, онъ восторгался, негодовалъ, радовался, кипѣлъ гнѣвомъ.
— На́ тебѣ! На́ тебѣ! — бормоталъ онъ, надавливая на перо.
Огненный знакъ удовлетворился и исчезъ.
«Осколки», 1885, № 52.
Ну, публика!
— Шабашъ, не буду больше пить!… Ни… ни за что! Пора ужъ за умъ взяться. Надо работать, трудиться… Любишь жалованье получать, такъ работай честно, усердно, по совѣсти, пренебрегая покоемъ и сномъ. Баловство брось… Привыкъ, братъ, задаромъ жалованье получать, а это вотъ и не хорошо… и не хорошо…
Прочитавъ себѣ нѣсколько подобныхъ нравоученій, оберъ-кондукторъ Подтягинъ начинаетъ чувствовать непреодолимое стремленіе къ труду. Уже второй часъ ночи, но, несмотря на это, онъ будитъ кондукторовъ и вмѣстѣ съ ними идетъ по вагонамъ контролировать билеты.
— Вашш… билеты! — выкрикиваетъ онъ, весело пощелкивая щипчиками.
Сонныя фигуры, окутанныя вагоннымъ полумракомъ, вздрагиваютъ, встряхиваютъ головами и подаютъ свои билеты.
— Вашш… билеты! — обращается Подтягинъ къ пассажиру II класса, тощему, жилистому человѣку, окутанному въ шубу и одѣяло и окруженному подушками. — Вашш… билеты!
Жилистый человѣкъ не отвѣчаетъ. Онъ погруженъ въ сонъ. Оберъ-кондукторъ трогаетъ его за плечо и нетерпѣливо повторяетъ:
— Вашш… билеты!
Пассажиръ вздрагиваетъ, открываетъ глаза и съ ужасомъ глядитъ на Подтягина.
— Что? Кто? а?
— Вамъ говорятъ по-челаэчески: вашш… билеты! Па-атрудитесь!
— Боже мой! — стонетъ жилистый человѣкъ, дѣлая плачущее лицо. — Господи, Боже мой! Я страдаю ревматизмомъ… три ночи не спалъ, нарочно морфію принялъ, чтобъ уснуть, а вы… съ билетомъ! Вѣдь это безжалостно, безчеловѣчно! Если бы вы знали, какъ трудно мнѣ уснуть, то не стали бы безпокоить меня такой чепухой… Безжалостно, нелѣпо! И на что вамъ мой билетъ понадобился? Глупо даже!
Подтягинъ думаетъ, обидѣться ему, или нѣтъ, — и рѣшаетъ обидѣться.
— Вы здѣсь не кричите! Здѣсь не кабакъ! — говоритъ онъ.
— Да въ кабакѣ люди человѣчнѣй… — кашляетъ пассажиръ. — Изволь я теперь уснуть во второй разъ! И удивительное дѣло: всю заграницу объѣздилъ, и никто у меня тамъ билета не спрашивалъ, а тутъ, словно чортъ ихъ подъ локоть толкаетъ, то и дѣло, то и дѣло!…
— Ну, и поѣзжайте за границу, ежели вамъ тамъ нравится!
— Глупо, сударь! Да! Мало того, что морятъ пассажировъ угаромъ, духотой и сквознякомъ, такъ хотятъ еще, чортъ ее подери, формалистикой добить. Билетъ ему понадобился! Скажите, какое усердіе! Добро бы это для контроля дѣлалось, а то вѣдь половина поѣзда безъ билетовъ ѣдетъ!
— Послушайте, господинъ! — вспыхиваетъ Подтягинъ. — Вы извольте подтвердить ваши доводы! И ежели вы не перестанете кричать и безпокоить публику, то я принужденъ буду высадить васъ на станціи и составить актъ объ этомъ фактѣ!
— Это возмутительно! — негодуетъ публика. — Пристаетъ къ больному человѣку! Послушайте, да имѣйте же сожалѣніе!
— Да вѣдь они сами ругаются! — труситъ Подтягинъ. — Хорошо, я не возьму билета… Какъ угодно… Только вѣдь, сами знаете, служба моя этого требуетъ… Ежели бъ не служба, то, конечно… Можете даже начальника станціи спросить… Кого угодно спросите…
Подтягинъ пожимаетъ плечами и отходитъ отъ больного. Сначала онъ чувствуетъ себя обиженнымъ и нѣсколько третированнымъ, потомъ же, пройдя вагона два-три, онъ начинаетъ ощущать въ своей оберъ-кондукторской груди нѣкоторое безпокойство, похожее на угрызенія совѣсти.
«Дѣйствительно, не нужно было будить больного, — думаетъ онъ. — Впрочемъ, я не виноватъ… Они тамъ думаютъ, что это я съ жиру, отъ нечего дѣлать, а того не знаютъ, что этого служба требуетъ… Ежели они не вѣрятъ, такъ я могу къ нимъ начальника станціи привести».
Станція. Поѣздъ стоитъ пять минутъ. Передъ третьимъ звонкомъ въ описанный вагонъ II класса входитъ Подтягинъ. За нимъ шествуетъ начальникъ станціи, въ красной фуражкѣ.
— Вотъ этотъ господинъ, — начинаетъ Подтягинъ: — говорятъ, что я не имѣю полнаго права спрашивать съ нихъ билетъ, и… и обижаются. Прошу васъ, господинъ начальникъ станціи, объяснить имъ — по службѣ я требую билетъ, или зря? Господинъ, — обращается Подтягинъ къ жилистому человѣку. — Господинъ! Можете вотъ начальника станціи спросить, ежели мнѣ не вѣрите.
Больной вздрагиваетъ, словно ужаленный, открываетъ глаза и, сдѣлавъ плачущее лицо, откидывается на спинку дивана.
— Боже мой! Принялъ другой порошокъ и только-что задремалъ, какъ онъ опять… опять! Умоляю васъ, имѣйте вы сожалѣніе!
— Вы можете поговорить вотъ съ господиномъ начальникомъ станціи… Имѣю я полное право билетъ спрашивать, или нѣтъ!
— Это невыносимо! Нате вамъ вашъ билетъ! Нате! Я куплю еще пять билетовъ, только дайте мнѣ умереть спокойно! Неужели вы сами никогда не были больны! Безчувственный народъ!
— Это просто издѣвательство! — негодуетъ какой-то господинъ въ военной формѣ. — Иначе я не могу понять этого приставанья!
— Оставьте… — морщится начальникъ станціи, дергая Подтягина за рукавъ.
Подтягинъ пожимаетъ плечами и медленно уходитъ за начальникомъ станціи.
«Изволь тутъ угодить! — недоумѣваетъ онъ. — Я для него же позвалъ начальника станціи, чтобъ онъ понималъ, успокоился, а онъ… ругается».
Другая станція. Поѣздъ стоитъ десять минутъ. Передъ вторымъ звонкомъ, когда Подтягинъ стоитъ около буфета и пьетъ сельтерскую воду, къ нему подходятъ два господина, одинъ въ формѣ инженера, другой въ военномъ пальто.
— Послушайте, оберъ-кондукторъ! — обращается инженеръ къ Подтягину. — Ваше поведеніе по отношенію къ больному пассажиру возмутило всѣхъ очевидцевъ. Я инженеръ Пузицкій, это вотъ… господинъ полковникъ. Если вы не извинитесь передъ пассажиромъ, то мы подадимъ жалобу начальнику движенія, нашему общему знакомцу.
— Господа, да вѣдь я… да вѣдь вы… — оторопѣлъ Подтягинъ.
— Объясненій намъ не надо. Но предупреждаемъ, если не извинитесь, то мы беремъ пассажира подъ свою защиту.
— Хорошо, я… я, пожалуй, извинюсь… Извольте… Черезъ полчаса Подтягинъ, придумавъ извинительную фразу, которая бы удовлетворила пассажира и не умалила его достоинства, входитъ въ вагонъ.
— Господинъ! — обращается онъ къ больному. — Послушайте, господинъ!
Больной вздрагиваетъ и вскакиваетъ.
— Что?
— Я тово… какъ его?… Вы не обижаетесь…
— Охъ… воды… — задыхается больной, хватаясь за сердце. — Третій порошокъ морфія принялъ, задремалъ и… опять! Боже, когда же, наконецъ, кончится эта пытка?
— Я тово… Вы извините…
— Слушайте… Высадите меня на слѣдующей станціи… Болѣе терпѣть я не въ состояніи… Я… я умираю…
— Это подло, гадко! — возмущается публика. — Убирайтесь вонъ отсюда! Вы поплатитесь за подобное издѣвательство! Вонъ!
Подтягинъ машетъ рукой, вздыхаетъ и выходитъ изъ вагона. Идетъ онъ въ служебный вагонъ, садится изнеможенный за столъ и жалуется:
«Ну, публика! Извольте вотъ ей угодить! Извольте вотъ служить, трудиться! Поневолѣ плюнешь на все и запьешь… Ничего не дѣлаешь — сердятся, начнешь дѣлать — тоже сердятся… Выпить!»
Подтягинъ выпиваетъ сразу полбутылки и больше уже не думаетъ о трудѣ, долгѣ и честности.
«Осколки», 1885, № 48.
Пересолилъ.
Землемѣръ Глѣбъ Гавриловичъ Смирновъ пріѣхалъ на станцію «Гнилушки». До усадьбы, куда онъ былъ вызванъ для межеванія, оставалось еще проѣхать на лошадяхъ верстъ тридцать-сорокъ. (Ежели возница не пьянъ и лошади не клячи, то и тридцати верстъ не будетъ, а коли возница съ мухой да кони наморены, то цѣлыхъ пятьдесятъ наберется).
— Скажите, пожалуйста, гдѣ я могу найти здѣсь почтовыхъ лошадей? — обратился землемѣръ къ станціонному жандарму.
— Которыхъ? Почтовыхъ? Тутъ за сто верстъ путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовыхъ… Да вамъ куда ѣхать?
— Въ Дѣвкино, имѣніе генерала Хохотова.
— Что жъ? — зѣвнулъ жандармъ. — Ступайте за станцію, тамъ на дворѣ иногда бываютъ мужики, возятъ пассажировъ.
Землемѣръ вздохнулъ и поплелся за станцію. Тамъ, послѣ долгихъ поисковъ, разговоровъ и колебаній, онъ нашелъ здоровеннѣйшаго мужика, угрюмаго, рябого, одѣтаго въ рваную сермягу и лапти.
— Чортъ знаетъ, какая у тебя телѣга! — поморщился землемѣръ, влѣзая въ телѣгу. — Не разберешь, гдѣ у нея задъ, гдѣ передъ…
— Что жъ тутъ разбирать-то? Гдѣ лошадиный хвостъ, тамъ передъ, а гдѣ сидитъ ваша милость, тамъ задъ…
Лошаденка была молодая, но тощая, съ растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнулъ ее веревочнымъ кнутомъ, она только замотала головой, когда же онъ выбранился и стегнулъ ее еще разъ, то телѣга взвизгнула и задрожала, какъ въ лихорадкѣ. Послѣ третьяго удара телѣга покачнулась, послѣ же четвертаго она тронулась съ мѣста.
— Этакъ мы всю дорогу поѣдемъ? — спросилъ землемѣръ, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русскихъ возницъ соединять тихую, черепашью ѣзду съ душу выворачивающей тряской.
— До-о-ѣдемъ! — успокоилъ возница. — Кобылка молодая, шустрая… Дай ей только разбѣжаться, такъ потомъ и не остановишь… Но-о-о, прокля…тая!
Когда телѣга выѣхала со станціи, были сумерки. Направо отъ землемѣра тянулась темная, замерзшая равнина, безъ конца и краю… Поѣдешь по ней, такъ навѣрно заѣдешь къ чорту на кулички. На горизонтѣ, гдѣ она исчезала и сливалась съ небомъ, лѣниво догорала холодная осенняя заря… Налѣво отъ дороги въ темнѣющемъ воздухѣ высились какіе-то бугры, не то прошлогодніе стоги, не то деревня. Что было впереди, землемѣръ не видѣлъ, ибо съ этой стороны все поле зрѣнія застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно.
«Какая, однако, здѣсь глушь! — думалъ землемѣръ, стараясь прикрыть свои уши воротникомъ отъ шинели. — Ни кола, ни двора. Не ровенъ часъ — нападутъ и ограбятъ, такъ никто и не узнаетъ, хоть изъ пушекъ пали… Да и возница ненадежный… Ишь, какая спинища! Этакое дитя природы пальцомъ тронетъ, такъ душа вонъ! И морда у него звѣрская, подозрительная».
— Эй, милый, — спросилъ землемѣръ: — какъ тебя зовутъ?
— Меня-то? Климъ.
— Что, Климъ, какъ у васъ здѣсь? Не опасно? Не шалятъ?
— Ничего, Богъ миловалъ… Кому жъ шалить?
— Это хорошо, что не шалятъ… Но на всякій случай все-таки я взялъ съ собой три револьвера, — совралъ землемѣръ. — А съ револьверомъ, знаешь, шутки плохи. Съ десятью разбойниками можно справиться…
Стемнѣло. Телѣга вдругъ заскрипѣла, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налѣво.
«Куда же это онъ меня повезъ? — подумалъ землемѣръ. — ѣхалъ все прямо и вдругъ налѣво. Чего добраго, завезетъ, подлецъ, въ какую-нибудь трущобу и… и… Бываютъ вѣдь случаи!»
— Послушай, — обратился онъ къ возницѣ. — Такъ ты говоришь, что здѣсь не опасно? Это жаль… Я люблю съ разбойниками драться… На видъ-то я худой, болѣзненный, а силы у меня, словно у быка… Однажды напало на меня три разбойника… Такъ что жъ ты думаешь? Одного я такъ тряхнулъ, что… что, понимаешь, Богу душу отдалъ, а два другіе изъ-за меня въ Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю… Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, въ родѣ тебя, и… и сковырнешь.
Климъ оглянулся на землемѣра, заморгалъ всѣмъ лицомъ и стегнулъ по лошаденкѣ.
— Да, братъ… — продолжалъ землемѣръ. — Не дай Богъ со мной связаться. Мало того, что разбойникъ безъ рукъ, безъ ногъ останется, но еще и передъ судомъ отвѣтитъ… Мнѣ всѣ судьи и исправники знакомы. Человѣкъ я казенный, нужный… Я вотъ ѣду, а начальству извѣстно… такъ и глядитъ, чтобъ мнѣ кто-нибудь худа не сдѣлалъ. Вездѣ по дорогѣ за кустиками урядники да сотскіе понатыканы… По… по… постой! — заоралъ вдругъ землемѣръ. — Куда же это ты въѣхалъ? Куда ты меня везешь?
— Да нешто не видите? Лѣсъ!
«Дѣйствительно, лѣсъ… — подумалъ землемѣръ. — А я-то испугался! Однако, не нужно выдавать своего волненія… Онъ уже замѣтилъ, что я трушу. Отчего это онъ сталъ такъ часто на меня оглядываться? Навѣрное, замышляетъ что-нибудь… Раньше ѣхалъ еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь какъ мчится!»
— Послушай, Климъ, зачѣмъ ты такъ гонишь лошадь?
— Я ее не гоню. Сама разбѣжалась… Ужъ какъ разбѣжится, такъ никакимъ средствіемъ ее не остановишь… И сама она не рада, что у нея ноги такія.
— Врешь, братъ! Вижу, что врешь! Только я тебѣ не совѣтую такъ быстро ѣхать. Попридержи-ка лошадь… Слышишь? Попридержи!
— Зачѣмъ?
— А затѣмъ… затѣмъ, что за мной со станціи должны выѣхать четыре товарища. Надо, чтобъ они насъ догнали… Они обѣщали догнать меня въ этомъ лѣсу… Съ ними веселѣй будетъ ѣхать… Народъ здоровый, коренастый… у каждаго по пистолету… Что это ты все оглядываешься и движешься, какъ на иголкахъ? а? Я, братъ, тово… братъ… На меня нечего оглядываться… интереснаго во мнѣ ничего нѣтъ… Развѣ вотъ револьверы только… Изволь, если хочешь, я ихъ выну, покажу… Изволь…
Землемѣръ сдѣлалъ видъ, что роется въ карманахъ, и въ это время случилось то, чего онъ не могъ ожидать при всей своей трусости. Климъ вдругъ вывалился изъ телѣги и на четверенькахъ побѣжалъ къ чащѣ.
— Караулъ! — заголосилъ онъ. — Караулъ! Бери, окаянный, и лошадь, и телѣгу, только не губи ты моей души! Караулъ!
Послышались скорые, удаляющіеся шаги, трескъ хвороста — и все смолкло… Землемѣръ, не ожидавшій такого реприманда, первымъ дѣломъ остановилъ лошадь, потомъ усѣлся поудобнѣй на телѣгѣ и сталъ думать.
«Убѣжалъ… испугался, дуракъ… Ну, какъ теперь быть? Самому продолжать путъ нельзя, потому что дороги не знаю, да и могутъ подумать, что я у него лошадь укралъ… Какъ быть?» — Климъ! Климъ!
— Климъ!… — отвѣтило эхо.
Отъ мысли, что ему всю ночь придется просидѣть въ темномъ лѣсу на холодѣ и слышать только волковъ, эхо да фырканье тощей кобылки, землемѣра стало коробить вдоль спины, словно холоднымъ терпугомъ.
— Климушка! — закричалъ онъ. — Голубчикъ! Гдѣ ты, Климушка?
Часа два кричалъ землемѣръ, и только послѣ того, какъ онъ охрипъ и помирился съ мыслью о ночевкѣ въ лѣсу, слабый вѣтерокъ донесъ до него чей-то стонъ.
— Климъ! Это ты, голубчикъ? Поѣдемъ!
— У…убьешь!
— Да я пошутилъ, голубчикъ! Накажи меня Господь, пошутилъ! Какіе у меня револьверы? Это я отъ страха вралъ! Сдѣлай милость, поѣдемъ! Мерзну!
Климъ, сообразивъ, вѣроятно, что настоящій разбойникъ давно бы ужъ исчезъ съ лошадью и телѣгой, вышелъ изъ лѣсу и нерѣшительно подошелъ къ своему пассажиру.
— Ну, чего, дура, испугался? Я… я пошутилъ, а ты испугался… Садись!
— Богъ съ тобой, баринъ, — проворчалъ Климъ, влѣзая въ телѣгу. — Если бъ зналъ, и за сто цѣлковыхъ не повезъ бы. Чуть я не померъ отъ страха…
Климъ стегнулъ по лошаденкѣ. Телѣга задрожала. Климъ стегнулъ еще разъ, и телѣга покачнулась. Послѣ четвертаго удара, когда телѣга тронулась съ мѣста, землемѣръ закрылъ уши воротникомъ и задумался. Дорога и Климъ ему уже не казались опасными.
«Осколки», 1885, № 46.
Налимъ.
Лѣтнее утро. Въ воздухѣ тишина; только поскрипываетъ на берегу кузнечикъ, да гдѣ-то робко мурлыкаетъ орличка. На небѣ неподвижно стоятъ перистыя облака, похожія на разсыпанный снѣгъ… Около строящейся купальни, подъ зелеными вѣтвями ивняка, барахтается въ водѣ плотникъ Герасимъ, высокій, тощій мужикъ съ рыжей курчавой головой и съ лицомъ, поросшимъ волосами. Онъ пыхтитъ, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то изъ-подъ корней ивняка. Лицо его покрыто потомъ. На сажень отъ Герасима, по горло въ водѣ, стоитъ плотникъ Любимъ, молодой горбатый мужикъ съ треугольнымъ лицомъ и съ узкими, китайскими глазками. Какъ Герасимъ, такъ и Любимъ, оба въ рубахахъ и портахъ. Оба посинѣли отъ холода, потому что ужъ больше часа сидятъ въ водѣ…
— Да что ты все рукой тычешь? — кричитъ горбатый Любимъ, дрожа какъ въ лихорадкѣ. — Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдетъ, анаѳема! Держи, говорю!
— Не уйдетъ… Куда ему уйтить? Онъ подъ корягу забился… — говоритъ Герасимъ охрипшимъ, глухимъ басомъ, идущимъ не изъ гортани, а изъ глубины живота. — Скользкій, шутъ, и ухватить не за что.
— Ты за зебры хватай, за зебры!
— Не видать жабровъ-то… Постой, ухватилъ за что-то… За губу ухватилъ… Кусается, шутъ!
— Не тащи за губу, не тащи — выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай! Опять почалъ рукой тыкать! Да и безпонятный же мужикъ, прости Царица Небесная! Хватай!
— «Хватай»… — дразнитъ Герасимъ. — Командеръ какой нашелся… Шелъ бы да и хваталъ бы самъ, горбатый чортъ… Чего стоишь?
— Ухватилъ бы я, коли бъ можно было… Нешто при моей низкой комплекцыи можно подъ берегомъ стоять? Тамъ глыбоко!
— Ничего, что глыбоко… Ты вплавь…
Горбачъ взмахиваетъ руками, подплываетъ къ Герасиму и хватается за вѣтки. При первой же попыткѣ стать на ноги, онъ погружается съ головой и пускаетъ пузыри.
— Говорилъ же, что глыбоко! — говоритъ онъ, сердито вращая бѣлками. — На шею тебѣ сяду, что ли?
— А ты на корягу стань… Корягъ много, словно лѣстница… Горбачъ нащупываетъ пяткой корягу и, крѣпко ухватившись сразу за нѣсколько вѣтокъ, становится на нее… Совладавши съ равновѣсіемъ и укрѣпившись на новой позиціи, онъ изгибается и, стараясь не набрать въ ротъ воды, начинаетъ правой рукой шарить между корягами. Путаясь въ водоросляхъ, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакиваетъ на колючія клешни рака.
— Тебя еще тутъ, чорта не видали! — говоритъ Любимъ и со злобой выбрасываетъ на берегъ рака.
Наконецъ, рука его нащупываетъ руку Герасима и, спускаясь по ней, доходитъ до чего-то склизкаго, холоднаго.
— Во-отъ онъ!… — улыбается Любимъ. — Зда-аровый, шутъ… Оттопырь-ка пальцы, я его сичасъ… за зебры… Постой, не толкай локтемъ… я его сичасъ… сичасъ… дай только взяться… Далече, шутъ, подъ корягу забился, не за что и ухватиться… Не доберешься до головы… Пузо одно только и слыхать… Убей мнѣ на шеѣ комара — жжетъ! Я сичасъ… подъ зебры его… Заходи сбоку, пхай его, пхай! Шпыняй его пальцемъ!
Горбачъ, надувъ щеки, притаивъ дыханіе, вытаращиваетъ глаза и, повидимому, уже залѣзаетъ пальцами «подъ зебры», но тутъ вѣтки, за которыя цѣпляется его лѣвая рука, обрываются, и онъ, потерявъ равновѣсіе, — бултыхъ въ воду! Словно испуганные, бѣгутъ отъ берега волнистые круги и на мѣстѣ паденія вскакиваютъ пузыри. Горбачъ выплываетъ и, фыркая, хватается за вѣтки.
— Утонешь еще, чортъ, отвѣчать за тебя придется!… — хрипитъ Герасимъ. — Вылазь, ну тя къ лѣшему! Я самъ вытащу!
Начинается ругань… А солнце печетъ и печетъ. Тѣни становятся короче и уходятъ въ самихъ себя, какъ рога улитки… Высокая трава, пригрѣтая солнцемъ, начинаетъ испускать изъ себя густой, приторно-медовый запахъ. Ужъ скоро полдень, а Герасимъ и Любимъ все еще барахтаются подъ ивнякомъ. Хриплый басъ и озябшій, визгливый теноръ неугомонно нарушаютъ тишину лѣтняго дня.
— Тащи его за зебры, тащи! Постой, я его выпихну! Да куда суешься-то съ кулачищемъ? Ты пальцемъ, а не кулакомъ, рыло! Заходи сбоку! Слѣва заходи, слѣва, а то вправѣ колдобина! Угодишь къ лѣшему на ужинъ! Тяни за губу!
Слышится хлопанье бича… По отлогому берегу къ водопою лѣниво плетется стадо, гонимое пастухомъ Ефимомъ. Пастухъ, дряхлый старикъ съ однимъ глазомъ и покривившимся ртомъ, идетъ, понуря голову, и глядитъ себѣ подъ ноги. Первыми подходятъ къ водѣ овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы.
— Потолкай его изъ-подъ низу! — слышитъ онъ голосъ Любима. — Просунь палецъ! Да ты глухой, чо-ортъ, что ли? Тьфу!
— Кого это вы, братцы? — кричитъ Ефимъ.
— Налима! Никакъ не вытащимъ! Подъ корягу забился! Заходи сбоку! Заходи, заходи!
Ефимъ минуту щуритъ свой глазъ на рыболововъ, затѣмъ снимаетъ лапти, сбрасываетъ съ плечъ мѣшочекъ и снимаетъ рубаху. Сбросить порты не хватаетъ у него терпѣнія, и онъ, перекрестясь, балансируя худыми, темными руками, лѣзетъ въ портахъ въ воду… Шаговъ пятьдесятъ онъ проходитъ по илистому дну, но затѣмъ пускается вплавь.
— Постой, ребятушки! — кричитъ онъ. — Постой! Не вытаскивайте его зря, упустите. Надо умѣючи!…
Ефимъ присоединяется къ плотникамъ, и всѣ трое, толкая другъ друга локтями и колѣнями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одномъ мѣстѣ… Горбатый Любимъ захлебывается, и воздухъ оглашается рѣзкимъ, судорожнымъ кашлемъ.
— Гдѣ пастухъ? — слышится съ берега крикъ; — Ефи-имъ! Пастухъ! Гдѣ ты? Стадо въ садъ полѣзло! Гони, гони изъ саду! Гони! Да гдѣ жъ онъ, старый разбойникъ?
Слышатся мужскіе голоса, затѣмъ женскій… Изъ-за рѣшётки барскаго сада показывается баринъ Андрей Андреичъ въ халатѣ изъ персидской шали и съ газетой въ рукѣ… Онъ смотритъ вопросительно по направленію криковъ, несущихся съ рѣки, и потомъ быстро сѣменитъ къ купальнѣ…
— Что здѣсь? Кто оретъ? — спрашиваетъ онъ строго, увидавъ сквозь вѣтви ивняка три мокрыя головы рыболововъ. — Что вы здѣсь копошитесь?
— Ры… рыбку ловимъ… — лепечетъ Ефимъ, не поднимая головы.
— А вотъ я тебѣ задамъ рыбку! Стадо въ садъ полѣзло, а онъ рыбку!… Когда же купальня будетъ готова, черти? Два дня какъ работаете, а гдѣ ваша работа?
— Бу… будетъ готова… — кряхтитъ Герасимъ. — Лѣто велико, успѣешь еще, вашескородіе, помыться… Пфррр… Никакъ вотъ тутъ съ налимомъ не управимся… Забрался подъ корягу и словно въ норѣ: ни туда, ни сюда…
— Налимъ? — спрашиваетъ баринъ и глаза его подергиваются лакомъ. — Такъ тащите его скорѣй!
— Ужо дашь полтинничекъ… Удружимъ ежели… Здоровенный налимъ; что твоя купчиха… Стоитъ, вашескородіе, полтинникъ… за труды… Не мни его, Любимъ, не мни, а то замучишь! Подпирай снизу! Тащи-ка корягу кверху, добрый человѣкъ… какъ тебя? Кверху, а не книзу, дьяволъ! Не болтайте ногами!
Проходитъ пять минутъ, десять… Барину становится невтерпежъ.
— Василій! — кричитъ онъ, повернувшись къ усадьбѣ. — Васька! Позовите ко мнѣ Василія!
Прибѣгаетъ кучеръ Василій. Онъ что-то жуетъ и тяжело дышитъ.
— Полѣзай въ воду, — приказываетъ ему баринъ: — помоги имъ вытащить налима… Налима не вытащатъ!
Василій быстро раздѣвается и лѣзетъ въ воду.
— Я сичасъ… — бормочетъ онъ. — Гдѣ налимъ? Я сичасъ… Мы это мигомъ! А ты бы ушелъ, Ефимъ! Нечего тебѣ тутъ, старому человѣку, не въ свое дѣло мѣшаться! Который тутъ налимъ? Я его сичасъ… Вотъ онъ! Пустите руки!
— Да чего пустите руки? Сами знаемъ: пустите руки! А ты вытащи!
— Да нешто его такъ вытащишь? Надо за голову!
— А голова подъ корягой! Знамо дѣло, дуракъ!
— Ну, не лай, а то влетитъ! Сволочь!
— При господинѣ баринѣ и такія слова… — лепечетъ Ефимъ. — Не вытащите вы, братцы! Ужъ больно ловко онъ засѣлъ туда!
— Погодите, я сейчасъ… — говоритъ баринъ и начинаетъ торопливо раздѣваться. — Четыре васъ дурака, и налима вытащить не можете!
Раздѣвшись, Андрей Андреичъ даетъ себѣ остынуть и лѣзетъ въ воду. Но и его вмѣшательство не ведетъ ни къ чему.
— Подрубитъ корягу надо! — рѣшаетъ, наконецъ, Любимъ. — Герасимъ, сходи за топоромъ! Топоръ подайте!
— Пальцевъ-то себѣ не отрубите! — говоритъ баринъ, когда слышатся подводные удары топора о корягу. — Ефимъ, пошелъ вонъ отсюда! Постойте, я налима вытащу… Вы не тово…
Коряга подрублена. Ее слегка надламываютъ, и Андрей Андреичъ, къ великому своему удовольствію, чувствуетъ, какъ его пальцы лѣзутъ налиму подъ жабры.
— Тащу, братцы! Не толпитесь… стойте… тащу!
На поверхности показывается большая налимья голова и за нею черное, аршинное тѣло. Налимъ тяжело ворочаетъ хвостомъ и старается вырваться.
— Шалишь… Дудки, братъ. Попался? Ага!
По всѣмъ лицамъ разливается медовая улыбка. Минута проходитъ въ молчаливомъ созерцаніи.
— Знатный налимъ! — лепечетъ Ефимъ, почесывая подъ ключицами. — Чай, фунтовъ десять будетъ…
— Нда… — соглашается баринъ. — Печенка-то такъ и отдувается. Такъ и претъ ее изъ нутра. А… ахъ!
Налимъ вдругъ неожиданно дѣлаетъ рѣзкое движеніе хвостомъ вверхъ и рыболовы слышатъ сильный плескъ… Всѣ растопыриваютъ руки, но уже поздно: налимъ — поминай какъ звали.
«Петербургская газета», 1885, № 177.
Хамелеонъ.
Черезъ базарную площадь идетъ полицейскій надзиратель Очумѣловъ въ новой шинели и съ узелкомъ въ рукѣ. За нимъ шагаетъ рыжій городовой съ рѣшетомъ, до верху наполненнымъ конфискованнымъ крыжовникомъ. Кругомъ тишина… На площади ни души… Открытыя двери лавокъ и кабаковъ глядятъ на свѣтъ Божій уныло, какъ голодныя пасти; около нихъ нѣтъ даже нищихъ.
— Такъ ты кусаться, окаянная! — слышитъ вдругъ Очумѣловъ. — Ребята не пущай ее! Нынче не велѣно, кусаться! Держи! А… а!
Слышенъ собачій визгъ. Очумѣловъ глядитъ въ сторону и видитъ: изъ дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трехъ ногахъ и оглядываясь, бѣжитъ собака. За ней гонится человѣкъ въ ситцевой крахмальной рубахѣ и разстегнутой жилеткѣ. Онъ бѣжитъ за ней и, подавшись туловищемъ впередъ, падаетъ на землю и хватаетъ собаку за заднія лапы. Слышенъ вторично собачій визгъ и крикъ: «Не пущай!» Изъ лавокъ высовываются сонныя физіономіи и скоро около дровяного склада, словно изъ земли выросши, собирается толпа.
— Никакъ безпорядокъ, ваше благородіе!… — говоритъ городовой.
Очумѣловъ дѣлаетъ полуоборотъ налѣво и шагаетъ къ сборищу. Около самыхъ воротъ склада, видитъ онъ, стоитъ вышеписанный человѣкъ въ разстегнутой жилеткѣ и, поднявъ вверхъ правую руку, показываетъ толпѣ окровавленный палецъ. На полупьяномъ лицѣ его какъ бы написано: «Ужо я сорву съ тебя, шельма!» да и самый палецъ имѣетъ видъ знаменія побѣды. Въ этомъ человѣкѣ Очумѣловъ узнаетъ золотыхъ дѣлъ мастера Хрюкина. Въ центрѣ толпы, растопыривъ переднія ноги и дрожа всѣмъ тѣломъ, сидитъ на землѣ самъ виновникъ скандала — бѣлый борзой щенокъ съ острой мордой и желтымъ пятномъ на спинѣ. Въ слезящихся глазахъ его выраженіе тоски и ужаса.
— По какому это случаю тутъ? — спрашиваетъ Очумѣловъ, врѣзываясь въ толпу. — Почему тутъ? Это ты зачѣмъ палецъ?… Кто кричалъ?
— Иду я, ваше благородіе, никого не трогаю… — начинаетъ Хрюкинъ, кашляя въ кулакъ: — насчетъ дровъ съ Митрій Митричемъ, — и вдругъ эта подлая ни съ того, ни съ сего за палецъ… Вы меня извините, я человѣкъ, который работающій… Работа у меня мелкая. Пущай мнѣ заплатятъ, потому — я этимъ пальцемъ, можетъ, недѣлю не пошевельну… Этого, ваше благородіе, и въ законѣ нѣтъ, чтобъ отъ твари терпѣть… Ежели каждый будетъ кусаться, то лучше и не жить на свѣтѣ…
— Гм!… Хорошо… — говоритъ Очумѣловъ строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо… Чья собака? Я этого такъ не оставлю. Я покажу вамъ, какъ собакъ распускать! Пора обратить вниманіе на подобныхъ господъ, не желающихъ подчиняться постановленіямъ! Какъ оштрафуютъ его, мерзавца, такъ онъ узнаетъ у меня, что значитъ собака и прочій бродячій скотъ! Я ему покажу Кузькину мать!… Елдыринъ, — обращается надзиратель къ городовому: — узнай, чья это собака, и составляй протоколъ! А собаку истребить надо. Не медля! Она навѣрное бѣшеная… Чья это собака, спрашиваю?
— Это, кажись, генерала Жигалова! — говоритъ кто-то изъ толпы.
— Генерала Жигалова? Гм!… Сними-ка, Елдыринъ, съ меня пальто… Ужасъ, какъ жарко! Должно полагать, передъ дождемъ… Одного только я не понимаю: какъ она могла тебя укусить? — обращается Очумѣловъ къ Хрюкину. — Нешто она достанетъ до пальца? Она маленькая, а ты вѣдь вонъ какой здоровила! Ты, должно-бытъ, расковырялъ палецъ гвоздикомъ, а потомъ и пришла въ твою голову идея, чтобъ сорвать. Ты вѣдь… извѣстный народъ! Знаю васъ, чертей!
— Онъ, ваше благородіе, цыгаркой ей въ харю для смѣха, а она, не будь дура, и тяпни… Вздорный человѣкъ, ваше благородіе!
— Врешь, кривой! Не видалъ, такъ, стало-быть, зачѣмъ врать? Ихъ благородіе умный господинъ и понимаютъ, ежели кто вретъ, а кто по совѣсти, какъ передъ Богомъ… А ежели я вру, такъ пущай мировой разсудитъ. У него въ законѣ сказано… Нынче всѣ равны… У меня у самого братъ въ жандармахъ… ежели хотите знать…
— Не разсуждать!
— Нѣтъ, это не генеральская… — глубокомысленно замѣчаетъ городовой. — У генерала такихъ нѣтъ. У него все больше лягавыя…
— Ты это вѣрно знаешь?
— Вѣрно, ваше благородіе…
— Я и самъ знаю. У генерала собаки дорогія, породистыя, а это — чортъ знаетъ что! Ни шерсти, ни вида… подлость одна только… И этакую собаку держать?!… Гдѣ же у васъ умъ? Попадись этакая собака въ Петербургѣ или Москвѣ, то знаете, что было бы. Тамъ не посмотрѣли бы въ законъ, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкинъ, пострадалъ и дѣла этого такъ не оставляй… Нужно проучить! Пора…
— А, можетъ-быть, и генеральская… — думаетъ вслухъ городовой. — На мордѣ у ней не написано… Намедни во дворѣ у него такую видѣлъ.
— Вѣстимо, генеральская! — говоритъ голосъ изъ толпы.
— Гм!… Надѣнь-ка, братъ Елдыринъ, на меня пальто… Что-то вѣтромъ подуло… Знобитъ… Ты отведешь ее къ генералу и спросишь тамъ. Скажешь, что я нашелъ и прислалъ… И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу… Она, можетъ-быть, дорогая, а ежели каждый свинья будетъ ей въ носъ сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нѣжная тварь… А ты, болванъ, опусти руку! Нечего свой дурацкій палецъ выставлять! Самъ виноватъ!…
— Поваръ генеральскій идетъ, его спросимъ… Эй, Прохоръ! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку… Ваша?
— Выдумалъ! Этакихъ у насъ отродясь не бывало!
— И спрашивать тутъ долго нечего, — говоритъ Очумѣловъ. — Она бродячая! Нечего тутъ долго разговаривать… Ежели сказалъ, что бродячая, стало-быть и бродячая… Истребить, вотъ и все.
— Это не наша, — продолжаетъ Прохоръ. — Это генералова брата, что намеднись пріѣхалъ. Нашъ не охотникъ до борзыхъ. Братъ ихній охочъ…
— Да развѣ братецъ ихній пріѣхали? Владиміръ Иванычъ? — спрашиваетъ Очумѣловъ, и все лицо его заливается улыбкой умиленія. — Ишь ты, Господи! А я и не зналъ! Погостить пріѣхали?
— Въ гости…
— Ишь ты, Господи… Соскучились по братцѣ… А я вѣдь и не зналъ! Такъ это ихняя собачка? Очень радъ… Возьми ее… Собачонка ничего себѣ… Шустрая такая… Цапъ этого за палецъ! Ха-ха-ха… Ну, чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится шельма… цуцыкъ этакій…
Прохоръ зоветъ собаку и идетъ съ ней отъ дровяного склада… Толпа хохочетъ надъ Хрюкинымъ.
— Я еще доберусь до тебя! — грозитъ ему Очумѣловъ и, запахиваясь въ шинель, продолжаетъ свой путь по базарной площади.
«Осколки», 1884, № 36.
Клевета.
Учитель чистописанія Сергѣй Капитонычъ Ахинеевъ выдавалъ свою дочку Наталью за учителя исторіи и географіи Ивана Петровича Лошадиныхъ. Свадебное веселье текло, какъ по маслу. Въ залѣ пѣли, играли, плясали. По комнатамъ, какъ угорѣлые, сновали взадъ и впередъ взятые на прокатъ изъ клуба лакеи въ черныхъ фракахъ и бѣлыхъ запачканныхъ галстукахъ. Стоялъ шумъ и говоръ. Учитель математики Тарантуловъ, французъ Падекуа и младшій ревизоръ контрольной палаты Егоръ Венедиктычъ Мзда, сидя рядомъ на диванѣ, спѣша и перебивая другъ друга, разсказывали гостямъ случаи погребенія заживо и высказывали свое мнѣніе о спиритизмѣ. Всѣ трое не вѣрили въ спиритизмъ, но допускали, что на этомъ свѣтѣ есть много такого, чего никогда не постигнетъ умъ человѣческій. Въ другой комнатѣ учитель словесности Додонскій объяснялъ гостямъ случаи, когда часовой имѣетъ право стрѣлять въ проходящихъ. Разговоры были, какъ видите, страшные, но весьма пріятные. Въ окна со двора засматривали люди, по своему соціальному положенію не имѣвшіе права войти внутрь.
Ровно въ полночь хозяинъ Ахинеевъ прошелъ въ кухню поглядѣть, все ли готово къ ужину. Въ кухнѣ отъ пола до потолка стоялъ дымъ, состоявшій изъ гусиныхъ, утиныхъ и многихъ другихъ запаховъ. На двухъ столахъ были разложены и разставлены въ художественномъ безпорядкѣ атрибуты закусокъ и выпивокъ. Около столовъ суетилась кухарка Марѳа, красная баба съ двойнымъ перетянутымъ животомъ.
— Покажи-ка мнѣ, матушка, осетра! — сказалъ Ахинеевъ, потирая руки и облизываясь. — Запахъ-то какой, міазма какая! Такъ бы и съѣлъ всю кухню! Нуко-ся, покажи осетра!
Марѳа подошла къ одной изъ скамей и осторожно приподняла засаленный газетный листъ. Подъ этимъ листомъ, на огромнѣйшемъ блюдѣ, покоился большой заливной осетръ, пестрѣвшій каперсами, оливками и морковкой. Ахинеевъ поглядѣлъ на осетра и ахнулъ. Лицо его просіяло, глаза подкатились. Онъ нагнулся и издалъ губами звукъ неподмазаннаго колеса. Постоявъ немного, онъ щелкнулъ отъ удовольствія пальцами и еще разъ чмокнулъ губами.
— Ба! Звукъ горячаго поцѣлуя… Ты съ кѣмъ это здѣсь цѣлуешься, Марѳуша? — послышался голосъ изъ сосѣдней комнаты, и въ дверяхъ показалась стриженая голова помощника классныхъ наставниковъ, Ванькина. — Съ кѣмъ это ты? А-а-а… очень пріятно! Съ Сергѣй Капитонычемъ! Хорошъ дѣдъ, нечего сказать! Съ женскимъ полонезомъ тетъ-а-тетъ!
— Я вовсе не цѣлуюсь, — сконфузился Ахинеевъ: — кто тебѣ, дураку, сказалъ? Это я тово… губами чмокнулъ въ отношеніи… въ разсужденіи удовольствія… При видѣ рыбы…
— Разсказывай!
Голова Ванькина широко улыбнулась и скрылась за дверью. Ахинеевъ покраснѣлъ.
«Чортъ знаетъ что! — подумалъ онъ. — Пойдетъ теперь, мерзавецъ, и насплетничаетъ. На весь городъ осрамитъ, скотина»…
Ахинеевъ робко вошелъ въ залу и искоса поглядѣлъ въ сторону: гдѣ Ванькинъ? Ванькинъ стоялъ около фортепіано и, ухарски изогнувшись, шепталъ что-то смѣявшейся свояченицѣ инспектора.
«Это про меня! — подумалъ Ахинеевъ. — Про меня, чтобъ его разорвало! А та и вѣритъ… и вѣритъ! Смѣется! Боже ты мой! Нѣтъ, такъ нельзя оставить… нѣтъ… Нужно будетъ сдѣлать, чтобъ ему не повѣрили… Поговорю со всѣми съ ними, и онъ же у меня въ дуракахъ-сплетникахъ останется»
Ахинеевъ почесался и, не переставая конфузиться, подошелъ къ Падекуа.
— Сейчасъ я въ кухнѣ былъ и насчетъ ужина распоряжался, — сказалъ онъ французу. — Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батенька, осетръ, вво! Въ два аршина! Хе-хе-хе… Да, кстати… чуть было не забылъ… Въ кухнѣ-то сейчасъ, съ осетромъ съ этимъ — сущій анекдотъ! Вхожу я сейчасъ въ кухню и хочу кушанья оглядѣть… Гляжу на осетра и отъ удовольствія… отъ пикантности губами чмокъ! А въ это время вдругъ дуракъ этотъ Ванькинъ входитъ и говоритъ… ха-ха-ха… и говоритъ: «А-а-а… вы цѣлуетесь здѣсь?» Съ Марѳой-то, съ кухаркой! Выдумалъ же, глупый человѣкъ! У бабы ни рожи, ни кожи, на всѣхъ звѣрей похожа, а онъ… цѣловаться! Чудакъ!
— Кто чудакъ? — спросилъ подошедшій Тарантуловъ.
— Да вонъ тотъ, Ванькинъ! Вхожу это я въ кухню… и онъ разсказалъ про Ванькина.
— Насмѣшилъ, чудакъ! А по-моему, пріятнѣй съ барбосомъ цѣловаться, чѣмъ съ Марѳой, — прибавилъ Ахинеевъ, оглянулся и увидѣлъ сзади себя Мзду.
— Мы насчетъ Ванькина, — сказалъ онъ ему. — Чудачина! Входитъ это въ кухню, увидѣлъ меня рядомъ съ Марѳой, да и давай штуки разныя выдумывать. «Чего, говоритъ, вы цѣлуетесь?» Спьяна-то ему примерещилось. А я, говорю, скорѣй съ индюкомъ поцѣлуюсь, чѣмъ съ Марѳой. Да у меня и жена есть, говорю, дуракъ ты этакій. Насмѣшилъ!
— Кто васъ насмѣшилъ? — спросилъ подошедшій къ Ахинееву отецъ-законоучитель.
— Ванькинъ. Стою я, знаете, въ кухнѣ и на осетра гляжу…
И такъ далѣе. Черезъ какіе-нибудь полчаса уже всѣ гости знали про исторію съ осетромъ и Ванькинымъ.
«Пусть теперь имъ разсказываетъ! — думалъ Ахинеевъ, потирая руки. — Пусть! Онъ начнетъ разсказывать, а ему сейчасъ: «Полно тебѣ, дуракъ, чепуху городить! Намъ все извѣстно!»
И Ахинеевъ до того успокоился, что выпилъ отъ радости лишнихъ четыре рюмки. Проводивъ послѣ ужина молодыхъ въ спальню, онъ отправился къ себѣ и уснулъ, какъ ни въ чемъ неповинный ребенокъ, а на другой день онъ уже не помнилъ исторіи съ осетромъ. Но, увы! Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ. Злой языкъ сдѣлалъ свое злое дѣло, и не помогла Ахинееву его хитрость! Ровно черезъ недѣлю, а именно въ среду послѣ третьяго урока, когда Ахинеевъ стоялъ среди учительской и толковалъ о порочныхъ наклонностяхъ ученика Высѣкина, къ нему подошелъ директоръ и отозвалъ его въ сторону.
— Вотъ что, Сергѣй Капитонычъ, — сказалъ директоръ. — Вы извините… Не мое это дѣло, но все-таки я долженъ дать понять… Моя обязанность… Видите ли, ходятъ слухи, что вы живете съ этой… съ кухаркой… Не мое это дѣло, но… Живите съ ней, цѣлуйтесь… что хотите, только, пожалуйста, не такъ гласно! Прошу васъ! Не забывайте, что вы педагогъ!
Ахинеевъ озябъ и обомлѣлъ. Какъ ужаленный сразу цѣлымъ роемъ и какъ ошпаренный кипяткомъ, онъ пошелъ домой. Шелъ онъ домой, и ему казалось, что на него весь городъ глядитъ, какъ на вымазаннаго дегтемъ… Дома ожидала его новая бѣда.
— Ты что же это ничего не трескаешь? — спросила его за обѣдомъ жена. — О чемъ задумался? Объ амурахъ думаешь? О Марѳушкѣ стосковался? Все мнѣ, махаметъ, извѣстно! Открыли глаза люди добрые! У-у-у… вварваръ!
И шлепъ его по щекѣ!… Онъ всталъ изъ-за стола и, не чувствуя подъ собой земли, безъ шапки и пальто, побрелъ къ Ванькину. Ванькина онъ засталъ дома.
— Подлецъ ты! — обратился Ахинеевъ къ Ванькину. — За что ты меня передъ всѣмъ свѣтомъ въ грязи выпачкалъ? За что ты на меня клевету пустилъ?
— Какую клевету? Что вы выдумываете!
— А кто насплетничалъ, будто я съ Марѳой цѣловался? Не ты, скажешь? Не ты, разбойникъ?
Ванькинъ заморгалъ и замигалъ всѣми фибрами своего поношеннаго лица, поднялъ глаза къ образу и проговорилъ:
— Накажи меня Богъ! Лопни мои глаза, и чтобъ я издохъ, ежели хоть одно слово про васъ сказалъ! Чтобъ мнѣ ни дна, ни покрышки! Холеры мало!…
Искренность Ванькина не подлежала сомнѣнію. Очевидно, не онъ насплетничалъ.
«Но кто же? Кто? — задумался Ахинеевъ, перебирая въ своей памяти всѣхъ своихъ знакомыхъ и стуча себя по груди. — Кто же?»
— Кто же? — спросимъ и мы читателя…
«Осколки», 1883, № 46.
Шведская спичка. Уголовный разсказъ.
I.
Утромъ, 6-го октября 1885 г., въ канцелярію станового пристава 2-го участка С-го уѣзда явился прилично одѣтый молодой человѣкъ и заявилъ, что его хозяинъ, отставной гвардіи корнетъ Маркъ Ивановичъ Кляузовъ, убитъ. Заявляя объ этомъ, молодой человѣкъ былъ блѣденъ и крайне взволнованъ. Руки его дрожали и глаза были полны ужаса.
— Съ кѣмъ я имѣю честь говорить? — спросилъ его становой.
— Псѣковъ, управляющій Кляузова. Агрономъ и механикъ.
Становой и понятые, прибывшіе вмѣстѣ съ Псѣковымъ на мѣсто происшествія, нашли слѣдующее. Около флигеля, въ которомъ жилъ Кляузовъ, толпилась масса народу. Вѣсть о происшествіи съ быстротою молніи облетѣла окрестности, и народъ, благодаря праздничному дню, стекался къ флигелю со всѣхъ окрестныхъ деревень. Стоялъ шумъ и говоръ. Кое-гдѣ попадались блѣдныя, заплаканныя физіономіи. Дверь въ спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчалъ ключъ.
— Очевидно, злодѣи пробрались къ нему черезъ окно, — замѣтилъ при осмотрѣ двери Псѣковъ.
Пошли въ садъ, куда выходило окно изъ спальни. Окно глядѣло мрачно, зловѣще. Оно было занавѣшено зеленой, полинялой занавѣской. Одинъ уголъ занавѣски былъ слегка завороченъ, что давало возможность заглянуть въ спальню.
— Смотрѣлъ ли кто-нибудь изъ васъ въ окно? — спросилъ становой.
— Никакъ нѣтъ, ваше высокородіе, — сказалъ садовникъ Ефремъ, маленькій сѣдовласый старичокъ съ лицомъ отставного унтера. — Не до глядѣнья тутъ, коли всѣ поджилки трясутся!
— Эхъ, Маркъ Иванычъ, Маркъ Иванычъ! — вздохнулъ становой, глядя на окно. — Говорилъ я тебѣ, что ты плохимъ кончишь! Говорилъ я тебѣ, сердягѣ, — не слушался! Распутство не доводитъ до добра!
— Спасибо Ефрему, — сказалъ Псѣковъ: — безъ него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здѣсь что-то не такъ. Приходитъ сегодня ко мнѣ утромъ и говоритъ: «А отчего это нашъ баринъ такъ долго не просыпается? Цѣлую недѣлю изъ спальни не выходитъ!» Какъ сказалъ онъ мнѣ это, меня точно кто обухомъ… Мысль сейчасъ мелькнула… Онъ не показывался съ прошлой субботы, а вѣдь сегодня воскресенье! Семь дней — шутка сказать!
— Да, бѣдняга… — вздохнулъ еще разъ становой. — Умный малый, образованный, добрый такой. Въ компаніи, можно сказать, первый человѣкъ. Но распутникъ, царствіе ему небесное! Я всего ожидалъ! Степанъ, — обратился становой къ одному изъ понятыхъ: — съѣзди сію минуту ко мнѣ и пошли Андрюшку къ исправнику, пущай доложитъ! Скажи: Марка Иваныча убили! Да забѣги къ уряднику — чего онъ тамъ прохлаждается? Пущай сюда ѣдетъ! А самъ ты поѣзжай, какъ можно скорѣе, къ слѣдователю Николаю Ермолаичу и скажи ему, чтобы ѣхалъ сюда! Постой, я ему письмо напишу.
Становой разставилъ вокругъ флигеля сторожей, написалъ слѣдователю письмо и пошелъ къ управляющему пить чай. Минутъ черезъ десять онъ сидѣлъ на табуретѣ, осторожно кусалъ сахаръ и глоталъ горячій, какъ уголь, чай.
— Вотъ-съ.. — говорилъ онъ Псѣкову. — Вотъ-съ… Дворянинъ, богатый человѣкъ… любимецъ боговъ, можно сказать, какъ выразился Пушкинъ, а что изъ него вышло? Ничего! Пьянствовалъ, распутничалъ и… вотъ-съ!… убили.
Черезъ два часа прикатилъ слѣдователь. Николай Ермолаевичъ Чубиковъ (такъ зовутъ слѣдователя), высокій, плотный старикъ, лѣтъ 60, подвизается на своемъ поприщѣ уже четверть столѣтія. Извѣстенъ всему уѣзду, какъ человѣкъ честный, умный, энергичный и любящій свое дѣло. На мѣсто происшествія прибылъ съ нимъ и его непремѣнный спутникъ, помощникъ и письмоводитель Дюковскій, высокій молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати шести.
— Неужели, господа? — заговорилъ Чубиковъ, входя въ комнату Псѣкова и наскоро пожимая всѣмъ руки. — Неужели? Марка Иваныча? Убили? Нѣтъ, это невозможно! Не-воз-мож-но!
— Подите же вотъ… — вздохнулъ становой.
— Господи ты Боже мой! Да вѣдь я же его въ прошлую пятницу на ярмаркѣ въ Тарабаньковѣ видѣлъ! Я съ нимъ, извините, водку пилъ!
— Подите же вотъ… — вздохнулъ еще разъ становой.
Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли къ флигелю.
— Разступись! — крикнулъ урядникъ народу.
Войдя во флигель, слѣдователь занялся прежде всего осмотромъ двери въ спальню. Дверь оказалась сосновою, выкрашенной въ желтую краску и неповрежденной. Особыхъ примѣтъ, могущихъ послужить какими-либо указаніями, найдено не было. Приступлено было ко взлому.
— Прошу, господа, лишнихъ удалиться! — сказалъ слѣдователь, когда послѣ долгаго стука и треска дверь уступила топору и долоту. — Прошу это въ интересахъ слѣдствія… Урядникъ, никого не впускать!
Чубиковъ, его помощникъ и становой открыли дверь и нерѣшительно, одинъ за другимъ, вошли въ спальню. Ихъ глазамъ представилось слѣдующее зрѣлище. У единственнаго окна стояла большая деревянная кровать съ огромной пуховой периной. На измятой перинѣ лежало скомканное измятое одѣяло. Подушка въ ситцевой наволочкѣ, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столикѣ передъ кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета двадцати-копѣечнаго достоинства. Тутъ же лежали и сѣрныя спички. Кромѣ кровати, столика и единственнаго стула, другой мебели въ спальнѣ не было. Заглянувъ подъ кровать, становой увидѣлъ десятка два пустыхъ бутылокъ, старую соломенную шляпу и четверть водки. Подъ столикомъ валялся одинъ сапогъ, покрытый пылью. Окинувъ взглядомъ комнату, слѣдователь нахмурился и покраснѣлъ.
— Мерзавцы! — пробормоталъ онъ, сжимая кулаки.
— А гдѣ же Маркъ Иванычъ? — тихо спросилъ Дюковскій.
— Прошу васъ не вмѣшиваться! — грубо сказалъ ему Чубиковъ. — Извольте осмотрѣть полъ! Это второй такой случай въ моей практикѣ, Евграфъ Кузьмичъ, — обратился онъ къ становому, понизивъ голосъ. — Въ 1870 году былъ у меня тоже такой случай. Да вы навѣрное помните… Убійство купца Портретова. Тамъ тоже такъ. Мерзавцы убили и вытащили трупъ черезъ окно…
Чубиковъ подошелъ къ окну, отдернулъ въ сторону занавѣску и осторожно пихнулъ окно. Окно отворилось.
— Отворяется, значитъ, не было заперто… Гм!… Слѣды на подоконникѣ. Видите? Вотъ слѣды отъ колѣна… Кто-то лѣзъ оттуда… Нужно будетъ, какъ слѣдуетъ, осмотрѣть окно.
— На полу ничего особеннаго не замѣтно, — сказалъ Дюковскій. — Ни пятенъ, ни царапинъ. Нашелъ одну только обгорѣвшую шведскую спичку. Вотъ она! Насколько я помню, Маркъ Иванычъ не курилъ; въ общежитіи же онъ употреблялъ сѣрныя спички, отнюдь же не шведскія. Эта спичка можетъ служить уликой…
— Ахъ… замолчите, пожалуйста! — махнулъ рукой слѣдователь. — Лѣзетъ со своей спичкой! Не терплю горячихъ головъ! Чѣмъ спички искать, вы бы лучше постель осмотрѣли!
По осмотрѣ постели Дюковскій отрапортовалъ:
— Ни кровяныхъ, ни какихъ-либо другихъ пятенъ… Свѣжихъ разрывовъ также нѣтъ. На подушкѣ слѣды зубовъ. Одѣяло облито жидкостью, имѣющею запахъ пива и вкусъ его же… Общій видъ постели даетъ право думать, что на ней происходила борьба.
— Безъ васъ знаю, что борьба! Васъ не о борьбѣ спрашиваютъ. Чѣмъ борьбу-то искать, вы бы лучше…
— Одинъ сапогъ здѣсь, другого же нѣтъ налицо. — Ну, такъ что же?
— А то, что его задушили, когда онъ снималъ сапоги. Не успѣлъ онъ снять другого сапога, какъ…
— Понесъ!… И почемъ вы знаете, что его задушили?
— На подушкѣ слѣды зубовъ. Сама подушка сильно помята и отброшена отъ кровати на 2½ аршина.
— Толкуетъ, пустомеля! Пойдемте-ка лучше въ садъ. Вы бы лучше въ саду посмотрѣли, чѣмъ здѣсь рыться… Это я и безъ васъ сдѣлаю.
Придя въ садъ, слѣдствіе прежде всего занялось осмотромъ травы. Трава подъ окномъ была помята. Кустъ репейника подъ окномъ у самой стѣны оказался тоже помятымъ. Дюковскому удалось найти на немъ нѣсколько поломанныхъ вѣточекъ и кусочекъ ваты. На верхнихъ головкахъ были найдены тонкіе волоски темно-синей шерсти.
— Какого цвѣта былъ его послѣдній костюмъ? — спросилъ Дюковскій у Псѣкова.
— Желтый, парусинковый.
— Отлично. Они, значитъ, были въ синемъ. Нѣсколько головокъ репейника было срѣзано и старательно заворочено въ бумагу. Въ это время пріѣхалъ исправникъ Арцыбашевъ-Свистаковскій и докторъ Тютюевъ. Исправникъ поздоровался и тотчасъ же принялся удовлетворять свое любопытство; докторъ же, высокій и въ высшей степени тощій человѣкъ со впалыми глазами, длиннымъ носомъ и острымъ подбородкомъ, ни съ кѣмъ не здороваясь и ни о чемъ не спрашивая, сѣлъ на пень, вздохнулъ и проговорилъ:
— А сербы опять взбудоражались! Что имъ нужно, не понимаю! Ахъ, Австрія, Австрія! Твои это дѣла!
Осмотръ окна снаружи не далъ рѣшительно ничего; осмотръ же травы и ближайшихъ къ окну кустовъ далъ слѣдствію много полезныхъ указаній. Дюковскому удалось, напримѣръ, прослѣдить на травѣ длинную темную полосу, состоявшую изъ пятенъ и тянувшуюся отъ окна на нѣсколько саженъ вглубь сада. Полоса заканчивалась подъ однимъ изъ сиреневыхъ кустовъ большимъ темно-коричневымъ пятномъ. Подъ тѣмъ же кустомъ былъ найденъ сапогъ, который оказался парой сапога, найденнаго въ спальнѣ.
— Это давнишняя кровь! — сказалъ Дюковскій, осматривая пятна.
Докторъ при словѣ «кровь» поднялся и лѣниво, мелькомъ взглянулъ на пятна.
— Да, кровь, — пробормоталъ онъ.
— Значитъ, не задушенъ, коли кровь! — сказалъ Чубиковъ, язвительно поглядѣвъ на Дюковскаго.
— Въ спальнѣ его задушили, здѣсь же, боясь, чтобы онъ не ожилъ, его ударили чѣмъ-то острымъ. Пятно подъ кустомъ показываетъ, что онъ лежалъ тамъ относительно долгое время, пока они искали способовъ, какъ и на чемъ вынести его изъ сада.
— Ну, а сапогъ?
— Этотъ сапогъ еще болѣе подтверждаетъ мою мысль, что его убили, когда онъ снималъ передъ сномъ сапоги. Одинъ сапогъ онъ снялъ, другой же, т. е. этотъ, онъ успѣлъ снять только наполовину. Наполовину снятый сапогъ во время тряски и паденія самъ снялся…
— Сообразительность, посмотришь! — усмѣхнулся Чубиковъ. — Такъ и рѣжетъ, такъ и рѣжетъ! И когда вы отучитесь лѣзть со своими разсужденіями? Чѣмъ разсуждать, вы бы лучше взяли для анализа немного травы съ кровью!
По осмотрѣ и снятіи плана мѣстности, слѣдствіе отправилось къ управляющему писать протоколъ и завтракать. За завтракомъ разговорились.
— Часы, деньги и прочее… все цѣло, — началъ разговоръ Чубиковъ. — Какъ дважды два четыре, убійство совершено не съ корыстными цѣлями.
— Совершено человѣкомъ интеллигентнымъ, — вставилъ Дюковскій.
— Изъ чего же это вы заключаете?
— Къ моимъ услугамъ шведская спичка, употребленія которой еще не знаютъ здѣшніе крестьяне. Употребляютъ этакія спички только помѣщики, и то не всѣ. Убивалъ, кстати сказать, не одинъ, а минимумъ трое: двое держали, а третій душилъ. Кляузовъ былъ силенъ, и убійцы должны были знать это.
— Къ чему могла послужить ему его сила, ежели онъ, положимъ, спалъ?
— Убійцы застали его за сниманіемъ сапогъ. Снималъ сапоги, значитъ, не спалъ.
— Нечего выдумывать! Ѣшьте лучше!
— А по моему понятію, ваше высокоблагородіе, — сказалъ садовникъ Ефремъ, ставя на столъ самоваръ: — пакость эту самую сдѣлалъ никто другой, какъ Николашка.
— Весьма возможно, — сказалъ Псѣковъ.
— А кто этотъ Николашка?
— Бариновъ камердинеръ, ваше высокоблагородіе, — отвѣчалъ Ефремъ. — Кому другому, какъ не ему? Разбойникъ, ваше высокоблагородіе! Пьяница и распутникъ такой, что и не приведи Царица Небесная! Барину онъ водку завсегда носилъ, барина онъ укладывалъ въ постелю… Кому же, какъ не ему? А еще тоже, смѣю предположить вашему высокоблагородію, похвалялся разъ, шельма, въ кабакѣ, что барина убьетъ. Изъ-за Акульки все вышло, изъ-за бабы… Была у него солдатка такая… Барину она пондравилась, они ее къ себѣ приблизили, ну, а онъ… извѣстно, осерчалъ… На кухнѣ пьяный валяется теперь. Плачетъ… вретъ, что барина жалко…
— А дѣйствительно, изъ-за Акульки можно осерчать, — сказалъ Псѣковъ. — Она солдатка, баба, но… Недаромъ Маркъ Иванычъ прозвалъ ее Наной. Въ ней есть что-то, напоминающее Нану… привлекательное…
— Видалъ… Знаю… — сказалъ слѣдователь, сморкаясь въ красный платокъ.
Дюковскій покраснѣлъ и опустилъ глаза. Становой забарабанилъ пальцемъ по блюдечку. Исправникъ закашлялся и полѣзъ зачѣмъ-то въ портфель. На одного только доктора, повидимому, не произвело никакого впечатлѣнія напоминаніе объ Акулькѣ и Нанѣ. Слѣдователь приказалъ привести Николашку. Николашка, молодой, долговязый парень съ длиннымъ, рябымъ носомъ и впалой грудью, въ пиджакѣ съ барскаго плеча, вошелъ въ комнату Псѣкова и поклонился слѣдователю въ ноги. Лицо его было сонно и заплакано. Самъ онъ былъ пьянъ и еле держался на ногахъ.
— Гдѣ баринъ? — спросилъ его Чубиковъ.
— Убили, ваше высокоблагородіе.
Сказавъ это, Николашка замигалъ глазами и заплакалъ.
— Знаемъ, что убили. А гдѣ онъ теперь? Тѣло-то его гдѣ?
— Сказываютъ, въ окно вытащили и въ саду закопали.
— Гм!… О результатахъ слѣдствія уже извѣстно на кухнѣ… Скверно. Любезный, гдѣ ты былъ въ ту ночь, когда убили барина? Въ субботу, то-есть?
Николашка поднялъ вверхъ голову, вытянулъ шею и задумался.
— Не могу знать, ваше высокоблагородіе, — сказалъ онъ. — Былъ выпимши и не помню.
— Alibi! — шепнулъ Дюковскій, усмѣхаясь и потирая руки.
— Такъ-съ. Ну, а отчего это у барина подъ окномъ кровь?
Николашка задралъ вверхъ голову и задумался.
— Скорѣй думай! — сказалъ исправникъ.
— Сичасъ. Кровь эта отъ пустяка, ваше высокоблагородіе. Курицу я рѣзалъ. Я ее рѣзалъ очень просто, какъ обыкновенно, а она возьми да и вырвись изъ рукъ, возьми да побѣги… Отъ этого самаго и кровь.
Ефремъ показалъ, что, дѣйствительно, Николашка каждый вечеръ рѣжетъ куръ и въ разныхъ мѣстахъ, но никто не видѣлъ, чтобы недорѣзанная курица бѣгала по саду, чего, впрочемъ, нельзя отрицать безусловно.
— Alibi, — усмѣхнулся Дюковскій. — И какое дурацкое alibi!
— Съ Акулькой знавался?
— Былъ грѣхъ.
— А баринъ у тебя сманилъ ее?
— Никакъ нѣтъ. У меня Акульку отбили вотъ они-съ, господинъ Псѣковъ, Иванъ Михайлычъ-съ, а у Ивана Михайлыча отбилъ баринъ. Такъ дѣло было.
Псѣковъ смутился и принялся чесать себѣ лѣвый глазъ. Дюковскій впился въ него глазами, прочелъ смущеніе и вздрогнулъ. На управляющемъ увидѣлъ онъ синія панталоны, на которыя ранѣе не обратилъ вниманія. Панталоны напомнили ему о синихъ волоскахъ, найденныхъ на репейникѣ. Чубиковъ, въ свою очередь, подозрительно взглянулъ на Псѣкова.
— Ступай! — сказалъ онъ Николашкѣ. — А теперь позвольте вамъ задать одинъ вопросъ, г. Псѣковъ. Вы, конечно, были въ субботу подъ воскресенье здѣсь?
— Да, въ десятъ часовъ я ужиналъ съ Маркомъ Иванычемъ.
— А потомъ?
Псѣковъ смутился и всталъ изъ-за стола.
— Потомъ… потомъ… Право, не помню, — забормоталъ онъ. — Я много выпилъ тогда… Не помню, гдѣ и когда уснулъ… Чего вы на меня всѣ такъ смотрите? Точно я убилъ!
— Гдѣ вы проснулись?
— Проснулся въ людской кухнѣ на печи… Всѣ могутъ подтвердить. Какъ я попалъ на печь, не знаю…
— Вы не волнуйтесь… Акулину вы знали?
— Ничего нѣтъ тутъ особеннаго…
— Отъ васъ она перешла къ Кляузову?
— Да… Ефремъ, подай еще грибовъ! Хотите чаю, Евграфъ Кузьмичъ?
Наступило молчаніе тяжелое, жуткое, длившееся минутъ пять. Дюковскій молчалъ и не отрывалъ своихъ колючихъ глазъ отъ поблѣднѣвшаго лица Псѣкова. Молчаніе нарушилъ слѣдователь.
— Нужно будетъ, — сказалъ онъ: — сходить въ большой домъ и поговорить тамъ съ сестрой покойнаго, Марьей Ивановной. Не дастъ ли она намъ какихъ-либо указаній.
Чубиковъ и его помощникъ поблагодарили за завтракъ и пошли въ барскій домъ. Сестру Кляузова, Марью Ивановну, сорокапятилѣтнюю дѣву, застали они молящейся передъ высокимъ фамильнымъ кіотомъ. Увидѣвъ въ рукахъ гостей портфели и фуражки съ кокардами, она поблѣднѣла.
— Приношу, прежде всего, извиненіе за нарушеніе, такъ сказать, вашего молитвеннаго настроенія, началъ, расшаркиваясь, галантный Чубиковъ. — Мы къ вамъ съ просьбой. Вы, конечно, уже слышали… Существуетъ подозрѣніе, что вашъ братецъ, нѣкоторымъ образомъ, убитъ. Божья воля, знаете ли… Смерти не миновать никому, ни царямъ, ни пахарямъ. Не можете ли вы помочь намъ какимъ-либо указаніемъ, разъясненіемъ…
— Ахъ, не спрашивайте меня! — сказала Марья Ивановна, еще болѣе блѣднѣя и закрывая лицо руками. — Ничего я не могу вамъ сказать! Ничего! Умоляю васъ! Я ничего… Что я могу? Ахъ, нѣтъ, нѣтъ… ни слова про брата! Умирать буду, не скажу!
Марья Ивановна заплакала и ушла въ другую комнату. Слѣдователи переглянулись, пожали плечами и ретировались.
— Чортова баба! — выругался Дюковскій, выходя изъ большого дома. — Повидимому, что-то знаетъ и скрываетъ. И у горничной что-то на лицѣ написано… Постойте же, черти! Все разберемъ!
Вечеромъ Чубиковъ и его помощникъ, освѣщенные блѣднолицей луной, возвращались къ себѣ домой; они сидѣли въ шарабанѣ и подводили въ своихъ головахъ итоги минувшаго дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиковъ вообще не любилъ говорить въ дорогѣ, болтунъ же Дюковскій молчалъ въ угоду старику. Въ концѣ пути, однако, помощникъ не вынесъ молчанія и заговорилъ:
— Что Николашка причастенъ въ этомъ дѣлѣ, — сказалъ онъ: — non dubitandum est15. И по рожѣ его видно, что онъ за штука… Alibi выдаетъ его съ руками и ногами. Нѣтъ также сомнѣнія, что въ этомъ дѣлѣ не онъ иниціаторъ. Онъ былъ только глупымъ, нанятымъ орудіемъ. Согласны? Не послѣднюю также роль въ этомъ дѣлѣ играетъ и скромный Псѣковъ. Синія панталоны, смущеніе, лежаніе на печи отъ страха послѣ убійства, alibi и Акулька.
— Мели, Емеля, твоя недѣля. По-вашему, значитъ, тотъ и убійца, кто Акульку зналъ? Эхъ, вы, горячка! Соску бы вамъ сосать, а не дѣла разбирать! Вы тоже за Акулькой ухаживали, — значитъ и вы участникъ въ этомъ дѣлѣ?
— У васъ тоже Акулька мѣсяцъ въ кухаркахъ жила, но… я ничего не говорю. Въ ночь подъ то воскресенье я игралъ съ вами въ карты, видѣлъ васъ, иначе бы я и къ вамъ придрался. Дѣло, батенька, не въ бабѣ. Дѣло въ подленькомъ, гаденькомъ, скверненькомъ чувствѣ… Скромному молодому человѣку не понравилось, видите ли, что не онъ верхъ взялъ. Самблюбіе, видите ли… Мститъ захотѣлось. Потомъ-съ… Толстыя губы его сильно говорятъ о чувственности. Помните, какъ онъ губами причмокивалъ, когда Акульку съ Наной сравнивалъ? Что онъ, мерзавецъ, сгораетъ страстью — несомнѣнно! Итакъ: оскорбленное самолюбіе и неудовлетворенная страсть. Этого достаточно для того, чтобы совершить убійство. Двое въ нашихъ рукахъ; но кто же третій? Николашка и Псѣковъ держали. Кто же душилъ? Псѣковъ робокъ, конфузливъ, вообще трусъ. Николашки же не умѣютъ душить подушкой; они дѣйствуютъ топоромъ, обухомъ… Душилъ кто-то третій, но кто онъ?
Дюковскій нахлобучилъ на глаза шляпу и задумался. Молчалъ онъ до тѣхъ поръ, пока шарабанъ не подъѣхалъ къ дому слѣдователя.
— Эврика! — сказалъ онъ, входя въ домикъ и снимая пальто. — Эврика, Николай Ермолаичъ! Не знаю только, какъ мнѣ это раньше въ голову не пришло. Знаете, кто третій?
— Отстаньте, пожалуйста! Вонъ ужинъ готовъ! Садитесь ужинать!
Слѣдователь и Дюковскій сѣли ужинать. Дюковскій налилъ себѣ рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказалъ:
— Такъ знайте же, что третій, дѣйствовавшій заодно съ негодяемъ Псѣковымъ и душившій — была женщина! Да-съ! Я говорю о сестрѣ убитаго, Марьѣ Ивановнѣ!
Чубиковъ поперхнулся водкой и уставилъ глаза на Дюковскаго.
— Вы… не тово? Голова у васъ… не тово? Не болитъ?
— Я здоровъ. Хорошо, пусть я съ ума сошелъ, но чѣмъ вы объясните ея смущеніе при нашемъ появленіи? Какъ вы объясните ея нежеланіе давать показанія? Допустимъ, что это пустяки — хорошо! ладно! — такъ вспомните про ихъ отношенія. Она ненавидѣла своего брата! Она старовѣрка, онъ развратникъ, безбожникъ… Вотъ гдѣ гнѣздится ненависть! Говорятъ, что онъ успѣлъ убѣдить ее въ томъ, что онъ аггелъ сатаны. При ней онъ занимался спиритизмомъ!
— Ну, такъ что же?
— Вы не понимаете? Она, старовѣрка, убила его изъ фанатизма! Мало того, что она убила плевелъ, развратника, она освободила міръ отъ антихриста — и въ этомъ, мнитъ она, ея заслуга, ея религіозный подвигъ! О, вы не знаете этихъ старыхъ дѣвъ, старовѣрокъ! Прочитайте-ка Достоевскаго! А что пишутъ Лѣсковъ, Печерскій!… Она и она, хоть зарѣжьте! Она душила! О, ехидная баба! Развѣ не затѣмъ только стояла она у иконъ, когда мы вошли, чтобы отвести намъ глаза? Дай, молъ, стану и буду молиться, а они подумаютъ, что я покойна, что я не ожидаю ихъ! Это методъ всѣхъ преступниковъ-новичковъ. Голубчикъ, Николай Ермолаичъ! Родной мой! Отдайте мнѣ это дѣло! Дайте мнѣ лично довести его до конца! Милый мой! Я началъ, я и до конца доведу!
Чубиковъ замоталъ головой и нахмурился.
— Мы и сами умѣемъ трудныя дѣла разбирать, — сказалъ онъ. — А ваше дѣло не лѣзть, куда не слѣдуетъ. Пишите себѣ подъ диктовку, когда вамъ диктуютъ, — вотъ ваше дѣло!
Дюковекій вспыхнулъ, хлопнулъ дверью и вышелъ.
— Умница, шельма! — пробормоталъ, глядя ему вслѣдъ Чубиковъ. — Бо-ольшая умница! Горячъ только некстати. Нужно будетъ ему на ярмаркѣ портсигаръ въ презентъ купить…
На другой день утромъ къ слѣдователю былъ приведенъ изъ Кляузовки молодой парень съ большой головой и заячьей губой, который, назвавшись пастухомъ Данилкой, далъ очень интересное показаніе.
— Былъ я выпимши, — сказалъ онъ. — До полночи у кумы просидѣлъ. Идучи домой, спьяна полѣзъ въ рѣку купаться. Купаюсь я… глядь! Идутъ по плотинѣ два человѣка и что-то черное несутъ. — «Тю!» — крикнулъ я на нихъ. Они испужались и что есть духу давай стрекача къ Макарьевскимъ огородамъ. Побей меня Богъ, коли то не барина волокли!
Въ тотъ же день передъ вечеромъ Псѣковъ и Николашка были арестованы и отправлены подъ конвоемъ въ уѣздный городъ. Въ городѣ они были посажены въ тюремный замокъ.
II.
Прошло двѣнадцать дней.
Было утро. Слѣдователь Николай Ермолаичъ сидѣлъ у себя за зеленымъ столомъ и перелистывалъ «кляузовское» дѣло; Дюковскій безпокойно, какъ волкъ въ клѣткѣ, шагалъ изъ угла въ уголъ.
— Вы убѣждены въ виновности Николашки и Псѣкова, — говорилъ онъ, нервно теребя свою молодую бородку. — Отчего же вы не хотите убѣдиться въ виновности Марьи Ивановны? Вамъ мало уликъ, что ли?
— Я не говорю, что я не убѣжденъ. Я убѣжденъ, но не вѣрится какъ-то… Уликъ настоящихъ нѣтъ, а все какая-то философія… Фанатизмъ, то да се…
— А вамъ непремѣнно подавай топоръ, окровавленныя простыни!… Юристы! Такъ я же вамъ докажу! Вы перестанете у меня такъ халатно относиться къ психической сторонѣ дѣла! Быть вашей Марьѣ Ивановнѣ въ Сибири! Я докажу! Мало вамъ философіи, такъ у меня есть нѣчто вещественное… Оно покажетъ вамъ, какъ права моя философія! Дайте мнѣ только поѣздить.
— О чемъ это вы?
— Про шведскую спичку-съ… Забыли? А я не забылъ! Я узнаю, кто зажигалъ ее зъ комнатѣ убитаго! Зажигалъ не Николашка, не Псѣковъ, у которыхъ при обыскѣ спичекъ не оказалось, а третій, т. е. Марья Ивановна. И я докажу!… Дайте только поѣздить по уѣзду, поразузнать…
— Ну, ладно, садитесь… Давайте допросъ дѣлать.
Дюковскій сѣлъ за столикъ и уткнулъ свой длинный носъ въ бумаги.
— Ввести Николая Тетехова! — крикнулъ слѣдователь.
Ввели Николашку. Николашка былъ блѣденъ и худъ, какъ щепка. Онъ дрожалъ.
— Тетеховъ! — началъ Чубиковъ. — Въ 1879 г. вы судились у судьи 1-го участка за кражу и были приговорены къ тюремному заключенію. Въ 1882 г. вы вторично судились за кражу и вторично попали въ тюрьму… Намъ все извѣстно…
На лицѣ у Николашки выразилось удивленіе. Всевѣдѣніе слѣдователя изумило его. Но скоро удивленіе смѣнилось выраженіемъ крайней скорби. Онъ зарыдалъ и попросилъ позволенія пойти умыться и успокоиться. Его увели.
— Ввести Псѣкова! — приказалъ слѣдователь.
Ввели Псѣкова. Молодой человѣкъ за послѣдніе дни сильно измѣнился въ лицѣ. Онъ похудѣлъ, поблѣднѣлъ и осунулся. Въ глазахъ читалась апатія.
— Садитесь, Псѣковъ, — сказалъ Чубиковъ. — Надѣюсь, что сегодняшній разъ вы будете благоразумны и не станете лгать, какъ тѣ разы. Во всѣ тѣ дни вы отрицали свое участіе въ убійствѣ Кляузова, несмотря на всю массу уликъ, говорящихъ противъ васъ. Это неразумно. Сознаніе облегчаетъ вину. Сегодня я бесѣдую съ вами въ послѣдній разъ. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будетъ уже поздно. Ну, разсказывайте намъ…
— Ничего я не знаю… И уликъ вашихъ не знаю, — прошепталъ Псѣковъ.
— Напрасно-съ! Ну, такъ позвольте же мнѣ разсказать вамъ, какъ было дѣло. Въ субботу вечеромъ вы сидѣли въ спальнѣ Кляузова и пили съ нимъ водку и пиво (Дюковскій вонзилъ свой взглядъ въ лицо Псѣкова и не отрывалъ его въ продолженіе всего монолога). Вамъ прислуживалъ Николай. Въ первомъ часу Маркъ Ивановичъ заявилъ вамъ о своемъ желаніи ложиться спать. Въ первомъ часу онъ всегда ложился. Когда онъ снималъ сапоги и отдавалъ вамъ приказанія по хозяйству, вы и Николай, по данному знаку, схватили опьянѣвшаго хозяина и опрокинули его на постель. Одинъ изъ васъ сѣлъ ему на ноги, другой на голову. Въ это время изъ сѣней вошла извѣстная вамъ женщина въ черномъ платьѣ, которая ранѣе условилась съ вами относительно своего участія въ этомъ преступномъ дѣлѣ. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свѣча. Женщина вынула изъ кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свѣчу. Не такъ ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду. Но далѣе… Задушивъ его и убѣдившись, что онъ не дышитъ, вы и Николай вытащили его черезъ окно и положили около репейника. Боясь, чтобы онъ не ожилъ, вы ударили его чѣмъ-то острымъ. Затѣмъ вы понесли и положили его на нѣкоторое время подъ сиреневый кустъ. Отдохнувъ и подумавъ, вы понесли его… Перенесли черезъ плетень… Потомъ пошли по дорогѣ… Далѣе слѣдуетъ плотина. Около плотины испугалъ васъ какой-то мужикъ. Но что съ вами? Псѣковъ, блѣдный какъ полотно, поднялся и зашатался.
— Мнѣ душно! — сказалъ онъ. — Хорошо… пусть… Только я выйду… пожалуйста.
Псѣкова вывели.
— Наконецъ-таки сознался! — сладко потянулся Чубиковъ. — Выдалъ себя! Какъ я его ловко, однако! Такъ и засыпалъ…
— И женщину въ черномъ не отрицаетъ! — засмѣялся Дюковскій. — Но, однако, меня ужасно мучитъ шведская спичка! Не могу долѣе терпѣть! Прощайте! Ѣду.
Дюковскій надѣлъ фуражку и уѣхалъ. Чубиковъ началъ допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знаетъ…
— Жила я только съ вами, а больше ни съ кѣмъ! — сказала она.
Въ шестомъ часу вечера воротился Дюковскій. Онъ былъ взволнованъ, какъ никогда. Руки его дрожали до такой степени, что онъ былъ не въ состояніи разстегнуть пальто. Щеки его горѣли. Видно было, что онъ воротился не безъ новости.
— Veni, vidi, vici! 16 — сказалъ онъ, влетая въ комнату Чубикова и падая въ кресло. — Клянусь вамъ честью, я начинаю вѣровать въ свою геніальность! Слушайте, чортъ васъ возьми совсѣмъ! Слушайте и удивляйтесь, старина! Смѣшно и грустно! Въ нашихъ рукахъ уже есть трое… не такъ ли? Я нашелъ четвертаго или, вѣрнѣе — четвертую, ибо и эта есть женщина! И какая женщина! За одно прикосновеніе къ ея плечамъ я отдалъ бы десять лѣтъ жизни! Но… слушайте… Поѣхалъ я въ Кляузовку и давай вокругъ нея описывать спираль. Посѣтилъ я на пути всѣ лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведскія спички. Всюду мнѣ говорили «нѣтъ». Колесилъ я до сей поры. Двадцать разъ я терялъ надежду и столько же разъ получалъ ее обратно. Валандался цѣлый день и только часъ тому назадъ набрелъ на искомое. За три версты отсюда. Подаютъ мнѣ пачку изъ десяти коробочекъ. Одной коробки нѣтъ какъ нѣтъ… Сейчасъ: кто купилъ эту коробку? Такая-то… — Пондравилось ей… пшикаютъ. Голубчикъ мой! Николай Ермолаичъ! Что можетъ иногда сдѣлать человѣкъ, изгнанный изъ семинаріи и начитавшійся Габоріо, такъ уму непостижимо! Съ сегодняшняго дня начинаю уважать себя!… Уффф… Ну, ѣдемъ!
— Куда это?
— Къ ней, къ четвертой… Поспѣшить нужно, иначе… иначе я сгорю отъ нетерпѣнія! Знаете, кто она? Не угадаете! Молоденькая жена нашего станового, старца Евграфа Кузьмича, Ольга Петровна — вотъ кто! Она купила ту коробку спичекъ!
— Вы… ты… вы… съ ума сошелъ?
— Очень понятно! Во-первыхъ, она куритъ. Во-вторыхъ, она по уши была влюблена въ Кляузова. Онъ отвергъ ея любовь для какой-нибудь Акульки. Месть. Теперь я вспоминаю, какъ однажды засталъ ихъ въ кухнѣ за ширмой. Она клялась ему, а онъ курилъ ея папиросу и пускалъ ей дымъ въ лицо. Но, однако, поѣдемте… Скорѣе, а то уже темнѣетъ… Поѣдемте!
— Я еще не сошелъ съ ума настолько, чтобы изъ-за какого-нибудь мальчишки безпокоить ночью благородную, честную женщину!
— Благородная, честная… Тряпка вы послѣ этого, а не слѣдователь! Никогда не осмѣливался бранить васъ, а теперь вы меня вынуждаете! Тряпка! Халатъ! Ну, голубчикъ, Николай Ермолаичъ! Прошу васъ!
Слѣдователь махнулъ рукой и плюнулъ.
— Прошу васъ! Прошу не для себя, а въ интересахъ правосудія! Умоляю, наконецъ! Сдѣлайте мнѣ одолженіе хоть разъ въ жизни!
Дюковскій сталъ на колѣни.
— Николай Ермолаичъ! Ну, будьте такъ добры! Назовите меня подлецомъ, негодяемъ, если я заблуждаюсь относительно этой женщины! Дѣло вѣдь какое! Дѣло-то! Романъ, а не дѣло! На всю Россію слава пойдетъ! Слѣдователемъ по особо важнымъ дѣламъ васъ сдѣлаютъ! Поймите вы, неразумный старикъ!
Слѣдователь нахмурился и нерѣшительно протянулъ руку къ шляпѣ.
— Ну, чортъ съ тобой! — сказалъ онъ. — ѣдемъ.
Было уже темно, когда шарабанъ слѣдователя подкатилъ къ крыльцу станового.
— Какіе мы свиньи! — сказалъ Чубиковъ, берясь за звонокъ. — Безпокоимъ людей.
— Ничего, ничего… Не робѣйте… Скажемъ, что у насъ рессора лопнула.
Чубикова и Дюковскаго встрѣтила на порогѣ высокая, полная женщина, лѣтъ двадцати трехъ, съ черными, какъ смоль, бровями и жирными, красными губами. Это была сама Ольга Петровна.
— Ахъ… очень пріятно! — сказала она, улыбаясь во все лицо.
— Какъ разъ къ ужину поспѣли. Моего Евграфа Кузьмича нѣть дома… У попа засидѣлся… Но мы и безъ него обойдемся… Садитесь! Вы это со слѣдствія?…
— Да-съ… У насъ, знаете ли, рессора лопнула, — началъ Чубиковъ, войдя въ гостиную и усаживаясь въ кресло.
— Вы сразу… ошеломите! — шепнулъ ему Дюковскій. — Ошеломите!
— Рессора… Мм… да… Взяли и заѣхали.
— Ошеломите, вамъ говорятъ! Догадается, коли канителить будете!
— Ну, такъ дѣлай, какъ самъ знаешь, а меня избавь! — пробормоталъ Чубиковъ, вставая и отходя къ окну. — Не могу! Ты заварилъ кашу, ты и расхлебывай!
— Да, рессора… — началъ Дюковскій, подходя къ становихѣ и морща свой длинный носъ. — Мы заѣхали не для того, чтобы… э-э-э… ужинать и не къ Евграфу Кузьмичу. Мы пріѣхали затѣмъ, чтобы спросить васъ, милостивая государыня, гдѣ находится Маркъ Ивановичъ, котораго вы убили?
— Что? Какой Маркъ Иванычъ? — залепетала становиха, и ея большое лицо вдругъ, въ одинъ мигъ, залилось алой краской.
— Я… не понимаю.
— Спрашиваю васъ именемъ закона! Гдѣ Кляузовъ? Намъ все извѣстно!
— Черезъ кого? — спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковскаго.
— Извольте указать намъ, гдѣ онъ!?
— Но откуда вы узнали? Кто вамъ разсказалъ?
— Намъ все извѣстно-съ! Я требую именемъ закона!
Слѣдователь, ободренный замѣшательствомъ становихи, подошелъ къ ней и сказалъ:
— Укажите намъ, и мы уйдемъ. Иначе же мы…
— На что онъ вамъ?
— Къ чему эти вопросы, сударыня? Мы васъ просимъ указать! Вы дрожите, смущены… Да, онъ убитъ и, если хотите, убитъ вами! Сообщники выдали васъ!
Становиха поблѣднѣла.
— Пойдемте, — сказала она тихо, ломая руки. — Онъ у меня въ банѣ спрятанъ. Только ради Бога, не говорите мужу! Умоляю васъ! Онъ не вынесетъ.
Становиха сняла со стѣны большой ключъ и повела своихъ гостей черезъ кухню и сѣни во дворъ. На дворѣ было темно. Накрапывалъ мелкій дождь. Становиха пошла впередъ. Чубиковъ и Дюковскій зашагали за ней по высокой травѣ, вдыхая въ себя запахи дикой конопли и помоевъ, всхлипывавшихъ подъ ногами. Дворъ былъ большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. Въ темнотѣ показались силуэты деревьевъ, а между деревьями — маленькій домикъ съ покривившеюся трубой.
— Это баня, сказала становиха. — Но умоляю васъ, не говорите никому!
Подойдя къ банѣ, Чубиковъ и Дюковскій увидѣли на дверяхъ огромнѣйшій висячій замокъ.
— Приготовьте огарокъ и спички! — шепнулъ слѣдователь своему помощнику.
Становиха отперла замокъ и впустила гостей въ баню. Дюковскій чиркнулъ спичкой и освѣтилъ предбанникъ. Среди предбанника стоялъ столъ. На столѣ рядомъ съ маленькимъ толстенькимъ самоваромъ стоялъ супникъ съ остывшими щами и блюдо съ остатками какого-то соуса.
— Дальше!
Вошли въ слѣдующую комнату, въ баню. Тамъ тоже стоялъ столъ. На столѣ большое блюдо съ окорокомъ, бутыль съ водкой, тарелки, ножи, вилки.
— Но гдѣ же… этотъ? Гдѣ убитый? — спросилъ слѣдователь.
— Онъ на верхней полочкѣ! — прошептала становиха все еще блѣдная и дрожащая.
Дюковскій взялъ въ руки огарокъ и полѣзъ на верхнюю полку. Тамъ онъ увидѣлъ длинное человѣческое тѣло, лежавшее неподвижно на большой пуховой перинѣ. Тѣло издавало легкій храпъ…
— Насъ морочатъ, чортъ возьми! — закричалъ Дюковскій. — Это не онъ! Здѣсь лежитъ какой-то живой болванъ. Эй, кто вы, чортъ васъ возьми?
Тѣло потянуло въ себя со свистомъ воздухъ и задвигалось. Дюковскій толкнулъ его локтемъ. Оно подняло вверхъ руки, потянулось и приподняло голову.
— Кто это лѣзетъ? — спросилъ охрипшій, тяжелый басъ. — Тебѣ что нужно?
Дюковскій поднесъ къ лицу неизвѣстнаго огарокъ и вскрикнулъ. Въ багровомъ носѣ, взъерошенныхъ, нечесанныхъ волосахъ, въ черныхъ, какъ смоль, усахъ, изъ которыхъ одинъ былъ ухарски закрученъ и съ нахальствомъ глядѣлъ вверхъ на потолокъ; онъ узналъ корнета Кляузова.
— Вы… Маркъ… Иванычъ?! Не можетъ быть!
Слѣдователь взглянулъ наверхъ и замеръ…
— Это я, да… А это вы, Дюковскій! Какого дьявола вамъ здѣсь нужно? А тамъ внизу, что еще за рожа? Батюшки, слѣдователь! Какими судьбами?
Кляузовъ сбѣжалъ внизъ и обнялъ Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула за дверь.
— Какими путями? Выпьемъ, чортъ возьми! Тра-та-ти-то-томъ… Выпьемъ! Кто васъ привелъ сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здѣсь? Впрочемъ, все равно! Выпьемъ!
Кляузовъ зажегъ лампу и налилъ три рюмки водки.
— То-есть, я тебя не понимаю, — сказалъ слѣдователь, разводя руками. — Ты это, или не ты?
— Будетъ тебѣ… Мораль читать хочешь? Не трудись! Юноша Дюковскій, выпивай свою рюмку! Про-ведемте-жъ, друзь-я, эту… Чего смотрите? Пейте!
— Все-таки я не могу понять, — сказалъ слѣдователь, машинально выпивая водку. — Зачѣмъ ты здѣсь?
— Почему же мнѣ не быть здѣсь, ежели мнѣ здѣсь хорошо?
Кляузовъ выпилъ и закусилъ ветчиной.
— Живу у становихи, какъ видишь. Въ глуши, въ дебряхъ, какъ домовой какой-нибудь. Пей! Жалко, братъ, мнѣ ея стало! Сжалился, ну, и живу здѣсь, въ заброшенной банѣ, отшельникомъ… Питаюсь. На будущей недѣлѣ думаю убраться отсюда… Ужъ надоѣло…
— Непостижимо! — сказалъ Дюковскій.
— Что же тутъ непостижимаго?
— Непостижимо! Ради Бога, какъ попалъ вашъ сапогъ въ садъ?
— Какой сапогъ?
— Мы нашли одинъ сапогъ въ спальнѣ, а другой въ саду.
— А вамъ для чего это знать? Не ваше дѣло… Да пейте же, чортъ васъ возьми. Разбудили, такъ пейте! Интересная исторія, братецъ, съ этимъ сапогомъ. Я не хотѣлъ идти къ Олѣ. Не въ духѣ, знаешь, былъ, подъ шофе… Она приходитъ подъ окно и начинаетъ ругаться… Знаешь, какъ бабы… вообще… Я, спьяна, возьми да и пусти въ нее сапогомъ… Ха-ха… Не ругайся, молъ. Она влѣзла въ окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьянаго. Вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь… Любовь, водка и закуска! Но, куда вы? Чубиковъ, куда ты?
Слѣдователь плюнулъ и вышелъ изъ бани. За нимъ, повѣсивъ голову, вышелъ Дюковскій. Оба молча сѣли въ шарабанъ и поѣхали. Никогда въ другое время дорога не казалась имъ такою скучной и длинной, какъ въ этотъ разъ. Оба молчали. Чубиковъ всю дорогу дрожалъ отъ злости, Дюковскій пряталъ свое лицо въ воротникъ, точно боялся, чтобы темнота и моросившій дождь не прочли стыда на его лицѣ.
Пріѣхавъ домой, слѣдователь засталъ у себя доктора Тютюева. Докторъ сидѣлъ за столомъ и, глубоко вздыхая, перелистывалъ «Ниву».
— Дѣла-то какія на бѣломъ свѣтѣ! — сказалъ онъ, встрѣчая слѣдователя съ грустной улыбкой. — Опять Австрія того!… И Гладстонъ тоже нѣкоторымъ образомъ…
Чубиковъ бросилъ подъ столъ шляпу и затрясся.
— Скелетъ чортовъ! Не лѣзь ко мнѣ! Тысячу разъ говорилъ я тебѣ, чтобы ты не лѣзъ ко мнѣ со своею политикой! Не до политики тутъ! А тебѣ, — обратился Чубиковъ къ Дюковскому, потрясая кулакомъ: — а тебѣ… во вѣки вѣковъ не забуду!
— Но… шведская спичка вѣдь! Могъ, ли я знать!
— Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай, а то я изъ тебя, чортъ знаетъ, что сдѣлаю! Чтобы и ноги твоей не было!
Дюковскій вздохнулъ, взялъ шляпу и вышелъ.
— Пойду запью! — рѣшилъ онъ, выйдя за ворота, и побрелъ печально въ трактиръ.
Становиха, придя изъ бани домой, нашла мужа въ гостиной.
— Зачѣмъ слѣдователь пріѣзжалъ? — спросилъ мужъ.
— Пріѣзжалъ сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены!
— Эхъ, Маркъ Иванычъ, Маркъ Иванычъ! — вздохнулъ становой, поднимая вверхъ глаза. — Говорилъ я тебѣ, что распутство не доводитъ до добра! Говорилъ я тебѣ, — не слушался!
Альманах „Стрекозы“ на 1884 годъ.
Художество.
Хмурое зимнее утро.
На гладкой и блестящей поверхности рѣчки Быстрянки, кое-гдѣ посыпанной снѣгомъ, стоятъ два мужика: куцый Сережка и церковный сторожъ Матвѣй. Сережка, малый лѣтъ тридцати, коротконогій, оборванный, весь облѣзлый, сердито глядитъ на ледъ. Изъ его поношеннаго полушубка, словно на линяющемъ псѣ, отвисаютъ клочья шерсти. Въ рукахъ онъ держитъ циркуль, сдѣланный изъ двухъ длинныхъ спицъ. Матвѣй, благообразный старикъ, въ новомъ тулупѣ и валенкахъ, глядитъ кроткими голубыми глазами наверхъ, гдѣ на высокомъ, отлогомъ берегу живописно ютится село. Въ рукахъ у него тяжелый ломъ.
— Что-жъ, это мы до вечера такъ будемъ стоять, сложа руки? — прерываетъ молчаніе Сережка, вскидывая свои сердитые глаза на Матвѣя. — Ты стоять сюда пришелъ, старый шутъ, или работать?
— Такъ ты тово… показывай… — бормочетъ Матвѣй, кротко мигая глазами.
— Показывай… Все я: я и показывай, я и дѣлай. У самихъ ума нѣтъ! Мѣрять чиркулемъ, вотъ нужно что! Но вымѣрявши, нельзя ледъ ломать. Мѣряй! Бери чиркуль!
Матвѣй беретъ изъ рукъ Сережки циркуль и неумѣло, топчась на одномъ мѣстѣ и тыча во всѣ стороны локтями, начинаетъ выводить на льду окружность. Сережка презрительно щуритъ глаза и видимо наслаждается его застѣнчивостью и невѣжествомъ.
— Э-э-э! — сердится онъ. — И того ужъ не можешь! Сказано, мужикъ глупый, деревеньщина! Тебѣ гусей пасти, а не Іордань дѣлать! Дай сюда чиркуль! Дай сюда, тебѣ говорю!
Сережка рветъ изъ рукъ вспотѣвшаго Матвѣя циркуль и въ одно мгновеніе, молодцовато повернувшись на одномъ каблукѣ, чертитъ на льду окружность. Границы для будущей Іордани уже готовы; теперь остается только колоть ледъ…
Но прежде чѣмъ приступить къ работѣ, Сережка долго еще ломается, капризничаетъ, попрекаетъ:
— Я не обязанъ на васъ работать! Ты при церкви служишь, ты и дѣлай!
Онъ видимо наслаждается своимъ обособленнымъ положеніемъ, въ какое поставила его теперь судьба, давшая ему рѣдкій талантъ — удивлять разъ въ годъ весь міръ своимъ искусствомъ. Бѣдному, кроткому Матвѣю приходится выслушать отъ него много ядовитыхъ, презрительныхъ словъ. Принимается Сережка за дѣло съ досадой, съ сердцемъ. Ему лѣнь. Не успѣлъ онъ начертить окружность, какъ его уже тянетъ наверхъ, въ село, пить чай, шататься, пустословить.
— Я сейчасъ приду… — говоритъ онъ, закуривая. А ты тутъ пока, чѣмъ такъ стоять и считать воронъ, принесъ бы на чемъ сѣсть, да подмети.
Матвѣй остается одинъ. Воздухъ сѣръ и неласковъ, но тихъ. Изъ-за разбросанныхъ по берегу избъ привѣтливо выглядываетъ бѣлая церковь. Около ея золотыхъ крестовъ, не переставая, кружатся галки. Въ сторону отъ села, гдѣ берегъ обрывается и становится крутымъ, надъ самой кручей стоитъ спутанная лошадь неподвижно, какъ каменная — должно быть, спитъ, или задумалась.
Матвѣй стоитъ тоже неподвижно, какъ статуя, и терпѣливо ждетъ. Задумчиво-сонный видъ рѣки, круженье галокъ и лошадь нагоняютъ на него дремоту. Проходитъ часъ, другой, а Сережки все нѣтъ. Давно уже рѣка подметена и принесенъ ящикъ, чтобъ сидѣть, а пьянчуга не показывается. Матвѣй ждетъ и только позѣвываетъ. Чувство скуки ему незнакомо. Прикажутъ ему стоять на рѣкѣ день, мѣсяцъ, годъ, и онъ будетъ стоять.
Наконецъ Сережка показывается изъ-за избъ. Онъ идетъ въ развалку, еле ступая. Идти далеко, лѣнь, и онъ спускается не по дорогѣ, а выбираетъ короткій путъ, сверху внизъ по прямой линіи, и при этомъ вязнетъ въ снѣгу, цѣпляется за кусты, ползетъ на спинѣ — и все это медленно, съ остановками.
— Ты что же это? — набрасывается онъ на Матвѣя. — Что безъ дѣла стоишь? Когда же колоть ледъ?
Матвѣй крестится, беретъ въ обѣ руки ломъ и начинаетъ колоть ледъ, строго придерживаясь начерченной окружности. Сережка садится на ящикъ и слѣдитъ за тяжелыми, неуклюжими движеніями своего помощника.
— Легче у краевъ! Легче! — командуетъ онъ. — Не умѣешь, такъ не берись, а коли взялся, такъ дѣлай! Ты!
Наверху собирается толпа. Сережка, при видѣ зрителей, еще больше волнуется!
— Возьму и не стану дѣлать… — говоритъ онъ, закуривая вонючую папиросу и сплевывая. — Погляжу, какъ вы безъ меня тутъ. Въ прошломъ годѣ въ Костюковѣ Степка Гульковъ взялся по-моему Іордань строить. И что-жъ? Смѣхъ одинъ вышелъ. Костюковскіе къ намъ же и пришли — видимо не видимо? Изо всѣхъ деревень народу навалило.
— Потому окромѣ насъ нигдѣ настоящей Іордани…
— Работай, некогда разговаривать… Да, дѣдъ… Во всей губерніи другой такой Іордани не найдешь. Солдаты сказываютъ, поди-ка поищи, въ городахъ даже хуже. Легче, легче!
Матвѣй кряхтитъ и отдувается. Работа не легкая. Ледъ крѣпокъ и глубокъ; нужно его скалывать и тотчасъ же уносить куски далеко въ сторону, чтобы не загромождать площади.
Но какъ ни тяжела работа, какъ ни безтолкова команда Сережки, къ тремъ часамъ дня на Быстрянкѣ уже темнѣетъ большой водяной кругъ.
— Въ прошломъ годѣ лучше было… — сердится Сережка. И этого даже ты не могъ сдѣлать! Э, голова! Держатъ же такихъ дураковъ при храмѣ Божіемъ! Ступай, доску принеси колышки дѣлать! Неси кругъ, ворона! Да того… хлѣба захвати гдѣ-нибудь… огурцовъ, что ли.
Матвей уходитъ и, немного погодя, приноситъ на плечахъ громадный деревянный кругъ, покрашенный еще въ прежніе годы, съ разноцвѣтными узорами. Въ центрѣ круга красный крестъ, по краямъ дырочки для колышковъ. Сережка беретъ этотъ крутъ и закрываетъ имъ прорубь.
— Какъ разъ… годится… Подновимъ только краску и за первый сортъ… Ну, что-жъ стоишь? Дѣлай аналой! Или того… ступай бревна принеси, крестъ дѣлать…
Матвѣй, съ самаго утра ничего не ѣвшій и не пившій, опять плетется на гору. Какъ ни лѣнивъ Сережка, но колышки онъ дѣлаетъ самъ, собственноручно. Онъ знаетъ, что эти колышки обладаютъ чудодѣйственной силою: кому достанется колышекъ послѣ водосвятія, тотъ весь годъ будетъ счастливъ. Такая ли работа неблагодарна?
Но самая настоящая работа начинается со слѣдующаго дня. Тутъ Сережка являетъ себя передъ невѣжественнымъ Матвѣемъ во всемъ величіи своего таланта. Его болтовнѣ, попрекамъ, капризамъ и прихотямъ нѣтъ конца. Сколачиваетъ Матвѣй изъ двухъ большихъ бревенъ высокій крестъ, онъ недоволенъ, и велитъ передѣлывать. Стоитъ Матвѣй, Сережка сердится, отчего онъ не идетъ; онъ идетъ, Сережка кричитъ ему, чтобы онъ не шелъ, а работалъ. Не удовлетворяютъ его ни инструменты, ни погода, ни собственный талантъ; ничто не нравится.
Матвѣй выпиливаетъ большой кусокъ льда для аналоя.
— Зачѣмъ же ты уголокъ отшибъ? — кричитъ Сережка и злобно таращитъ на него глаза. — Зачѣмъ же ты, я тебя спрашиваю, уголокъ отшибъ?
— Прости, Христа ради.
— Дѣлай сызнова!
Матвѣй пилитъ снова… и нѣтъ конца его мукамъ! Около проруби, покрытой изукрашеннымъ кругомъ, долженъ стоятъ аналой; на аналоѣ нужно выточить крестъ и раскрытое евангеліе. Но это не все. За аналоемъ будетъ стоять высокій крестъ, видимый всей толпѣ и играющій на солнцѣ, какъ осыпанный алмазами и рубинами. На крестѣ голубь, выточенный изъ льда. Путь отъ церкви къ Іордани будетъ посыпанъ елками и можжевельникомъ. Такова задача.
Прежде всего Сережка принимается за аналой. Работаетъ онъ терпугомъ, долотомъ и шиломъ. Крестъ на аналоѣ, евангеліе и епитрахиль, спускающаяся съ аналоя, удаются ему вполнѣ. Затѣмъ приступаетъ къ голубю. Пока онъ старается выточить на лицѣ голубя кротость и смиренномудріе, Матвѣй, поворачиваясь какъ медвѣдь, обдѣлываетъ крестъ, сколоченный изъ бревенъ. Онъ беретъ крестъ и окунаетъ его въ прорубь. Дождавшись, когда вода замерзнетъ на крестѣ, онъ окунаетъ его въ другой разъ, и такъ до тѣхъ поръ, пока бревна не покроются густымъ слоемъ льда… Работа не легкая, требующая и избытка силъ, и терпѣнія.
Но вотъ тонкая работа кончена. Сережка бѣгаетъ по селу, какъ угорѣлый. Онъ спотыкается, бранится, клянется, что сейчасъ пойдетъ на рѣку и сломаетъ всю работу. Это онъ ищетъ подходящихъ красокъ.
Карманы у него полны охры, синьки, сурика, мѣдянки; не заплативъ ни копейки, онъ опрометью выбѣгаетъ изъ одной лавки и бѣжитъ въ другую. Изъ лавки рукой подать въ кабакъ. Тутъ выпьетъ, махнетъ рукой и, не заплативъ, летитъ дальше. Въ одной избѣ беретъ онъ свекловичныхъ бураковъ, въ другой луковичной шелухи, изъ которой дѣлаетъ онъ желтую краску. Онъ бранится, толкается, грозитъ и… хоть бы одна живая душа огрызнулась! Всѣ улыбаются ему, сочувствуютъ, величаютъ Сергѣемъ Никитичемъ, всѣ чувствуютъ, что художество есть не его личное, а общее, народное дѣло. Одинъ творитъ, остальные ему помогаютъ. Сережка самъ по себѣ ничтожество, лѣнтяй, пьянчуга и мотъ, но когда онъ съ сурикомъ или циркулемъ въ рукахъ, то онъ уже нѣчто высшее, Божій слуга.
Настаетъ крещенское утро. Церковная ограда и оба берега на далекомъ пространствѣ кишатъ народомъ. Все, что составляетъ Іордань, старательно скрыто подъ новыми рогожами. Сережка смирно ходитъ около рогожъ и старается побороть волненіе. Онъ видитъ тысячи народа: тутъ много и изъ чужихъ приходовъ; всѣ эти люди въ морозъ, по снѣгу прошли не мало верстъ пѣшкомъ только за тѣмъ, чтобы увидѣть его знаменитую Іордань. Матвѣй, который кончилъ свое чернорабочее, медвѣжье дѣло, уже опять въ церкви; его не видно, не слышно; про него уже забыли… Погода прекрасная… На небѣ ни облачка. Солнце свѣтитъ ослѣпительно.
Наверху раздается благовѣстъ… Тысячи головъ обнажаются, движутся тысячи рукъ, — тысячи крестныхъ знаменій!
И Сережка не знаетъ, куда дѣваться отъ нетерпѣнія. Но вотъ, наконецъ, звонятъ къ «Достойно»; затѣмъ, полчаса спустя, на колокольнѣ и въ толпѣ замѣтно какое-то волненіе. Изъ церкви одну за другою выносятъ хоругви, раздается бойкій, спѣшащій трезвонъ. Сережка дрожащей рукой сдергиваетъ рогожи… и народъ видитъ нѣчто необычайное. Аналой, деревянный кругъ, колышки и крестъ на льду переливаютъ тысячами красокъ. Крестъ и голубь испускаютъ изъ себя такіе лучи, что смотрѣть больно… Боже милостивый, какъ хорошо! Въ толпѣ пробѣгаетъ гулъ удивленія и восторга; трезвонъ дѣлается еще громче, день еще яснѣе. Хоругви колышутся и двигаются надъ толпой, точно по волнамъ. Крестный ходъ, сіяя ризами иконъ и духовенства, медленно сходитъ внизъ по дорогѣ и направляется къ Іордани. Машутъ колокольнѣ руками, чтобы тамъ перестали звонить, и водосвятіе начинается. Служатъ долго, медленно, видимо стараясь продлить торжество и радость общей народной молитвы. Тишина.
Но вотъ погружаютъ крестъ, и воздухъ оглашается необыкновеннымъ гуломъ. Пальба изъ ружей, трезвонъ, громкія выраженія восторга, крики и давка въ погонѣ за колышками. Сережка прислушивается къ этому гулу, видитъ тысячи устремленныхъ на него глазъ, и душа лѣнтяя наполняется чувствомъ славы и торжества.
«Петербургская газета», 1886, № 5.
Упразднили!
Недавно, во время половодья, помѣщикъ, отставной прапорщикъ Вывертовъ, угощалъ заѣхавшаго къ нему землемѣра Катавасова. Выпивали, закусывали и говорили о новостяхъ. Катавасовъ, какъ городской житель, обо всемъ зналъ: о холерѣ, о войнѣ и даже объ увеличеніи акциза въ размѣрѣ одной копейки на градусъ. Онъ говорилъ, а Вывертовъ слушалъ, ахалъ и каждую новость встрѣчалъ восклицаніями: «Скажите, однако! Ишь ты вѣдь! А-а-а»…
— А отчего вы нынче безъ погончиковъ, Семенъ Антипычъ? — полюбопытствовалъ онъ между прочимъ.
Землемѣръ не сразу отвѣтилъ. Онъ помолчалъ, выпилъ рюмку водки, махнулъ рукой и тогда уже сказалъ:
— Упразднили!
— Ишь-ты! А-а-а… Я газетъ-то не читаю и ничего про это не знаю. Стало-быть, нынче гражданское вѣдомство не носитъ уже погоновъ? Скажите, однако! А это, знаете ли, отчасти хорошо: солдатики не будутъ васъ съ господами офицерами смѣшивать и честь вамъ отдавать. Отчасти же, признаться, и не хорошо. Нѣтъ уже у васъ того вида, сановитости! Нѣтъ того благородства!
— Ну, да что! — сказалъ землемѣръ и махнулъ рукой. — Внѣшній видъ наружности не составляетъ важнаго предмета. Въ погонахъ ты, или безъ погоновъ — это все равно, было бы въ тебѣ званіе сохранено. Мы нисколько не обижаемся. А вотъ васъ такъ дѣйствительно обидѣли, Павелъ Игнатьичъ! Могу посочувствовать.
— То-есть, какъ-съ? спросилъ Вывертовъ. Кто же меня можетъ обидѣть?
— Я насчетъ того факта, что васъ упразднили. Прапорщикъ хоть и маленькій чинъ, хоть и ни то, ни сё, но все же онъ слуга отечества, офицеръ… кровь проливалъ… За что его упразднять?
— То-есть… извините, я васъ не совсѣмъ понимаю-съ… — залепеталъ Вывертовъ, блѣднѣя и дѣлая большіе глаза. Кто же меня упразднилъ?
— Да развѣ вы не слыхали? Былъ такой указъ, чтобъ прапорщиковъ вовсе не было. Чтобъ ни одного прапорщика! Чтобъ и духу ихъ не было! Да развѣ вы не слыхали? Всѣхъ служащихъ прапорщиковъ велѣно въ подпоручики произвести, а вы, отставные, какъ знаете. Хотите, будьте прапорщиками, а не хотите, такъ и не надо.
— Гм… Кто же я теперь такой есть?
— А Богъ васъ знаетъ, кто вы. Вы теперь — ничего, недоумѣніе, эѳиръ! Теперь вы и сами не разберете, кто вы такой.
Вывертовъ хотѣлъ спросить что-то, но не смогъ. Подъ ложечкой у него похолодѣло, колѣни подогнулись, языкъ не поворачивался. Какъ жевалъ колбасу, такъ она и осталась у него во рту не разжеванной.
— Не хорошо съ вами поступили, что и говорить! — сказалъ землемѣръ и вздохнулъ. — Все хорошо, но этого мѣропріятія одобрить не могу. То-то, небось, теперь въ иностранныхъ газетахъ! А?
— Опять-таки я не понимаю… — выговорилъ Вывертовъ. — Ежели я теперь не прапорщикъ, то кто же я такой? Никто? Нуль? Стало-быть, ежели я васъ понимаю, мнѣ можетъ теперь всякій сгрубить, можетъ на меня тыкнуть?
— Этого ужъ я не знаю. Насъ же принимаютъ теперь за кондукторовъ! Намедни начальникъ движенія на здѣшней дорогѣ идетъ, знаете ли, въ своей инженерной шинели, по-нынѣшнему безъ погоновъ, а какой-то генералъ и кричитъ: «Кондукторъ, скоро ли поѣздъ пойдетъ?» Вцѣпились! Скандалъ! Объ этомъ въ газетахъ нельзя писать, но вѣдь… всѣмъ извѣстно! Шила въ мѣшкѣ не утаишь!
Вывертовъ, ошеломленный новостью, ужъ больше не пилъ и не ѣлъ. Разъ попробовалъ онъ выпить холоднаго квасу, чтобы прійти въ чувство, но квасъ остановился поперекъ горла и — назадъ.
Проводивъ землемѣра, упраздненный прапорщикъ заходилъ по всѣмъ комнатамъ, и сталъ думать. Думалъ, думалъ и ничего не надумалъ. Ночью онъ лежалъ въ постели, вздыхалъ и тоже думалъ.
— Да будетъ тебѣ мурлыкать! — сказала жена Арина Матвѣевна и толкнула его локтемъ. — Стонетъ, словно родить собирается! Можетъ-быть, это еще и не правда. Ты завтра съѣзди къ кому-нибудь и спроси. Тряпка!
— А вотъ какъ останешься безъ званія и титула, тогда тебѣ и будетъ тряпка. Развалилась тутъ, какъ бѣлуга, и — тряпка! Не ты, небось, кровь проливала!
На другой день утромъ, всю ночь не спавшій Вывертовъ запрягъ своего каураго въ бричку и поѣхалъ наводить справки. Рѣшилъ онъ заѣхать къ кому-нибудь изъ сосѣдей, а ежели представится надобность, то и къ самому предводителю. Проѣзжая черезъ Ипатьево, онъ встрѣтился тамъ съ протоіереемъ Пафнутіемъ Амаликитянскимъ. Отецъ протоіерей шелъ отъ церкви къ дому и, сердито помахивая жезломъ, то и дѣло оборачивался къ шедшему за нимъ дьячку и бормоталъ: «Да и дуракъ же ты, братецъ! Вотъ дуракъ!»
Вывертовъ вылѣзъ изъ брички и подошелъ подъ благословеніе.
— Съ праздникомъ васъ, отецъ протоіерей! — поздравилъ онъ цѣлуя руку. — Обѣдню изволили служить-съ?
— Да, литургію.
— Такъ-съ… У всякаго свое дѣло! Вы стадо духовное пасете, мы землю удобряемъ по мѣрѣ силъ… А отчего вы сегодня безъ орденовъ?
Батюшка вмѣсто отвѣта нахмурился, махнулъ рукой и зашагалъ дальше.
— Имъ запретили! пояснилъ дьячокъ шопотомъ.
Вывертовъ проводилъ глазами сердито шагавшаго протоіерея, и сердце его сжалось отъ горькаго предчувствія: сообщеніе, сдѣланное землемѣромъ, казалось теперь близкимъ къ истинѣ!
Прежде всего заѣхалъ онъ къ сосѣду маіору Ижицѣ, и когда его бричка въѣзжала въ маіорскій дворъ, онъ увидѣлъ картину. Ижица въ халатѣ и турецкой фескѣ стоялъ посреди двора, сердито топалъ ногами и размахивалъ руками. Мимо него взадъ и впередъ кучеръ Филька водилъ хромавшую лошадь.
— Негодяй! — кипятился маіоръ. — Мошенникъ! Каналья! Повѣсить тебя мало, анаѳему! Афганецъ! Ахъ, мое вамъ почтеніе! — сказалъ онъ, увидѣвъ Вывертова. — Очень радъ васъ видѣть. Какъ вамъ это понравится? Недѣля ужъ, какъ ссадилъ лошади ногу, и молчитъ, мошенникъ! Ни слова! Не догляди я самъ, пропало бы къ чорту копыто! А? Каковъ народецъ? И его не бить по мордѣ? Не бить? Не бить, я васъ спрашиваю?
— Лошадка славная, — сказалъ Вывертовъ, подходя къ Ижицѣ. — Жалко! Вы, маіоръ, за коноваломъ пошлите. У меня, маіоръ, на деревнѣ есть отличный коновалъ!
— Маіоръ, — проворчалъ Ижица, презрительно улыбаясь. — Маіоръ!… Не до шутокъ мнѣ! У меня лошадь заболѣла, а вы: маіоръ! маіоръ! Точно галка: крр!… крр!
— Я васъ, маіоръ, не понимаю. Нешто можно благороднаго человѣка съ галкой сравнивать?
— Да какой же я маіоръ? Нешто я маіоръ?
— Кто же вы?
— А чортъ меня знаетъ, кто я! — сказалъ Ижица. — Ужъ больше года, какъ маіоровъ нѣтъ. Да вы что же это? Вчера только родились, что ли?
Вывертовъ съ ужасомъ поглядѣлъ на Ижицу и сталъ отирать съ лица потъ, предчувствуя что-то очень недоброе.
— Однако позвольте же… — сказалъ онъ. — Я васъ все-таки не понимаю… Маіоръ вѣдь чинъ значительный!
— Да-съ!!
— Такъ какъ же это? И вы… ничего?
Маіоръ только махнулъ рукой и началъ разсказывать ему, какъ подлецъ Филька сшибъ лошади копыто, разсказывалъ длинно и въ концѣ-концовъ даже къ самому лицу его поднесъ больное копыто съ гноящейся ссадиной и навознымъ пластыремъ, но Вывертовъ не понималъ, не чувствовалъ и глядѣлъ на все, какъ сквозь рѣшётку. Безсознательно онъ простился, влѣзъ въ свою бричку и крикнулъ съ отчаяніемъ:
— Къ предводителю! Живо! Лупи кнутомъ!
Предводитель, дѣйствительный статскій совѣтникъ Ягодышевъ, жилъ не далеко. Черезъ какой-нибудь часъ Вывертовъ входилъ уже къ нему въ кабинетъ и кланялся. Предводитель сидѣлъ на софѣ и читалъ «Новое Время». Увидѣвъ входящаго, онъ кивнулъ головой и указалъ на кресло.
— Я, ваше превосходительство, — началъ Вывертовъ: — долженъ былъ сначала представиться вамъ, но находясь въ невѣдѣніи касательно своего званія, осмѣливаюсь прибѣгнуть къ вашему превосходительству за разъясненіемъ…
— Позвольте-съ, почтеннѣйшій, — перебилъ его предводитель. — Прежде всего не называйте меня превосходительствомъ. Прошу-съ!
— Что вы-съ… Мы люди маленькіе…
— Не въ томъ дѣло-съ! Пишутъ вотъ… (предводитель ткнулъ въ «Новое Время» и проткнулъ его пальцемъ) пишутъ вотъ; что мы, дѣйствительные статскіе совѣтники, не будемъ ужъ болѣе превосходительствами. За достовѣрное сообщаютъ-съ! Что-жъ? И не нужно, милостивый государь! Не нужно! Не называйте! И не надо!
Ягодышевъ всталъ и гордо прошелся по кабинету… Вывертовъ испустилъ вздохъ и уронилъ на полъ фуражку.
«Ужъ ежели до нихъ добрались, — подумалъ онъ: — то о прапорщикахъ да о маіорахъ и спрашивать нечего. Уйду лучше…»
Вывертовъ пробормоталъ что-то и вышелъ, забывъ въ кабинетѣ предводителя фуражку. Черезъ два часа онъ пріѣхалъ къ себѣ домой блѣдный, безъ шапки, съ тупымъ выраженіемъ ужаса на лицѣ. Вылѣзая изъ брички, онъ робко взглянулъ на небо: не упразднили ли ужъ и солнца? Жена, пораженная его видомъ, забросала его вопросами, но на всѣ вопросы онъ отвѣчалъ только маханіемъ руки…
Недѣлю онъ не пилъ, не ѣлъ, не спалъ, а какъ шальной ходилъ изъ угла въ уголъ и думалъ. Лицо его осунулось, взоры потускнѣли… Ни съ кѣмъ онъ не заговаривалъ, ни къ кому ни за чѣмъ не обращался, а когда Арина Матвѣевна приставала къ нему съ вопросами, онъ только отмахивался рукой и — ни звука… Ужъ чего только съ нимъ ни дѣлали, чтобы привести его въ чувство! Поили его бузиной, давали «на внутрь» масла изъ лампадки, сажали на горячій кирпичъ, но ничто не помогало, онъ хирѣлъ и отмахивался. Позвали, наконецъ, для вразумленія отца Пафнутія. Протоіерей полдня бился, объясняя ему, что все теперь клонится не къ уничтоженію, а къ возвеличенію, но доброе сѣмя его упало на неблагодарную почву. Взялъ пятерку за труды, да такъ и уѣхалъ, ничего не добившись.
Помолчавъ недѣлю, Вывертовъ какъ будто бы заговорилъ.
— Что-жъ, ты молчишь, харя? — набросился онъ внезапно на казачка Илюшку. — Груби! Издѣвайся! Тыкай на уничтоженнаго! Торжествуй!
Сказалъ это, заплакалъ и опять замолчалъ на недѣлю. Арина Матвѣевна рѣшила пустить ему кровь. Пріѣхалъ фельдшеръ, выпустилъ изъ него двѣ тарелки крови, и отъ этого словно бы полегчало. На другой день послѣ кровопролитія, Вывертовъ подошелъ къ кровати, на которой лежала жена, и сказалъ:
— Я, Арина, этого такъ не оставлю. Теперь я на все рѣшился… Чинъ я свой заслужилъ, и никто не имѣетъ полнаго права на него посягать. Я вотъ что надумалъ: напишу какому-нибудь высокопоставленному лицу прошеніе и подпишусь: прапорщикъ такой-то… пра-пор-щикъ… Понимаешь? На-зло! Пра-пор-щикъ… Пускай! На-зло!
И эта мысль такъ понравилась Вывертову, что онъ просіялъ и даже попросилъ ѣсть. Теперь онъ, озаренный новымъ рѣшеніемъ, ходитъ по комнатамъ, язвительно улыбается и мечтаетъ:
— Пра-пор-щикъ… На-зло!
☆☆☆
-
фр. Charmant — Прелестно! ↩
-
фр. entre nous — между нами. ↩
-
нем. что вы хотите? ↩
-
нем. Что же вы хотите? ↩
-
нем. Что вы еще хотите? ↩
-
нем. Я хочу… ↩
-
фр. Где мой галстукъ, который прислалъ мнѣ отецъ изъ Курска? ↩
-
фр. Ахъ, развѣ, Марія… ↩
-
фр. У насъ же человѣкъ, очень мало намъ знакомый… ↩
-
фр. Очень рада снова видѣть васъ. ↩
-
Я прошу васъ (фр. Je vous prie). ↩
-
это очень мило! (фр. c’est très joli). ↩
-
«Дѣло» — журналъ радикально–демократическаго направленія, выходившій в 1866—1888 годахъ въ Санктъ–Петербургѣ. ↩
-
итал. лирическаго тенора. ↩
-
лат. нѣтъ сомнѣнія. ↩
-
лат. Пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ! ↩
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.