Къ біографіи А. П. Ермолова
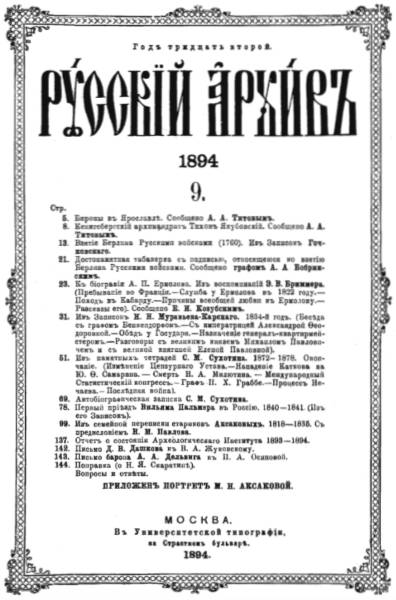
Съ 1876 года, по указанію Великаго Князя Михаила Николаевича, въ бытность Его Императорскаго Высочества главнокомандующимъ Кавказскою арміею, издается военно-историческимъ отдѣломъ окружнаго штаба въ Тифлисѣ „Кавказскій Сборникъ“. Цѣль его — „систематическая разработка военно-историческаго матеріала, представляемаго дѣломъ водворенія Русскаго владычества на Кавказѣ“. Сообразно этому, въ „Сборникѣ“ печатаются, какъ воспоминанія о Кавказской войнѣ, такъ и статьи, составленныя на основаніи архивнаго матеріала, преимущественно изъ архива штаба.
Въ недавно вышедшемъ ХѴ-мъ томѣ „Сборника“ помѣщены воспоминанія покойнаго генерала отъ артиллеріи Эдуарда Владимировича Бриммера подъ заглавіемъ: „Служба артиллерійскаго офицера, воспитывавшагося въ I кадетскомъ корпусѣ и выпущеннаго въ 1815 г.“ (стр. 52–260). Авторъ воспоминаній началъ службу на Кавказѣ въ началѣ 1822 г. и затѣмъ большую часть своей дальнѣйшей служебной дѣятельности посвятилъ Кавказу же, гдѣ сдѣлалъ 8 горныхъ экспедицій, Персидскую и двѣ Турецкія войны. Нынѣ напечатанное начало его воспоминаній обнимаетъ время до взятія Тавриза и, кромѣ спеціальнаго интереса для исторіи Кавказской войны, заключаетъ много очень интересныхъ общеисторическихъ данныхъ, между прочимъ объ А. П. Ермоловѣ. Поэтому мы думаемъ, что, въ виду сравнительно-малаго распространенія „Кавказскаго Сборника“, желательно ознакомить любителей Русской исторіи съ нѣкоторыми чертами изъ воспоминаній Э. В. Бриммера.
Характерную черту изъ Павловскихъ временъ сообщаетъ Э. В. Бриммеръ о своемъ дядѣ: онъ служилъ въ артиллеріи въ чинѣ подполковника, за ошибку на ученіи былъ сосланъ Павломъ въ Сибирь, но по пріѣздѣ туда, внезапно, не отдохнувъ отъ курьерской ѣзды, былъ отправленъ для узнанія порядка службы въ Италію, въ корпусъ генерала Розенберга!
О первомъ кадетскомъ корпусѣ у автора „осталось мало пріятныхъ воспоминаній“, но нѣкоторыя черты изъ кадетскаго воспитанія и обученія въ самомъ началѣ нашего вѣка онъ сообщаетъ.
Изъ корпуса Бриммеръ попалъ въ корпусъ графа Воронцова, стоявшій во Франціи. О пребываніи тамъ Русскихъ войскъ находимъ у него интересныя подробности. Таковы разсказы его о смотрѣ въ Вертю, въ Шампаньи, гдѣ войска въ теченіе 8 дней питались сухарями, чаемъ, сыромъ и Шампанскимъ; о пребываніи въ Коммерси, въ семьѣ Француза, и вообще о взаимныхъ отношеніяхъ Русскихъ и Французовъ; о графѣ Воронцовѣ и его командованіи, навлекшемъ на себя, какъ извѣстно потомъ нареканія въ распущенности, въ чемъ его и старались уличить. „По возвращеніи корпуса въ Россію, разсказываетъ Биммеръ, пріѣхалъ къ намъ начальникъ артиллеріи 2-го корпуса генералъ Левенстернъ, и пустился въ разговоры съ нижними чинами. Остановившись передъ правымъ флангомъ, онъ поздоровался съ ними и спросилъ: А что, ребята, вы рады, что вернулись въ любезное отечество? — Рады, ваше пр-во. Проходя по фронту и смотря на строй, онъ хвалилъ обмундированіе и былъ, кажется, въ хорошемъ расположеніи духа. Затѣмъ генералъ изъ Нѣмцевъ спросилъ солдатъ: А хорошо вамъ было во Франціи? — Хорошо, ваше пр-ство. — Что жъ вамъ, досадно, что вышли оттуда? — Досадно, ваше пр-ство. Какъ видите, Русскій солдатъ весь живетъ въ начальникѣ и не понимаетъ противорѣчія“. Наряду съ этимъ, Бриммеръ разсказываетъ характерный случай о тогдашнемъ отношеніи къ солдату. Въ ротѣ его былъ коновалъ-самоучка, назначенный въ эту должность, какъ не знавшій никакого другого ремесла. По выходѣ изъ Гейдельберга (гдѣ, замѣтимъ, студенты изъ Остзейскихъ провинцій, провожая роту, кричали: „кланяйтесь Россіи, нашему славному отечеству“) одна лошадь захромала. Командиръ роты призываетъ коновала. „Отчего ты лошадь еще не вылѣчилъ: уже три дня хромаетъ? — Я примачиваю ногу. — Нога болитъ, а оставляешь ее въ запряжкѣ? Вотъ я тебя, с… с..! Розогъ! — Да помилуйте, ваше высокоблагородіе, я больше этой примочки ничего не знаю. — Не знаешь, лѣнтяй! Ложись! — И такъ какъ палки и розги были всегда въ обозѣ, то несчастнаго Чуваша разложили и сѣкли, сѣкли, такъ что онъ и кричать пересталъ. Когда перестали, онъ все лежалъ. „А, встать не хочешь? Воды!“ Въ баклагахъ принесли изъ Неккера Декабрской воды и окачивали лежащаго; но солдаты тутъ же подняли его и увели съ глазъ начальника. Сколько такихъ расправъ могъ бы разсказать всякій, служившій въ былое время!“
Въ 1820 г. Бриммеръ, служившій тогда въ Петербургѣ, увидѣлъ А. П. Ермолова. Первый взглядъ на Ермолова сдѣлалъ на меня сильное впечатлѣніе… Высокій, могучій ростъ генерала, его прямая воинская осанка, лицо рѣдко встрѣчаемой мужской красоты, умные глаза и вообще непринужденность и привѣтливость всей особы поразили меня. — „А, кровь моя, артиллеристы!..“ и всякаго изъ насъ подарилъ или вопросомъ, или пріятнымъ словомъ. Я вышелъ отъ Алексѣя Петровича совершенно очарованный и, садясь съ товарищами на дрожки, сказалъ: непремѣнно буду служить у него подъ начальствомъ“. И дѣйствительно, въ 1822 г. Бриммеръ перешелъ на Кавказъ и тотчасъ пошелъ съ Ермоловымъ въ Кабарду. Оставляя въ сторонѣ живо описанныя военныя дѣйствія, приведемъ нѣсколько чертъ объ Ермоловѣ. Послѣ одного дѣла съ непріятелемъ, причемъ было отбито много скота (баранты), къ начальнику штаба подходить маіоръ Павловъ (зять Алексѣя Петровича, бывшій въ отрядѣ за дежурнаго штабъ-офицера) и громко спрашиваетъ: „Не прикажете ли изъ лагеря взять казаковъ, чтобы оцѣпить баранту и пересчитать? — Оцѣпить прикажи, но сегодня не считать, а завтра, отвѣчалъ Алексѣй Петровичъ, чтобы солдаты на вольную руку, еще до счета, могли добыть себѣ шашлыка. На завтра, несмотря на поздній счетъ, оказалось 304 лошади, около 500 штукъ рогатаго скота и 12800 барановъ. Такими распоряженіями добываютъ любовь и признательность солдата“.
На обратномъ походѣ на всадниковъ напало множество осъ. „Можно было вообразить свирѣпую нетерпѣливость Алексѣя Петровича, у котораго маленькій Сѣрко былъ облѣпленъ осами. Одинъ штабный офицеръ, веселый малый, проѣзжая мимо меня, говорить: „Хочешь послушать, какъ старикъ ругается. Никому нѣтъ спуску, всѣ держатся отъ него подальше, и тезкѣ (Вельяминову) достается“. Мы приблизились къ группѣ офицеровъ, ѣхавшихъ позади Алексѣя Петровича, и, увы, услышали, что, перебравъ всѣхъ окружающихъ (тотъ близко подъѣхалъ и осъ съ собою привезъ; этотъ, отмахивая отъ себя осъ, гонитъ ихъ на него: „ужъ пускай бы, сударь, вашу лошадь кусали, да и у васъ-то крови много у самихъ, нечего гнать ихъ на насъ“, и прочее въ этомъ родѣ) онъ взялся за мірозданіе „Увѣряютъ, что все отлично-хорошо создано на свѣтѣ. Мудрецы, а все Нѣмцы! Въ халатѣ, за стаканомъ пива ему хорошо. Не угодно ли пожаловать сюда въ Кабарду, г-нъ Gelehrter! Пускай-ка осы васъ покусаютъ, да потомъ и разскажите намъ, зачѣмъ созданы осы, комары, мухи и Нѣмцы, и что отъ нихъ пользы?“ Непріятное расположеніе духа выражалось въ такихъ затѣйливыхъ фразахъ и такъ отчетисто, что даже въ самыхъ мелочахъ невольно удивляли и сочетаніе мыслей, и подборъ словъ, и всегда добродушный юморъ. Доѣхали до рѣчки, текущей изъ ущелья, и осы оставили насъ. Алексѣй Петровичъ первый сталъ смѣяться надъ тѣмъ, какъ иногда ничтожное насѣкомое можетъ разстроить расположеніе духа порядочнаго человѣка и, обратился къ одному офицеру, которому сказалъ, чтобы отъѣхалъ отъ него, что онъ ему осъ привезъ: „А вы, милостивый государь, думали, что я и вправду сердился? Совсѣмъ нѣтъ; я только хотѣлъ къ вамъ придраться, чтобы хоть разъ выговоръ сдѣлать; а какъ, по отличной вашей службѣ, вы не дозволяете себѣ выговаривать, такъ вотъ я и придрался, чтобы вы не зазнавались“. Такими рѣчами съ молодыми офицерами генералъ Ермоловъ привлекалъ къ себѣ сердца подчиненныхъ. Если бы всѣ начальники знали, какъ ласковое слово ихъ много значитъ! Но чтобы понять это, заключаетъ Бриммеръ, надобны умъ и сердце“.
Таковъ Ермоловъ въ походѣ. Посмотримъ теперь, каковъ онъ въ мирной жизни.
А. П. Ермоловъ посѣтилъ урочище Гомборы, гдѣ стояла рота Бриммера. Офицеры встрѣтили его у квартиры бригаднаго командира Копылова „Здравствуйте, господа артилеристы!“ Увидѣвъ меня: „Ба! И ты тутъ, Тевтонъ? Что у васъ всегда такая пакостная погода? Или вы это для меня подготовили угощенье?“ Онъ вошелъ въ сѣни и, замѣтивъ кипящіе самовары, развеселился. „Еще разъ здравствуйте, господа! А что, Гермогенъ Ивановичъ (Копыловъ), кажется, вы насъ чаемъ хотите напоить? И дѣло! Что тамъ ни говори, а лучше самовара и Нѣмецъ ничего не выдумаетъ!“ Вечеромъ Алексѣй Петровичъ играетъ въ карты (въ бостонъ). „Игра осталась за Ховеномъ, Могилевскій пасуетъ, Алексѣй Петровичъ идетъ въ вистъ. Играютъ. Все идетъ хорошо. У Алексѣя Петровича уже двѣ взятки. Ховенъ беретъ свою послѣднюю, пятую; остается на рукахъ по двѣ карты; у Алексѣя Петровича дама бубенъ отыгралась, и онъ разсчитываетъ ею взять третью взятку. Вдругъ Ховенъ ходитъ съ трефъ. Происходитъ взрывъ: Съ бубенъ, ваше превосходительство, съ бубенъ надо ходить! Я вамъ показалъ, что у меня дама бубенъ! — Да у меня бубенъ нѣтъ! — Да я не прошу съ большой — хоть съ двоечки, сударь, съ двоечки!“ И видѣть эту колоссальную голову Ермолова, вытянутую впередъ, обѣ ладони вывернутыми надъ столомъ, чуть ли не слезно-умоляющимъ голосомъ взывающаго: „хоть съ двоечки, сударь, съ двоечки!“ Когда всѣ бросили карты на столъ, оказалось, что бубенъ ни у кого не было. Говорятъ, что за ломбернымъ столомъ у него всегда вызываются подобныя убѣжденія. Онъ всегда весь въ томъ дѣлѣ, которымъ занятъ“. Замѣтимъ, что Ермоловъ никогда не игралъ за себя. Такъ какъ онъ всегда почти проигрывалъ, ибо игралъ рискованно, надѣясь на вистъ, то разъ какъ-то онъ началъ оправдывать свою горячность: „вамъ хорошо проигрывать хладнокровно свое состояніе (игра была всегда самая ничтожная), а я долженъ за игру другого стоять горой“. Вообще о поѣздкахъ Ермолова по штабъ-квартирамъ войскъ въ Грузіи Бриммеръ разсказываетъ такъ, что сильно смягчаетъ краски разсказовъ о томъ же Н. Н. Муравьева въ Запискахъ послѣдняго и этимъ подтверждаетъ, что послѣднія, несмотря на свой интересъ, слишкомъ носятъ на себѣ отпечатокъ характера ихъ автора. Кстати Бриммеръ даетъ слѣдующую характеристику будущаго Кавказскаго намѣстника: „По службѣ педантъ до мелочности, самолюбивъ до уродливости, недовѣрчивъ до обиды; но, когда хотѣлъ, могъ быть любезенъ, привѣтливъ и незнакомыхъ даже обворожить любезностью. Что̀ въ сильномъ характерѣ называется твердостью, у него было упрямствомъ. Онъ никогда не признавалъ причинъ дѣйствій въ другомъ, но свои доводы были въ его глазахъ всегда непогрѣшимы. Человѣкъ былъ своевольный иногда до смѣшнаго, и все изъ самолюбія“.
Вотъ еще немалая заслуга Ермолова на Кавказѣ. „По Четвергамъ и по Воскресеньямъ у Алексѣя Петровича собиралось все общество Тифлиса, т. е. только мущины; иногда бывали танцы. Дамъ было весьма мало. Грузинки, только что начинали принимать участіе въ нашей жизни и, кажется, были очень обязаны генералу Ермолову, что онъ убѣдилъ мужей ихъ и отцовъ заняться серьезнѣе хлѣбопашествомъ, распахивая пустопорожнія мѣста. Это убѣжденіе, приведенное почти во всемъ краѣ въ исполненіе, дало намъ хлѣбъ, Грузинамъ — деньги, а красавицамъ — наряды. Въ послѣдніе годы его правленія войска, расположенныя въ Грузіи и Карталиніи, могли уже продовольствоваться туземнымъ хлѣбомъ, тогда какъ доставка его изъ Россіи черезъ Баку и Кавказскія горы обходилась очень дорого. И плугъ понемногу вытѣснилъ саблю изъ занятій обитателей Закавказья“.
Любовь, внушаемая личностью Алексѣя Петровича, обрисовывается въ разсказѣ Бриммера о болѣзни его въ 1825 году; а вотъ случай, показывающій, какъ смотрѣли на него горцы. На ночлегѣ у Терека, во время движенія Ермолова въ 1825 г. къ дер. Андреевой, „ему доложили, что изъ Андреевой пришли два почтенныхъ Кумыка и хотятъ его видѣть. Когда ихъ допустили къ нему, они поклонились и хотѣли уйти. Что̀ съ ними? Вѣдь не за тѣмъ же они пришли, чтобы посмотрѣть на меня? сказалъ онъ переводчику. — Именно затѣмъ, сказали Кумыки: у насъ въ Андреѣ распустили слухъ, что ты померъ и что другой генералъ надѣлъ твой мундиръ и называетъ себя Ермолой. Вотъ какъ мы тебя видѣли прежде и знаемъ, то насъ и послали посмотрѣть, и слава Аллаху, что ты живъ; а то не удержать бы нашу молодежь!“ Одинъ Кумыкъ говорилъ: „Ермолой — большой человѣкъ, ума много; онъ говоритъ, какъ кулакомъ бьетъ; мало, крѣпко и больно; это хорошо!“ — „Напрасно объ Алексѣѣ Петровичѣ говорятъ, что онъ былъ жестокъ, это неправда; но онъ былъ разумно строгъ“. „Этотъ харамъ-зада̀ (собачій сынъ) всему виноватъ, говорилъ Чеченецъ-сынъ, указывая на отца, шедшаго сквозь строй; если бы не онъ, насъ бы не били теперь!“ Развѣ можно быть добродушнымъ съ народомъ, изъ среды котораго сынъ ругаетъ отца? Эта разумная строгость, это неуклонное исполненіе долга при взысканіяхъ (всегда непріятныхъ для благороднаго человѣка), простое, привѣтливое обращеніе, свято исполняемое обѣщаніе, угроза ли она или милость, все это при колоссальной, могучей фигурѣ, съ нависшими бровями, умной, иногда шутливой рѣчи и знаніи Татарскаго языка, наводило страхъ на горцевъ и внушало имъ уваженіе къ одному имени „Ермолою“.
„Однажды, въ Январѣ мѣсяцѣ 1826 года, въ станицѣ Червленной, мы пили чай въ его казацкой хатѣ… Алексѣй Петровичъ сидѣлъ за своимъ письменнымъ столомъ и раскладывалъ пасьянсъ. Онъ былъ въ веселомъ расположеніи духа и разсказывалъ разные случаи изъ своей военной жизни. Припомню нѣкоторые. Извѣстно, что въ Аустерлицкомъ сраженіи мы потеряли много артиллеріи. Вслѣдъ за тѣмъ была Прусская кампанія, и эта потеря артиллеріи вызвала у главнокомандующаго приказъ по арміи, въ коемъ сказано было, что офицеръ, потерявшій орудіе, будетъ отданъ подъ судъ. Я командовалъ тогда артиллеріею въ авангардѣ князя Багратіона. Получивъ этотъ приказъ, я пошелъ къ князю и говорю ему, что этотъ приказъ дичь, что его могъ написать только Нѣмецъ.
— Говори, да не ругайся, сказалъ Багратіонъ.
— Если за потерю орудія артиллерійскаго офицера будутъ отдавать подъ судъ, то онъ почтетъ первою святою обязанностью своею не дѣйствовать по непріятелю и сколь возможно болѣе вредить ему, но сохранять въ цѣлости орудія, и потому не будетъ выжидать не только пѣхотнаго наступленія, но и кавалерійской атаки, а проворнѣе удеретъ, чтобъ не попасть подъ судъ. Артиллерія должна дѣйствовать донельзя: четыре картечныхъ выстрѣла по наступающей пѣхотѣ и непремѣнно два по кавалеріи. Если не охладятъ ихъ, жарь; если орудія будутъ потеряны, то они окупились сильнымъ вредомъ, сдѣланнымъ непріятелю. Орудіе — кусокъ металла, а честь артиллерійскаго офицера дороже.
Я замолчалъ. Князь Багратіонъ выслушавъ меня, спрашиваетъ: — И все-таки приказъ отданъ; что жъ тутъ дѣлать? — Я свой отдамъ приказъ по авангардной артиллеріи. — Ну, дѣлай, какъ знаешь!
Я отдалъ приказъ, согласно того, что̀ высказалъ князю, и кончилъ его увѣренностью, что ни одинъ артиллерійскій офицеръ не захочетъ подвергнуться военному суду за раннее оставленіе позиціи.
Чрезъ нѣкоторое время Александръ I догналъ однажды авангардъ и спросилъ, между прочимъ, Ермолова „Какъ ты это позволилъ себѣ отдать приказъ по авангардной артиллеріи, совершенно противорѣчащій приказу главнокомандующаго?“
— Ваше Величество, приказъ главнокомандующаго поставилъ артиллерійскаго офицера въ постыдное положеніе забыть присягу, данную Вашему Величеству: служить вѣрою и честію до послѣдней капли крови. Нѣтъ страшнѣе наказанія офицеру, какъ угроза подъ судъ.
И я разсказалъ что̀ говорилъ Багратіону.
— Полагаю, что ты правъ. А главнокомандующій сердитъ?
Тѣмъ дѣло и кончилось.
Ермоловъ замолчалъ. Я воспользовался минутой и спросилъ его: Ваше высокопревосходительство, дозвольте спросить у васъ, правда ли, что вы Нѣмцевъ не жалуете?
— Ну, братецъ, нельзя сказать, чтобы я горячо любилъ вашу братію; но, вѣдь, случаются же и между вами хорошіе люди; вотъ Бистромъ — дѣйствительно человѣкъ безстрашный, я любилъ его1. Есть, есть и между вами порядочные люди; но вѣдь это все Тевтоны.
— Ну, а про ваше выс-ство говорятъ, что вы Нѣмцевъ совсѣмъ терпѣть не можете, и Богъ знаетъ, что̀ разсказываютъ.
— Ну, что же разсказываютъ? Говори.
— Будто вы главную квартиру Фельдмаршала Барклая называли Нѣмецкою колоніею.
— Ну да, тамъ и была Нѣмецкая колонія.
— Что въ 14-мъ году, пріѣхавши въ Варшаву, вы пришли къ разводу и, озираясь кругомъ, будто ищете кого, подходите къ коменданту главной квартиры генералу Безродному (Ермоловъ улыбается) и по-нѣмецки что-то его спрашиваете. „Я не говорю по-нѣмецки, отвѣчаетъ вамъ комендантъ; я Русскій“. — „Русскій! землякъ! говорите вы, обрадовавшись: я думалъ, что тутъ все Нѣмцы; ну вотъ хоть одинъ Русскій, да и тотъ безродный!“
— Хорошій человѣкъ былъ этотъ Безродный, промолвилъ Ермоловъ. Русскихъ такъ мало было въ главной квартирѣ, что ихъ, точно, искать надо было. Ну, что жъ еще разсказываютъ?
— Вотъ и объ Аракчеевѣ говорятъ, что онъ, инспектируя роту вашего высок-ства, нашелъ, что лошади не въ порядкѣ и выговаривалъ вамъ, сказалъ, что этакъ рота репутацію потеряетъ; а вы ему въ отвѣтъ: точно, ваше прев-ство, нынѣ репутація артиллерійскаго офицера отъ скотовъ зависитъ!
— Ужъ будто я такъ сказалъ? Чего не наговорятъ! Алексѣй Андреевичъ былъ очень ко мнѣ расположенъ, и продолжалъ уже объ Аракчеевѣ.
Можетъ показаться страннымъ, что молодой офицеръ позволялъ себѣ такіе разговоры съ высокимъ начальникомъ, но Алексѣй Петровичъ любилъ свободное обхожденіе, а моя непринужденность, никогда не выходившая изъ границъ, и усердная служба, видимо, нравились ему. Такая болтовня за пасьянсомъ была ему отдыхомъ.
Что подобное отношеніе къ подчиненнымъ (примѣровъ его еще много разсѣяно въ Запискахъ Бриммера) не вредило службѣ, лучше всего доказывается и тѣмъ, что̀ сдѣлано Алексѣмъ Петровичемъ съ ничтожными средствами на Кавказѣ, и тою плеядою дѣятелей, которая была оставлена имъ въ наслѣдство своимъ пріемникамъ, къ числу которой принадлежалъ авторъ воспоминаній, достигшій высшихъ служебныхъ положеній.
Примѣръ отношеній къ солдату мы видѣли во время Кабардинской экспедиціи; а вотъ какъ въ Августѣ 1820 г. встрѣчалъ онъ свой „геройскій легіонъ“, какъ онъ называлъ Ширванскій полкъ. „Чтобы ускорить прибытіе ихъ, Алексѣй Петровичъ написалъ командовавшему двумя баталіонами подполк. Ускову коротенькое письмо, въ коемъ фраза: „расправьте крылья, Кавказскіе орлы, и спѣшите бить Персіянъ“, прочтенная Усковымъ солдатамъ и офицерамъ, замѣнила маршрутъ. Полкъ дѣлалъ до 50-ти и болѣе верстъ въ сутки и не оставилъ ни одного больного или отсталаго на разстояніи 300 слишкомъ верстъ. Можно представить себѣ контрастъ: гвардейскій полкъ при вступленіи въ городъ былъ одѣтъ въ мундиры, со всевозможною опрятностью, а за нимъ шли два баталіона Ширванскаго полка въ походной формѣ, т.е. въ шинеляхъ, вмѣсто ранцевъ — Кавказскіе мѣшечки черезъ плечо, въ фуражкахъ; у офицеровъ вмѣсто шпагъ шашки. Едва прошли мимо корпуснаго командира, какъ передъ баталіонами пѣсенники затянули родныя Русскія солдатскія пѣсни. Проходили по отдѣленіямъ, при чемъ Ширванцы такъ и пожирали глазами любимаго начальника, а онъ — кому привѣтливое слово, кому головой кивнетъ; то слышны „здравствуй, молодецъ Петровъ!“, то — „здорово, Сидоровъ!“, то — „спасибо, ребята, что поторопились!“ и т. д. А генералъ-адъютантъ Паскевичъ стоитъ тутъ же, подлѣ Ермолова, и только что не пожимаетъ плечами, слыша привѣтствія, отпускаемыя Алексѣемъ Петровичемъ этимъ оборванцамъ, и громкое, радостное: „рады стараться!“
Сердечныя отношенія, вытекавшія изъ подобныхъ отношеній и не мало способствовавшія и успѣхамъ служебнаго дѣла, видны въ разсказѣ Бриммера о встрѣчѣ его въ Екатериноградѣ съ уѣзжавшимъ въ Россію Ермоловымъ.
— Онъ принялъ меня, какъ роднаго, оставилъ пить чай и продержалъ часа два… Раскладывая пасьянсъ, говорилъ о своемъ смѣщеніи, какъ Дибичъ, присланный Государемъ, усердно работалъ съ нимъ, какъ онъ выспрашивалъ его о всѣхъ приготовленіяхъ, о средствахъ края и ожидаемыхъ изъ Россіи, а также мнѣнія Алексѣя Петровича о планѣ кампаніи. И когда все это было у него въ карманѣ, прибавилъ Ермоловъ, онъ выждалъ перваго курьера изъ Петербурга и предъявилъ мнѣ высочайшій приказъ, бывшій у него давно за пазухой.
Когда онъ кончилъ, и могучая голова какъ бы съ неудовольствіемъ наклонилась, я хотѣлъ что-то сказать и остановился. Алексѣй Петровичъ поднялъ голову, посмотрѣлъ на меня.
— Ты что-то хотѣлъ сказать, говори.
— Извините, ваше высокопр., такъ, ничего.
— Говори, Тевтонъ! Что̀ ты хотѣлъ сказать?
— Да вотъ, ваше высокопр., мы всѣ думали, что если бы вы на коронацію да поѣхали къ Государю, то всѣхъ бы ихъ тамъ, Петербургскихъ-то, за поясъ заткнули.
Онъ молчалъ и, Богъ вѣсть, не сознавалъ ли въ эту минуту справедливости общаго желанія, выраженнаго въ моей простой рѣчи. Я всталъ, чтобы откланяться. Алексѣй Петровичъ поцѣловалъ меня.
— Прощай, Тевтонъ; прощай, лучшій изъ Нѣмцевъ! Служи хорошенько, чтобы видѣли, что я отличалъ дѣльныхъ офицеровъ. Растроганный, прослезившись, я вышелъ отъ этого необыкновеннаго человѣка.
Благородный Тевтонъ оканчиваетъ такъ свои воспоминанія объ Алексѣѣ Петровичѣ:
„Противникамъ его (а у него ихъ было много) я скажу кратко: всякій человѣкъ имѣетъ недостатки; но пускай эти господа заставятъ уважать и любить себя такъ безгранично, какъ уважали и любили Алексѣя Петровича Ермолова, кто его зналъ, и тогда пускай тѣшатся и бросаютъ камни въ его огородъ“.
•••
Заключимъ нашу замѣтку благодарностью генералу Чернявскому, редактору „Кавказскаго Сборника“ за помѣщеніе на его страницахъ Записокъ Э. В. Бриммера, и пожеланіемъ, чтобы продолженіе этихъ высокоинтересныхъ Записокъ не заставило себя долго ждать. Онѣ дѣлаютъ честь, какъ внушившему ихъ, такъ и писавшему.
☆☆☆
-
Въ бесѣдахъ съ А. П. Ермоловымъ (1854 г.), намъ случалось слышать отъ него большія похвалы графу Петру Петровичу Палену. И. Б. ↩
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.