Начала и Концы
„Либералы“ и Террористы
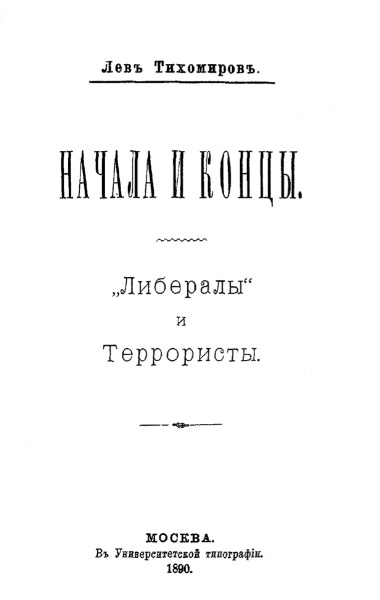
Содержаніе:
Начала и Концы.
1.
Острыя послѣдствія ошибочнаго міросозерцанія проявляются только тогда, когда оно дозрѣло до своихъ логическихъ выводовъ. До этого момента оно проявляется въ формахъ по наружности безобидныхъ, никого не пугающихъ. Именно этимъ и опасенъ періодъ назрѣванія, тихаго, прикрытаго развитія. Оно не внушаетъ опасеній, не вызываетъ энергическаго противодѣйствія со стороны своихъ противниковъ. Люди безразличные равнодушно смотрятъ, какъ ихъ дѣтямъ, или имъ самимъ прививаютъ постепенно точки зрѣнія, отъ которыхъ они бы со страхомъ отвернулись, еслибы могли понять концы этихъ началъ. Немногіе проницательные умы безплодно играютъ печальную роль Кассандры. Ихъ предостереженія выставляются бредомъ маніака, на который смѣшно было бы обращать вниманіе. Въ такой обстановкѣ эволюція торжествующей идеи идетъ все шире, все съ большимъ радіусомъ дѣйствія, развивая наконецъ силы, которыхъ уже ничто не можетъ сокрушить, до тѣхъ поръ, по крайней мѣрѣ, пока зло, ставъ торжествующимъ, не съѣстъ само себя, пожравъ вмѣстѣ съ тѣмъ и возрастившую его страну.
Въ этомъ поступательномъ развитіи самое страшное то, что съ каждымъ десятилѣтіемъ, съ каждымъ годомъ, все большее число людей привыкаютъ къ извѣстнымъ точкамъ зрѣнія и къ постепеннымъ выводамъ изъ нихъ. Сначала — кажется страшно и нелѣпо сказать: „Польша держится неустройствомъ“; начинаютъ съ безобидныхъ вещей: „ну, ужъ такой порядокъ хуже безпорядка“, или „нельзя же изъ порядка дѣлать себѣ кумира“, и т. п. Привыкши къ смягченной формулѣ, обостряютъ ее немного, потомъ еще и еще. Это дѣлается не съ какимъ-нибудь тонкимъ разсчетомъ, не разумомъ, вдохновляемымъ злою волей, а именно отсутствіемъ разума. Очень немногіе, исключительно прозорливые умы способны заранѣе предусмотрѣть конечные выводы даннаго міросозерцанія. Но въ какую бы нелѣпую толпу ни была вложена извѣстная идея, она непремѣнно сама, шагъ за шагомъ, скажетъ постепенно свой выводъ. Разумъ, способный предвидѣть его, борется заранѣе, обличаетъ самую идею въ ложности. Безсмысліе, не предвидящее вывода, не борется, освоивается съ идей, привыкаетъ къ ней какъ къ математической аксіомѣ, и потомъ, подходя наконецъ къ выводу, невольно уже и ему подчиняется, хотя бы съ отвращеніемъ, какъ чему-то неизбѣжному. Что́, дескать, дѣлать? Можетъ быть пріятнѣе было бы еслибы земля насъ не притягивала, но это — законъ природы.
Вопросъ: „точно ли законъ природы? не есть ли вздоръ въ самомъ основаніи идеи приводящей къ нелѣпому или преступному?“ — этотъ вопросъ можетъ легко представиться среднему, дюжинному уму, пока онъ не увѣровалъ въ свою идею какъ въ нѣчто абсолютно истинное. Но разъ онъ затвердилъ ее совершенно наизусть — дѣло кончено. Онъ слишкомъ слабъ чтобы не закончить своего логическаго круга до конца. Какія бы ни происходили бѣдствія, нелѣпости, онъ все будетъ болѣе склоненъ къ болѣе легкому, то есть будетъ искать лѣкарства не въ критикѣ основъ, а во все болѣе и болѣе логическомъ ихъ примѣненіи. Плохо дѣйствуетъ конституціонная монархія, онъ попробуетъ республику, уничтожитъ цензы, введетъ всенародное голосованіе законовъ, раздробитъ власть чуть не между всѣми деревнями, дойдетъ до liberum veto, попробуетъ идеи современныхъ анархистовъ, уже произнесшихъ послѣднее слово „самоуправленія“ въ видѣ l’autonomie individuelle, — словомъ, перепробуетъ всѣ выводы до послѣдняго звена, и ужъ развѣ окончательно ударившись лбомъ объ стѣну, способенъ будетъ воскликнуть: „какой же я, однако, былъ идіотъ, вѣдь идея-то просто чушь; мудрено ли что изъ нея ничего не выходитъ!“
Къ сожалѣнію, это наглядное обученіе сто́итъ слишкомъ дорого. Въ немъ ставится на карту самое существованіе страны.
И потому-то выгоднѣе если созрѣваніе ложной идеи не затягивается слишкомъ надолго. Выгоднѣе если она, еще не охвативъ и не ослѣпивъ большихъ народныхъ слоевъ, показываетъ на чемъ-нибудь маломъ свое приблизительно послѣднее слово пока въ странѣ еще находится достаточно свѣжихъ силъ, способныхъ воспользоваться указаніемъ.
2.
Такое указаніе Россія пережила въ семидесятыхъ годахъ. За исключеніемъ смутнаго времени, у насъ не было испытанія болѣе тяжелаго. Это не было монгольское иго, вражеское нашествіе, бѣдствіе внѣшняго происхожденія, но явленіе внутренняго, собственнаго нашего духовнаго разложенія, гдѣ
Эта болѣзнь… къ смерти ли? къ большей ли славѣ Божіей? Вопросъ рѣшается нами самими, нашею способностью понять указаніе и съ нимъ сообразоваться. Если у насъ не хватитъ смысла даже на это, небо дѣйствительно нельзя обвинить ни въ чемъ. Какою-то странною ошибкой, непростительнымъ съ точки зрѣнія революціонера промахомъ, какою-то странною, необъяснимою съ правительственной точки зрѣнія поблажкой, „передовое“ „культурное движеніе“ въ немного лѣтъ было ободрено настолько, что изъ своихъ неприступныхъ позицій легальной дѣятельности вышло въ открытое поле. Умолчанія всякія „съ одной стороны нельзя не допустить, съ другой нельзя не сознаться“, „езоповскій языкъ“ и клинообразная либеральная логика, гдѣ не только простодушный обыватель, но и самъ чортъ ногу сломитъ, — все это отброшено, выводы дѣлаются прямо, смѣло, человѣческимъ языкомъ, слово не расходится съ дѣломъ. Вихорь закрутился со всею силой, какая доступна горсти охваченныхъ имъ жертвъ, и въ немного лѣтъ описываетъ полный логическій кругъ. Концы соединяются съ началами.
Зашумѣлъ, закрутилъ, раздавилъ что́ могъ, и стихъ, какъ будто спрашивая: „Нравится ли вамъ? Этого ли вы желаете? Или чего-нибудь еще покрупнѣе? Въ такомъ случаѣ продолжайте, господа, а за мной дѣло не станетъ. Только заготовляйте мнѣ побольше матеріалу.“
Стоимъ и мы, и спрашиваемъ себя: „этого ли хочетъ Россія?“ И на кого ей жаловаться, если она все-таки ничего не пойметъ, ничего не измѣнитъ? Въ концѣ концовъ, нація, желающая существовать, обязана имѣть нѣкоторое количество здраваго смысла. Еслибъ она не могла понимать даже самыхъ ясныхъ актовъ совершающихся предъ ея глазами, развѣ справедливость не требуетъ, чтобъ она очистила свое мѣсто въ исторіи для кого-нибудь болѣе способнаго?
3.
Оставляя будущее будущему, нельзя не сказать что въ настоящемъ и прошломъ самое вредное обстоятельство составляло и составляетъ не существованіе и проповѣдь чистыхъ революціонеровъ, а то, что множество людей для себя и для другихъ выставляютъ чисто революціонную проповѣдь чѣмъ-то совершенно оторваннымъ отъ общаго міросозерцанія нашего образованнаго общества. Это дѣлается иными — по дѣйствительному непониманію, другими — изъ желанія замаскировать свою собственную пропаганду, третьими — подъ вліяніемъ оскорбленнаго патріотическаго чувства, не способнаго переварить мысли о всей глубинѣ паденія политическаго смысла въ цѣломъ огромномъ слоѣ. При какихъ бы то ни было побужденіяхъ, — это ошибка или ложь, которая выгодна лишь для людей, втихомолку продолжающихъ выработку революціонеровъ.
Правду, сколь бы ни была она печальна, выгоднѣе знать и ясно себѣ представлять.
4.
Поколѣніе семидесятыхъ годовъ кто угодно и какъ угодно можетъ бранить, не я ему стану противорѣчить. Но всѣ эти порицанія еще въ сильнѣйшей степени будутъ падать на духовныхъ отцовъ, воспитателей, создавшихъ поколѣніе семидесятыхъ годовъ, заранѣе обрекшихъ его на безплодіе и гибель. Это было истинно „поколѣніе проклятое Богомъ“, какъ обмолвился одинъ поэтъ его. Собственно говоря, оно было до такой степени подготовлено, что чисто революціонной пропагандѣ въ немъ почти нечего было дѣлать. Потому-то они и шли такъ легко. Не было бездарности не способной ее вести, а мало-мальски способный человѣкъ торжествовалъ безусловно повсюду, куда ни являлся.
Въ 1873–74 году по всей Россіи разыскивали нѣкоего Дмитрія Рогачева. У слѣдователей онъ пріобрѣлъ репутацію знаменитости, и дѣйствительно — многихъ онъ привелъ на путь революціи. Я, помню, былъ крайне удивленъ, услыхавъ объ этихъ подвигахъ: Рогачева я прекрасно зналъ. Это было добродушнѣйшее существо, силачъ, богатырь сложеніемъ, но столь, какъ говорится, простъ, столь несвѣдущъ, что кружокъ Чайковцевъ, при всѣхъ личныхъ симпатіяхъ къ Рогачеву, никакъ не рѣшился принять его въ число членовъ. Кого и въ чемъ могъ онъ убѣдить? Въ послѣдствіи, уже арестованный, онъ началъ писать свои воспоминанія и усердно потѣлъ надъ ними. Кое-кто изъ адвокатовъ, имѣвшихъ случай видѣть это произведеніе „знаменитаго пропагандиста“, на процессѣ 193-хъ удостоившагося мѣста среди пяти „наиболѣе отличныхъ“, были до жалости разочарованы. Дѣйствительно, трудно себѣ представить что-нибудь болѣе, — не говорю уже литературно-бездарное, — но пустое, безъ одной искры содержанія. Этотъ человѣкъ, исколесившій полъ Россіи, побывавшій въ разнообразныхъ кружкахъ интеллигенціи, въ рабочихъ артеляхъ, среди бурлаковъ, сектантовъ и т. д., даже ничего не замѣтилъ, не запомнилъ, какъ будто онъ всѣ эти два–три года оставался зарытымъ въ землю.
И онъ-то десятками „совращалъ“ молодежь! Понятно, что въ дѣйствительности онъ никого и ничего не совращалъ. Онъ бралъ готовое. Онъ былъ ходячее знамя, около котораго сами собирались.
Нѣкто, какъ видно по разсказу, бывшій морской офицеръ разсказываетъ въ старомъ эмигрантскомъ журналѣ (Вѣстникъ Народной Воли, т. Ѵ, стр. 64), — и притомъ очень не дурно, — сцену своего „совращенія“. Извѣстный Сухановъ (государственный преступникъ, въ послѣдствіи казненный) устроилъ у себя политическую конференцію. Ораторствовалъ не менѣе извѣстный Желябовъ. Онъ вполнѣ, не стѣсняясь, изложилъ свои планы. „При первыхъ словахъ «мы — террористы - революціонеры»“, разсказываетъ очевидецъ, всѣ какъ бы вздрогнули и съ недоумѣніемъ посмотрѣли другъ на друга. Но потомъ начали слушать съ напряженнымъ вниманіемъ. Беззаботная, довольно веселая компанія, какъ бы по мановенію волшебнаго жезла, стала похожею на группу заговорщиковъ. Лица поблѣднѣли, глаза разгорались. Когда онъ кончилъ, начались оживленные разговоры, строились всевозможные планы самаго террористическаго характера. Еслибы въ это время вошелъ посторонній человѣкъ, онъ подумалъ бы что попалъ на сходку рьяныхъ террористовъ. Онъ, восклицаетъ авторъ, не повѣрилъ бы что за часъ до этого всѣ эти люди частію не думали о политикѣ, частію относились даже съ порицаніемъ къ террористамъ.“
Что́ означаетъ эта сцена? Пересоздалъ ли ораторъ этихъ людей за ¹⁄₂ часа? Такой вздоръ стыдно даже подумать. Авторъ воспоминаній самъ прекрасно объясняетъ какъ онъ съ товарищами „не думали о политикѣ“ или „относились съ порицаніемъ“. Дѣло очень просто. „Искренне ненавидя и т. д.“, — говоритъ онъ, — „мы не вѣрили въ возможность скораго переворота въ Россіи; наши желанія дѣятельности сводились къ стремленію работать въ земствѣ. Мы мечтали, выйдя въ отставку, попасть въ земство и посредствомъ него вести борьбу съ правительствомъ. Въ силу революціонной партіи мы не вѣрили“ (стр. 61).
Такъ вотъ какихъ „благонамѣренныхъ“ людей совратилъ пропагандистъ. Они не вѣрили въ силу, и потому собирались стать благонамѣренными подавателями оппозиціонныхъ адресовъ. Нашелся ловкій человѣкъ, одурманившій на минуту, показавшій товаръ лицомъ, и наши „благонамѣренные“ начинаютъ строить планы „самаго террористическаго характера“. Положа руку на сердце — много ли сдѣлалъ пропагандистъ? Въ немъ ли суть, или въ томъ и тѣхъ кто воспиталъ эту молодежь въ такомъ духѣ, что она немедленно рѣшилась примкнуть къ революціонному дѣйствію, какъ только повѣрили, хотя бы и ошибочно, въ его возможность?…
И еще къ какому дѣйствію! Въ какихъ его формахъ и проявленіяхъ!
5.
Мое дѣтство не предсказывало, повидимому, никакихъ „революцій“. У насъ въ семьѣ вѣрили въ Бога, не тѣмъ упрощеннымъ лютеранскимъ способомъ, который я часто вижу теперь, а по-настоящему, православному. Для насъ существовали и церковь, и таинства. Помню до сихъ поръ то чувство, съ которымъ я молился во время Херувимской, увѣренный что въ такую минуту Господь менѣе всего захочетъ отказать моей дѣтской мольбѣ. Я очень любилъ Россію. За что́ — не знаю, но я гордился ея громадой, я считалъ ее первою страной на свѣтѣ. Смутно, но тепло ощущалъ я идеалъ всемогущаго Царя, повелителя всего и всѣхъ… Такимъ меня сдавали дѣтскіе годы на руки общественнымъ вліяніямъ.
Нужно ли разсказывать какъ быстро все это рухнуло?
„Духъ времени“, впрочемъ, невольно прокрадывался и въ первоначальное воспитаніе, не въ видѣ того чему учили, а въ томъ какъ учили. Въ школѣ, нечего и говорить, онъ уже царилъ въ то время (1864–70) безраздѣльно.
Въ какую-то реакцію старинному „не разсуждать — повиноваться“, насъ всѣхъ вели по правилу: „не повиноваться, а разсуждать“. Наши воспитатели рѣшительно не понимали, что первое качество дѣйствительно развитаго разума есть пониманіе предѣловъ своей силы и что насколько разсужденіе обязательно въ этихъ предѣлахъ, настолько оно даже неприлично для умнаго человѣка внѣ ихъ, гдѣ именно разумъ и заставляетъ просто „повиноваться“, искренно, сознательно подчиняться авторитету.
Въ наше время не понимали, что разсужденіе безразсудное, не соображенное со своими личными или вообще человѣческими силами, приводитъ необходимо къ сумбуру, и даже ничуть не избавляетъ отъ подчиненія авторитетамъ; только это подчиненіе уже безсознательное, подчиненіе не тому, что́ мы разумно сознали высшимъ себя, а тому, что́ намъ умѣетъ польстить, эксплуатировать наши слабыя стороны.
Съ малолѣтства намъ все объясняли, доказывали, пріучали къ вѣрѣ, что истинно лишь то, что́ намъ понятно. Это было выращиваніе не самостоятельнаго ума, а своевольнаго. Я, помню, десяти лѣтъ читалъ Міръ до сотворенія человѣка, — и съ какимъ трепетомъ! Какъ боялся я, чтобъ авторъ не разрушилъ моей святыни! Но мнѣ и въ голову не приходило, чтобъ я не могъ браться за рѣшеніе вопроса кто правъ: Моисей или Циммерманъ. Постарше, я уже прямо говорилъ себѣ: „пусть я ошибаюсь, но я разсудилъ самъ, и не моя вина если я не могъ разсудить лучше!“ Мнѣ и въ голову не проходило что еслибъ я дѣйствительно доходилъ до всего самъ, то весь вѣкъ остался бы дикаремъ. Это горделивое „разсудилъ самъ“ означало просто-напросто: взялъ у людей же, но только наиболѣе слабое, простое, легче всего усвоиваемое. А еслибы бралъ не „самъ“, а по рекомендаціи великихъ историческихъ авторитетовъ, то взялъ бы самое сильное, дѣйствительно вѣрное, но именно поэтому трудно усвоиваемое, до чего „самъ“ не дойдешь, если не проживешь 1.000 лѣтъ.
При этомъ преувеличенномъ довѣріи къ правамъ своего ума, мы менѣе чѣмъ какое другое поколѣніе могли имъ дѣйствительно пользоваться, такъ какъ умѣнье работать крайне подрывалось отсутствіемъ дисциплины ума. Самое понятіе о дисциплинѣ ума совершенно стушевалосъ въ школѣ моего времени (1864–1870). Наши худшіе учителя были еще, можетъ быть, менѣе вредны. Они учили, по крайней мѣрѣ, скучно, безсознательно, заставляя насъ дѣлать надъ собой нѣкоторое усиліе. Хорошіе учителя были насквозь проникнуты манерой заинтересовывать. Мы учились у нихъ не тому, что́ нужно и не по тому, что это нужно, а тому что́ интересно, что́ само насъ захватывало. Мы были не господами, а рабами предмета. Мы учились не устремлять вниманіе преднамѣренно, а только отдаваться впечатлѣнію. Это была полная потеря мужественной самостоятельности ума, умѣнья и наклонности брать предметъ съ бою: и при такой разслабленности, женственности, склонности поддаваться интересу, то-есть тому, что́ легче затрогиваетъ фантазію, при этомъ — за грѣхи родителей — глубочайшая вѣра въ свой умъ и въ истину того, что́ онъ якобы намъ указываетъ! Достаточно одной такой закалки (правильнѣе: раскалки) ума чтобъ осудить поколѣніе на безплодіе.
Это воспитаніе вмѣстѣ съ тѣмъ обязательно отрывало насъ отъ старой исторической культуры, съ Божіею помощью и усиліями милліардовъ людей развивавшейся на землѣ съ сотворенія міра. Эта культура полна авторитетами, нерѣдко непостижимыми. Примкнуть къ ней можно или съ полною наивностью, или съ очень хорошею дрессировкой ума, выработаннаго въ силу зрѣлую, умѣющую и господствовать, и повиноваться. Дѣтская наивность у насъ исчезла, но на ея мѣсто явилось разсужденіе своевольное и дряблое. Старая культура становилась для насъ съ этого момента недоступною.
Мы бы искали новаго, болѣе легкаго, болѣе по плечу себѣ, но нечего было и искать. Оно окружало насъ со всѣхъ сторонъ. Вѣдь оно же насъ и создало. Достаточно было плыть по теченію.
6.
Все, что́ я слыхалъ юношей, систематически подрывало мои дѣтскія вѣрованія. Я видѣлъ вокругъ себя исполненіе религіозныхъ обрядовъ, но — или не искреннее, или стыдящееся само себя. Образованный человѣкъ или не вѣрилъ, или вѣрилъ находясь въ противорѣчіи съ собственными убѣжденіями. Чего только юношей, мальчикомъ, не приходилось слыхать или читать о религіи!
Книги говорили не о православіи. Говорилось о суевѣріяхъ католицизма, о непослѣдовательности протестантизма, объ изувѣрствѣ клерикаловъ, даже съ прибавленіемъ, что все это не относится къ православію. Насмѣшливая оговорка была слишкомъ ясна, тѣмъ болѣе что матеріализмъ проповѣдывался открыто. Но если нѣтъ Бога, если Христосъ человѣкъ, то, конечно, не трудно разсудить что́ такое православіе.
Я очень рано началъ читать Писарева, — и гдѣ же? Мой дядя былъ очень умный и образованный человѣкъ, большой почитатель Московскихъ Вѣдомостей и, по тогдашнему масштабу, консерваторъ. Зачѣмъ такой человѣкъ выписывалъ Русское Слово и оставлялъ его на этажеркѣ? Почему позволялъ онъ мнѣ сидѣть часы, уткнувши носъ въ эти книги? Онъ, конечно, не сумѣлъ бы отвѣтить и самъ. Какъ бы то ни было, Писаревъ скоро сталъ моимъ любимымъ учителемъ. Съ его наставленіями дѣло у меня пошло на всѣхъ парахъ. Лѣтъ пятнадцати я вѣрилъ во всевозможныя „произвольныя зарожденія“, Пуше, Жоли, Мюсси и т. п., столь же твердо, какъ въ шарообразіе земли, или въ невѣжество Пастёра, пустоту Пушкина и „мракобѣсіе“ славянофиловъ.
Я не изъ тѣхъ, которые цѣнятъ религію по ея пользѣ государственной и вообще по соціальному значенію. Но такой первостепенный факторъ, какъ религія, не можетъ не имѣть, между прочимъ, и огромнаго соціальнаго значенія. Вытравленіе изъ насъ понятія о Богѣ, о вѣчныхъ цѣляхъ жизни, объ эпизодичности собственно земной жизни нашей, — оставляло въ душѣ огромную пустоту, повелительно требовавшую наполненія, тѣмъ болѣе что, при всей изуродованности, мы все-таки были Русскіе. Потребность сознанія своей связи съ нѣкоторою вѣчною жизнью, развивающею какой-то безсмертный идеалъ правды — непремѣнно должна была быть удовлетворена. И вотъ, въ видѣ суррогата, является вѣра въ человѣчество, въ социальныя формы, въ соціальный прогрессъ и будущій земной рай матеріализма. Это была вѣра, а не убѣжденіе, вѣра, хотя и перенесенная въ область сравнительно ничтожную, недостойную, вѣра приниженная до нашего умственнаго состоянія. Мы относились къ общественнымъ формамъ не какъ въ дѣлу житейскому, а какъ къ религіозному; мы прилагали къ нимъ тѣ стремленія, которыя подсказывались духовною природой нашею, стремленія ко всечеловѣческому и свободному. Перенося религію въ матеріальную область политики, мы не хотѣли въ ней признавать никакихъ законовъ матеріальнаго міра, никакихъ путъ органическаго, а стало быть и національнаго развитія, никакихъ неизбѣжныхъ стѣсненій общественныхъ формъ, и въ результатѣ неизбѣжно становились отрицателями и революціонерами.
В. Соловьевъ упрекалъ Данилевскаго, будто бы его націонализмъ и ученіе объ историческихъ типахъ противны христіанскому чувству. Напротивъ, Данилевскій, именно какъ глубокій христіанинъ, не могъ впасть въ ошибку неизбѣжную для соціологовъ не-христіанъ или полу-христіанъ. Онъ ясно чувствовалъ что́ въ жизни нашей есть отъ міра сего и что́ — не отъ міра сего. Для него абсолютное, вѣчное и свободное не исчезало въ человѣкѣ при мысли о необходимости и условности его земнаго существованія въ мірѣ матеріальномъ, біологическомъ и соціальномъ, гдѣ есть и раса, и національность и ихъ роковое органическое развитіе. А потому Данилевскій и могъ думать о необходимыхъ, не свободныхъ законахъ соціологіи и подчиненіи имъ человѣка, совершенно объективно, не тревожимый въ своемъ анализѣ лишними вторженіями изъ области чисто духовной.
Одинъ очень умный анархистъ прекрасно характеризовалъ мнѣ разницу своихъ воззрѣній отъ воззрѣній христіанскихъ. Въ мірѣ, говорилъ онъ, назрѣваетъ новая религія. Наши ученые воображаютъ, будто они работаютъ на разумъ. Точно такъ же, древніе ученые не знали, что расчищаютъ только почву для новой религіи. Христіанство разбиваетъ человѣка на двѣ воловины — на духъ и тѣло. Наука показываетъ, что человѣкъ единъ и цѣлостенъ. Христіанство унижаетъ тѣло, заставляетъ бороться съ плотью. Мы реабилитируемъ тѣло. Духъ — это оно и есть. Тѣло свято, въ немъ нѣтъ дурныхъ побужденій. Подчинитесь ему, а не боритесь, дайте свободно проявляться всѣмъ его стремленіямъ, и они сольются въ братской гармоніи желаній всего человѣчества.
Гони природу въ дверь, она влетитъ въ окно. Забыли Бога, и создали себѣ кумира изъ своей плоти!
Вотъ собственно почему я нѣсколько разъ подчеркиваю анти-христіанство нашего новаго міросозерцанія. Оно создало въ насъ новую религію. Это до такой степени вѣрно, что одна вѣточка движенія 70-хъ годовъ даже прямо создала секту, такъ-называемое тогда богочеловѣчество. Виднымъ дѣятелемъ ея, вмѣстѣ съ когда-то извѣстнымъ Маликовымъ, былъ и Чайковскій, тотъ самый, котораго кружокъ поставилъ вожаковъ чуть ли не во всѣ фракціи революціи послѣдующихъ годовъ. Правда, богочеловѣчество поставило своимъ принципомъ несопротивленіе злу и тѣмъ рѣзко отклонилось отъ насильственныхъ революціонеровъ. Но это — различіе имѣющее значеніе только для полиціи и прокуратуры, а не для того, кто разсматриваетъ вопросъ съ точки зрѣнія христіанской культуры и русскаго національнаго типа. Обожествленіе человѣка, перенесеніе религіи въ область соціальную, было, въ той или иной формѣ, совершенно неизбѣжно по вытравленіи изъ насъ христіанской концепціи міра. А разъ перенеся абсолютное религіозное начало въ область соціальную, мы должны были отрицательно отнестись ко всему условному, то-есть ко всему историческому, національному, ко всему, что́ составляетъ дѣйствительный соціальный міръ.
Этотъ дѣйствительный міръ заранѣе осуждался для насъ на гибель, въ той или иной формѣ, тѣми или иными средствами, осуждался въ тотъ моментъ, когда мы еще только теряли личнаго Бога-Промыслителя, еще сами не зная послѣдствій этой потери.
7.
Явленіе, о которомъ я говорю, принадлежитъ не одной Россіи и даже, можетъ бытъ, зародилось не въ ней. Но, несмотря на всю денаціонализацію нашего образованнаго слоя, онъ все-таки кое-что сохранилъ изъ русскихъ свойствъ и, между прочимъ, эту характеристическую русскую религіозную жажду. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ изо всѣхъ образованныхъ классовъ Европы отличается, безъ сомнѣнія, самою плохою выработкой ума. Поэтому онъ далъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ явленіе соціальной религіозности. Покойный графъ Д. А. Толстой очень мѣтко сравнивалъ нашихъ революціонеровъ, „противящихся“ или „непротивящихся“, именно со средневѣковыми конвульсивными сектантами. Луи Бланъ, размышляя о своей первой революціи, тоже чуялъ какое-то сходство, искалъ какихъ-то корней ея въ сектантствѣ Среднихъ Вѣковъ, хотя вопросъ такъ и остался для него темнымъ. На самомъ дѣлѣ, тутъ нѣтъ надобности въ какой-либо генетической связи, и наша исторія образованнаго класса прекрасно это доказываетъ.
Перенесеніе религіозныхъ понятій въ область матеріальныхъ соціальныхъ отношеній приводитъ къ революціи вѣчной, безконечной, потому что всякое общество, какъ бы его ни передѣлывать, будетъ столь же мало представлять абсолютное начало, какъ и общества современныя или прошлыхъ вѣковъ. Потому-то передовые революціонеры Запада стали именно анархистами, и при этомъ достойно вниманія, что именно русское общество, столь бѣдное умственными силами во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, дало Европѣ двухъ ея величайшихъ теоретиковъ анархизма — Бакунина и Кропоткина. Наши идеалисты сороковыхъ годовъ — всѣ болѣе или менѣе анархисты, большею частью сами того не сознавая. Еслибы Салтыковъ (Щедринъ) умѣлъ сдѣлать выводы изъ своего безконечно отрицательнаго міросозерцанія, онъ могъ бы подать руку не Лаврову, не соціалъ-демократамъ (они всѣ для него слишкомъ мало революціонны), а только анархисту Кропоткину. Всякій сколько-нибудь наблюдавшій европейскія страны знаетъ очень хорошо, что наши либеральныя ходячія понятія о свободѣ, по своей преувеличенности, именно подходятъ къ понятіямъ европейскихъ анархистовъ, а не либераловъ.
Космополитизмъ нашего образованнаго класса долженъ былъ выродиться въ нѣчто еще худшее. Анархистъ французскій или нѣмецкій ненавидитъ вообще современное общество, а не спеціально свое нѣмецкое или французское. Нашъ космополитъ въ сущности даже не космополитъ, для его сердца не всѣ страны одинаковы, а всѣ пріятнѣй нежели отечество. Духовное отечество для него — Франція или Англія, вообще „Европа“; по отношенію къ нимъ онъ не космополитъ, а самый пристрастный патріотъ. Въ Россіи же все такъ противно его идеаламъ, что и мысль о ней возбуждаетъ въ немъ тоскливое чувство. Нашъ „передовой“ образованный человѣкъ способенъ любить только „Россію будущаго“, гдѣ отъ русскаго не осталось и слѣда.
Особенно часто истинно-враждебное чувство къ Великороссіи. Это натурально, потому что въ концѣ-концовъ только геніемъ Великороссіи создана Россія дѣйствительная. Не будь Великороссіи, особенно Москвы, всѣ наши окраинныя русскія области представляли бы ту же картину обезличенной раздробленности какъ весь остальной славянскій міръ. Изо всѣхъ славянскихъ племенъ одна великорусская раса обладаетъ великими государственными инстинктами. Поэтому она возбуждала особенную ненависть въ томъ, кому противно въ обществѣ все историческое, органическое, не случайное, не произвольное, а необходимое. Потому и популярны у насъ историки какъ Костомаровъ, потратившій столько силъ для развѣнчанія всей патріотической святыни Великой Россіи, уничтожавшій Сусаниныхъ и, въ своей исторіи смутнаго времени, до того ничего не понявшій, что въ концѣ-концовъ объявилъ эту эпоху скорѣе принадлежащею къ Польской исторіи, нежели къ Русской.
Къ тому времени, когда мое поколѣніе сдавалось на руки обществу, у насъ уже была создана цѣлая либеральная культура, отрицательныя, по преимуществу анти-русскія стремленія которой дошли въ шестидесятыхъ годахъ до апогея. Это было время, когда молодой блестящій подполковникъ генеральнаго штаба (Соколовъ, въ послѣдствіи эмигрантъ) предъ судомъ публично, горделиво заявилъ „я нигилистъ и отщепенецъ“. Военная молодежь шла въ польскія банды чтобъ убивать своихъ соотечественниковъ для дѣла возстановленія Польши, какъ будто выбирая девизомъ: „гдѣ бунтъ — тамъ отечество“. Русская либеральная печать одобрила это безобразіе, и М. Н. Катковъ, со всею страстью русскаго чувства выступившій противъ измѣнническаго опьяненія, съ тѣхъ поръ навсегда остался для либеральной души „измѣнникомъ“ и врагомъ.
Россія моихъ дѣтскихъ грезъ была живо развѣнчана. Она оказалась „при свѣтѣ науки“ только бѣдною, невѣжественною, отсталою страной, вся заслуга которой сводилась къ стремленію уподобиться „Европѣ“. Другія оцѣнки были, но гдѣ ихъ искать? Въ литературѣ дѣйствительно распространенной, въ самой школьной наукѣ, царствовали либеральныя точки зрѣнія. Нужно было особенное счастье и совершенно исключительное положеніе чтобы не попасть подъ ихъ вліяніе, со всѣхъ сторонъ гнавшее насъ къ революціи.
8.
Многіе этого не могутъ понять. Что́ общаго между смиреннымъ либераломъ и революціонными крайностями? Такъ смотрятъ люди думающіе только о программѣ либераловъ. Само собою, революціонныя крайности вытекаютъ не изъ положительныхъ требованій либераловъ, сами революціонеры надъ ними смѣются, какъ надъ глупостью и непослѣдовательностью. Революціонныя крайности вытекаютъ изъ общаго міросозерцанія, которое въ одну сторону создаетъ недодуманныя до конца, половинчатыя, а иногда іезуитскія либеральныя требованія, въ другую же — вполнѣ логично и послѣдовательно стремленія революціонныя. Наша „передовые“ создаютъ революціонеровъ не своими ничтожными либеральными программами, а пропагандой своего общаго міросозерцанія. Еслибъ они отказались отъ этого общаго міросозерцанія, то подорвали би одновременно и свои либеральныя стремленія, которыя имъ самимъ тутъ показалась бы смѣшными, и революціонныя стремленія, которыя тутъ въ первый разъ предстали бы предъ ними не какъ крайность, а какъ безуміе. До тѣхъ же поръ пока „передовые“ остаются при своемъ міросозерцаніи, они непремѣнно будутъ создавать революціонеровъ. Желая того или не желая, они будутъ вырабатывать молодежь въ наиболѣе пригодномъ для революціи духѣ и даже подсказывать ей способы дѣйствія — своею ложною характеристикой всего окружающаго.
9.
О литературныхъ вліяніяхъ шестидесятыхъ годовъ нѣтъ надобности распространяться. Они извѣстны всѣмъ по наслышкѣ, и современная публика даже преувеличиваетъ ихъ отрицательность, то-есть въ томъ смыслѣ, будто бы тогдашніе либералы, радикалы и т. п. были отрицательнѣе современныхъ. Я этого не нахожу; но въ настоящее время рядомъ съ либеральными отрицателями стоятъ уже многочисленные націоналисты, голосъ коихъ почти столь же же хорошо слышенъ. Въ тѣ же времена гудѣлъ только либеральный хоръ, заглушая остальные голоса. Поэтому вліяніе его было сильнѣе.
Наши теоретическія представленія, данныя тогдашнею „наукой“ не только безчисленными популярными статьями по естествознанію, исторіи и т. п., но и самою школьною наукой, ставили насъ уже въ достаточно отрицательное отношеніе къ соціальному строю Россіи, особенно къ ея образу правленія и т. п. Оцѣнка литературой и обществомъ текущей русской дѣйствительности довершала дѣло. Я пережилъ мальчикомъ и юношей эпоху реформъ, которыя теперь превозносятся либералами. Но въ то время я рѣшительно не слыхалъ объ этихъ самыхъ реформахъ добраго слова. Тогда оказывалось что все дѣлается не такъ какъ слѣдуетъ. За что́ ни берется правительство, все только портитъ. Вмѣсто того, чтобъ окружить добраго Государя, столь заботящагося о желаніяхъ общества, окружить его любовью, попеченіемъ, сіяніемъ мудрости, въ тѣ времена либералы только жаловались и давали дѣлу такой видъ, будто правительство „дѣлаетъ уступки“, да „недостаточныя“. Либералы дѣйствительно только „либеральные“, не имѣющіе въ глубинѣ души анархистской подкладки, никогда бы не позволили себѣ такого глупаго поведенія, совершенно несообразнаго съ ихъ партійными интересами. Вмѣсто того чтобы поддерживать выгодное для нихъ правительство, вмѣсто того чтобъ и намъ внушать, что только одно либеральное правительство можетъ хорошо вести дѣло, — либеральная воркотня только готовила враговъ правительства, и намъ, молодежи, невольно внушала мысль, что правительство, какое бы то ни было, хотя бы и самое либеральное, все-таки ничего не умѣетъ сдѣлать. Съ ранней молодости я только и слыхалъ что Россія разорена, находится наканунѣ банкротства, что въ ней нѣтъ ничего, кромѣ произвола, безпорядка и хищеній; это говорилось до того единодушно и единогласно, что только побывавши за границей, сравнивши наши монархическіе порядки съ республиканскими, я могъ, наконецъ, понять всю вздорность этихъ утвержденій. Но тогда, ничего еще не зная, при молодой неопытности, право невозможно было не повѣрить.
Но не всѣ же въ Россіи были либералами? Конечно. Было, слава Богу, много людей „старой культуры“, и не изъ какихъ-нибудь своекорыстныхъ „крѣпостниковъ“. Помню людей очень развитыхъ, гуманныхъ. Таковъ былъ, недалеко ходить, покойный отецъ мой. Но время было какое-то странное. Дѣлались улучшенія. Но именно сердецъ этихъ людей, которые могли бы быть лучшею нравственною опорой правительства, улучшенія не затрогивали. Отецъ мой былъ вполнѣ монархистъ, и во мнѣ заложилъ зародыши монархическихъ симпатій, но чѣмъ? Своими разсказами о „Николаевскихъ временахъ“. Такъ велико было во мнѣ впечатлѣніе этихъ теплыхъ разсказовъ о суровомъ величавомъ времени, умѣвшемъ высоко держать свое знамя, что я никогда уже не могъ разлюбить личность императора Николая, даже во времена наибольшаго отрицанія системы. Почему же отецъ не находилъ этого теплаго чувства для защиты новаго, „улучшеннаго“ времени? Крѣпостныхъ онъ не имѣлъ, да и не захотѣлъ бы имѣть. Улучшеніямъ вообще радовался, ничего даже прямо не порицалъ. Но, видно, новое время чѣмъ-то не совпадало съ его русскимъ православнымъ чувствомъ. Онъ оставался холоденъ. Такъ и другіе. Они не были теоретики, но просто чувствовали, что новое время, со всѣми своими улучшеніями, стремится куда-то въ ненадлежащее мѣсто. Благодаря этой особенности эпохи, она такимъ образомъ не получала защиты и поддержки даже отъ людей совершенно безкорыстно, безъ условій, преданныхъ правительству и своею нравственною чистотой способныхъ сильно вліять на молодежь… Повторяю, то было несчастное, обреченное поколѣніе, какъ будто нарочно какою-то таинственною силой систематически отрѣзываемое ото всего что́ могло бы спасти его отъ гибели.
10.
При крайне упрощенномъ міросозерцаніи, при облегченной работѣ, наше развитіе не брало много времени. Въ 18–19 лѣтъ оно бывало закончено. Очень самоувѣренные, набитые иногда значительнымъ количествомъ тамъ-сямъ нахватанныхъ „знаній“, мы собственно оставались весьма неразвиты и невѣжественны. Ни одного факта мы не знали въ его дѣйствительной полнотѣ н разносторонности. Многоразличныя точки зрѣнія, съ которыхъ учители человѣчества пытались такъ и сякъ освѣтить жизнь, были извѣстны намъ развѣ по названіямъ, въ перевранномъ видѣ. Міръ, безъ перспективы, безъ оттѣнковъ, распадался предъ нами на двѣ ясно очерченныя области. Съ одной стороны — суевѣріе, мракъ, деспотизмъ, бѣдствія, съ другой — наука, разумъ, свѣтъ, свобода и земной рай. Въ этомъ умственномъ состояніи большинство и застыло, вѣроятно — навсегда.
Но міръ дѣйствительный именно не заключаетъ въ себѣ ничего абсолютнаго, ни свѣта, ни мрака; онъ весь сотканъ изъ оттѣнковъ, степеней. Абсолютное есть достояніе совсѣмъ другаго міра. Перенеся это религіозное представленіе въ міръ условностей, мы очутились въ полномъ противорѣчіи съ дѣйствительностью.
Пока мы находились еще въ періодѣ ломки, противорѣчіе не ощущалось слишкомъ угнетающимъ образомъ. Душа имѣла занятіе, ее поглощавшее. Можно было еще походить на „молодежь“, оставаться бодрымъ. Съ завершеніемъ ломки наступалъ періодъ жестокой тоски и внутренней пустоты.
Того что́ сознавалось какъ правда и разумъ — въ дѣйствительной жизни не оказывалось; то́ же, что́ въ ней было — казалось зломъ и безсмыслицей. Положеніе само по себѣ очень тяжелое. Оно приводило къ одному изъ двухъ: или жить безо всякаго нравственнаго содержанія, съ сознаніемъ, что твоя жизнь нисколько не служитъ добру и правдѣ, или же приходилось объявить войну всему существующему. Рѣшеніе не легкое. Но наше положеніе было еще хуже. Когда мы рѣшались „объявить войну“, то оказывалось, что мы не чувствовали хорошенько, чему именно и кому объявляешь ее.
Дѣйствительно: что́ и кого именно уничтожать? Съ чѣмъ въ частности бороться, съ какими фактами, какими личностями? Это было бы легко увидѣть, еслибы міръ былъ дѣйствительно таковъ, какимъ мы его воображали. Еслибы, съ одной стороны стоялъ злодѣй эксплуататоръ, безсердечный, безнравственный, а съ другой стороны пожираемый имъ добродѣтельный пролетарій, — не трудно бы понять куда броситься. Но первыя юношескія столкновенія съ жизнью показывали нѣчто иное. Первый же дѣлецъ съ которымъ я познакомился, у котораго были такія милыя барышни-дочери, у котораго мы такъ весело танцовали подъ фортепіано, никакъ не вкладывался въ опредѣленія злодѣя. Онъ былъ даже очень гуманный человѣкъ, я слыхалъ, что онъ многимъ помогалъ. Первый пролетарій, котораго я узналъ, очень трудно поддавался подъ опредѣленіе „жертвы общества“. Это былъ дряннѣйшій пропойца, угрозами скандала вымогавшій подачки. Общество само было его жертвой. Видѣлъ я крестьянъ и никакъ не узнавалъ въ нихъ своего страдающаго и угнетеннаго „народа“. Видѣлъ администратора, священника, монаха, и не улавливалъ въ нихъ своего теоретическаго „зла“. Въ послѣдствіи, уже ведя пропаганду, мы постоянно находили рабочихъ уже „испорченными“, находили въ нихъ „буржуазныя наклонности“, „собственничество“, „стремленіе къ роскоши“, и для отысканія настоящаго страдающаго народа постоянно приходилось идти куда-нибудь дальше, въ другое мѣсто.
Въ жизни было, въ сущности, гораздо больше зла, страданія, угнетенія нежели мы со своимъ упрощеннымъ міросозерцаніемъ могли бы представить. Но только это было не то зло, и добро было — да не то. Наши понятія были столь чужды реальности, что съ ними нельзя было видѣть ни добра, ни зла. Нужно бороться, а съ чѣмъ именно — на это мѣрки не было. Него желать въ отдаленномъ будущемъ (тоже, конечно, фантастическомъ) мы прекрасно знали. Но чего желать, къ чему стремиться сейчасъ, въ настоящемъ — оставалось темно.
Теорія не то что сталкивалась съ дѣйствительностью, а просто не задѣвала ее ни хорошо, ни худо, проскальзывала сквозь нее какъ привидѣніе. Поколѣніе съ лучшею выработкой ума немедленно заподозрило бы свои идеи въ полной вздорности и взялось бы за коренной пересмотръ всего своего умственнаго достоянія. У насъ не могло быть и рѣчи, и помышленія о такомъ напряженіи. Мы только чувствовали, что стоимъ предъ какою-то тьмой. Чего желать? Къ чему готовиться? Это были именно „сумерки души“, когда „предметъ желаній мраченъ“…
У васъ въ университетѣ было много случаевъ самоубійствъ. Нынче ихъ любятъ объяснять „переутомленіями“, да латинскимъ языкомъ. Не знаю какъ теперь, но тогда это происходило отъ душевной пустоты, незнанія зачѣмъ жить. Мнѣ это очень хорошо извѣстно, я самъ себя боялся въ острыя мгновенья „сумерковъ души“. Это невыносимое состояніе приводило къ полному нервному разстройству, въ готовности броситься въ какой угодно омутъ, если въ немъ есть малѣйшая возможность отыскать ясный предметъ желаній.
Нельзя себѣ представить состоянія умовъ болѣе благопріятнаго для воспринятія революціонныхъ программъ.
11.
А между тѣмъ, революціонеровъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, революціонеровъ съ программой, заговорщиковъ, тогда даже почти не существовало. Я говорю о переломѣ съ шестидесятыхъ на семидесятые годы.
Съ самаго 1866 года заговорщики у насъ почти исчезли. Въ передовыхъ слояхъ явилось сознаніе невозможности революціи въ близкомъ будущемъ. Революціонный духъ пошелъ почти цѣликомъ въ своего рода „культурную работу“. Заговоры, возстаніе — все это преждевременно. Нужно распространять знанія. И эти знанія распространялись обильно. Въ эту именно эпоху — конецъ шестидесятыхъ и начало семидесятыхъ годовъ — явилось множество переводовъ всякихъ исторій, революцій, сочиненій разнаго рода соціалистовъ и т. п. Лавровъ, тогда еще русскій подданный, хотя и высланный административно, пишетъ свои знаменитыя Историческія Письма, на долго оставшіяся евангеліемъ революціонеровъ. Появился рядъ книгъ, какъ Пролетаріатъ во Франціи, переводъ Маркса, сочиненій Лассаля, книжекъ Вермореля, какъ Дѣятели въ 1848 году или Жизнь Марата — послѣдняя, вполнѣ апологія Марата, была воспрещена, но читалась; изданіе Луи Блана оборвалось на первомъ томѣ его Революціи: огромный успѣхъ имѣло Положеніе рабочаго класса въ Россіи Флеровскаго. Такихъ книгъ явилось множество, и всѣ — на подборъ. Намъ говорили — нужны знанія, для этого нужно читать, мы читали — и всѣ книги совершенно единогласно говорили одно и то же. Получалась полная иллюзія, — безъ сомнѣнія, искренно раздѣляемая самими дѣятелями „культурной работы“ — будто бы „наука“ именно ведетъ къ революціи.
Успѣхи этого движенія были громадны. Въ послѣдствіи, Желябовъ былъ вполнѣ правъ, говоря съ грустію: „мы проживаемъ капиталъ“. Дѣйствительно, уже въ 1880 году проницательный человѣкъ не могъ не видѣть, что террористическая эпоха проживаетъ, прямо сказать, „прожигаетъ“, капиталъ, уже явно начинавшій истощаться. Но въ шестидесятыхъ годахъ этотъ капиталъ только накоплялся, широко и успѣшно.
Работа эта имѣла, однако, въ результатѣ только укрѣпленіе основной нашей отрицательной точки зрѣнія. Руководства къ жизни она все-таки не давала. Въ видѣ блѣдной тѣни искомаго рѣшенія являлось тогда движеніе ассоціаціонное, стремленіе къ основанію школъ, библіотекъ и т. п. Но это было именно тѣнью рѣшенія, потому что въ сущности — что́ же революціоннаго въ ассоціаціяхъ, школахъ, библіотекахъ? Все это, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ быть даже могучимъ рычагомъ для укрѣпленія самыхъ консервативныхъ началъ. Этимъ родомъ дѣятельности можно было бы широко и глубоко увлечься только въ томъ случаѣ, еслибъ основныя идея наши не были столь безусловно отрицательны. У насъ тогда уже бродила мысль, совершенно самостоятельно и логично возникавшая, что „частичныя улучшенія только укрѣпляютъ существующій строй“. Съ какой же стати было посвящать имъ свои усилія?
Но гдѣ настоящая революціонная работа, не укрѣпляющая, а разрушающая? Этого не видѣлось. Мысль о прямой революціи, возстаніяхъ, заговорахъ — казалась совершенно химеричною. Нечаевъ, фанатикъ вполнѣ исключительный, могъ только ложью и самымъ страшнымъ деспотизмомъ сколотить свое тайное общество, по раскрытіи и уничтоженіи котораго возникла въ молодежи самая страшная реакція противъ всякихъ заговоровъ. Въ 1870 году нельзя было заикнуться ни о какихъ „организаціяхъ“ съ революціонными цѣлями. За это, безъ дальнихъ разсужденій, сочли бы прямо агентомъ-подстрекателемъ. Самого Нечаева считали агентомъ полиціи до тѣхъ поръ, пока онъ не былъ выданъ и осужденъ.
Заговорщиковъ, можно сказать, не существовало. Вліяніе эмиграціи также было ничтожно. Герценъ давно уже отстранился какъ-будто съ нѣкоторою брезгливостью отъ „нигилизма“. Около Бакунина вертѣлась молодежь, но никакихъ осязательныхъ отраженій этого на Россію не замѣчалось. Лавровъ еще не существовалъ, а потомъ, даже когда бѣжалъ за границу, занимался еще только развиваніемъ цюрихскихъ студентовъ. Кропоткинъ — никогда, впрочемъ, и въ послѣдствіи не имѣвшій большаго прямаго вліянія на Русскихъ, — тогда еще занимался изученіемъ геологіи Финляндіи. За границей издавалось, помнится, что-то въ родѣ Русскаго Дѣла, но я его и по сей день никогда не видалъ.
Вліяніе эмиграціи было ничтожное, почти нулевое.
Въ общей сложности, въ прямомъ революціонномъ смыслѣ, переломъ съ шестидесятыхъ на семидесятые года былъ временемъ такого затишья, какого я потомъ никогда не видалъ. За первые два года, а въ стѣнахъ университета не помню даже ни одного разговора о политикѣ, да и по студенческимъ квартирамъ они были вялы, рѣдки, скучны, совершенно стушевываясь передъ предложеніемъ: „Выпьемъ-ка лучше, господа“. Пили тогда очень усердно. Большинство студенчества думало исключительно о „карьерѣ“. Другіе тосковали, не находили себѣ мѣста. Но тишина была полная.
Я бы разсмѣялся, еслибы мнѣ въ 1872 году кто-нибудь предсказалъ „шальное лѣто“ 1874 года. Помилуйте, кто же это будетъ бунтовать? Bon vivant, шутникъ и весельчакъ Саблинъ? Или скромный, тихій Устюжаниновъ, ни о чемъ, казалось, не думавшій, кромѣ лабораторіи да клиники? Никогда бы не повѣрилъ. Да и обо мнѣ самомъ никто бы не повѣрилъ. Потомъ мнѣ бывшіе товарищи прямо говорили: „Вотъ ужъ, ни за что́ бы не догадался, что вы о революціяхъ помышляли!“
Я, въ сущности, и не помышлялъ какъ-нибудь конкретно, какъ не помышлялъ никто. Тишина была полная, глубочайшая.
При своемъ нынѣшнемъ опытѣ, я не придалъ бы этой тишинѣ никакого значенія. На молодежь можно положиться вовсе не тогда, когда она безжизненна, а тогда, когда она оживлена здоровымъ оживленіемъ, бодра, весела, строитъ себѣ всякіе широкіе планы, но планы не перевертывающіе вверхъ дномъ существующаго, а развивающіе его основы. Разъ навсегда, никогда я не повѣрю въ благонамѣренность русской молодежи, если она будто бы думаетъ только о карьерѣ и т. п, особенно если при этомъ въ ней замѣчается упадокъ развитія. Это явный признакъ, что идеалы ея больны, а потому не находятъ яснаго примѣненія къ жизни, такъ что молодежь старается о нихъ не думать. Но это недуманье не исправляетъ самаго главнаго — душевной пустоты… Въ одинъ прекрасный день всѣ эти „карьеристы“, смотришь, чуть не поголовно устроиваютъ какую-нибудь нелѣпѣйшую штуку, гдѣ изъ-за выѣденнаго яйца, глупо, бездѣльно, прахомъ пускаютъ всю свою „карьеру“. Люди не вникающіе въ психологію массовыхъ движеній, только руками разводятъ: „Откуда взялось? Можно ли было предвидѣть?“
Берется именно изъ „пустоты“.
Никогда молодой человѣкъ не проживетъ безъ идеала, одною „карьерой“. Онъ самъ ошибается, когда думаетъ это, когда щеголяетъ скептицизмомъ, сухостью. У него это напускное, онъ этимъ только забавляется. Но потомъ забавляться наскучитъ, и потребность нравственнаго содержанія жизни заговоритъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ дольше оставалась безъ удовлетворенія. Она доходитъ до размѣровъ страсти закрывающей глаза ва все остальное. И тогда — берегись!
Берегись вотъ почему. Нравственное содержаніе жизни даетъ только дѣятельное осуществленіе идеала. Какіе же идеалы таятся въ этой „карьеристской“ душѣ? Что́ онъ, во глубинѣ сердца, — думаетъ о спасеніи души, о вѣчной жизни, объ обузданіи плоти? Очевидно, нѣтъ, иначе онъ не щеголялъ бы „карьеризмомъ“. Думаетъ ли онъ о славѣ отечества, объ ослѣпляющемъ міръ развитія его великихъ началъ? Очевидно, нѣтъ, въ противномъ случаѣ его личныя мечты не приняли бы формы карьеризма. Нѣтъ, онъ найдетъ въ душѣ только отрицаніе существующей жизни, такое презрѣніе къ ней, такое убѣжденіе въ ея негодности, что она даже не возбуждала его желанія служить ей. Вотъ что́ найдетъ онъ: идеалъ отрицательный, а стало быть и нравственнаго содержанія жизни будетъ искать въ его приложеніи, то-есть въ чемъ-нибудь разрушительномъ. И чѣмъ менѣе онъ развитъ, тѣмъ болѣе легкими путями станетъ онъ искать нравственнаго содержанія.
Самый же легкій путь есть именно самый нелѣпый. Онъ состоитъ не въ томъ, чтобы самому искать чего-нибудь: на это нужна большая духовная работа, усиліе, — а въ томъ чтобы просто открыть душу какому-нибудь вѣянію, теченію, нервному току, предоставить ему свободно, безъ отпора, влиться въ свою пустоту. Развитаго человѣка это не удовлетворитъ, потому что у него есть собственное содержаніе, возмущающееся противъ наплыва чужаго. У неразвитаго ничего такого нѣтъ, вѣяніе свободно заполняетъ его пустоту. Онъ дѣлается рабомъ этого вѣянія, теченія, пойдетъ за нимъ куда угодно, до всякихъ крайностей, до всякихъ нелѣпостей, до всякихъ преступленій, какъ гипнотизированный, безвольный и безотвѣтственный.
12.
Въ это время затишья родился кружокъ Чайковскаго въ Петербургѣ. Кажется, зто было въ 1871 году. Я пишу на память, безъ справокъ, можетъ легко случиться ошибка въ датахъ. Во всякомъ случаѣ, этотъ кружокъ, въ началѣ ничтожный, а года черезъ два обладавшій уже огромными средствами вліянія, не вносилъ, но идеѣ, рѣшительно ничего новаго. Онъ дѣлалъ то, что́ дѣлали всѣ остальные „культурные дѣятели“ революціи, распространялъ „знанія“ и т. п. Ничего прямо бунтовскаго тутъ не было. Но кружокъ превратилъ массу молодежи изъ простаго пассивнаго объекта „культурной работы“ въ дѣятельный факторъ ея. Въ этомъ только и состояла оригинальность. Чайковцы сами выросли изъ „кружка самообразованія“, систематически повсюду порождали такіе кружки, сначала въ Петербургѣ, потомъ по всей Россіи. Чайковцы приняли дѣятельное участіе въ изданіи и распространеніи литературы создаваемой тогдашними нашими передовыми людьми. Кружокъ скоро сталъ распространять столько книгъ что ему позавидовала бы любая издательская фирма. Собственныхъ изданій у него было немного, большинство книгъ онъ скупалъ, бралъ на коммиссію, распространяя среди молодежи по удешевленной цѣнѣ, въ убытокъ себѣ, и возмѣщая тѣ убытки сборами и пожертвованіями. Создаваемые имъ кружки принимали дѣятельное участіе во всей этой работѣ. Молодежь не только „самообразовывалась“, но „образовывала“ другихъ, не только читала, но и распространяла, „оживлялась“ одними, и „оживляла“ другихъ. Движеніе демократизировалось, стало достояніемъ не передовой аристократіи, а передовой массы.
Въ этомъ все революціонное значеніе кружка Чайковцевъ. Онъ поставилъ рядъ вожаковъ для всѣхъ направленій послѣдующаго движенія, но онъ ихъ не создалъ, а только пропустилъ сквозь себя. Не онъ выработалъ ихъ идеи. Но онъ расшевелилъ массу, вывелъ ее изъ апатіи, изъ бездѣйствія. Это значило — сдѣлать все. Когда какая-нибудь масса съ революціоннымъ міросозерцаніемъ находится въ состояніи затишья, ее достаточно расшевелить чѣмъ бы то ни было, лишь бы расшевелить сильно. Для этого какія-нибудь крайнія средства вовсе не всегда цѣлесообразны. Нечаевъ только пришибъ молодежь, усилилъ апатію. Чайковцы, напротивъ, чутьемъ угадали надлежащую дозу удара. Они только чуть-чуть выдвинулись изъ фронта общаго „культурно-революціоннаго“ движенія, сдѣлали лишь ближайшіе его выводы — именно превратили его въ массовое, оживили массу. Разъ это достигнуто, разъ голова заработала, основы міросозерцанія непремѣнно приведутъ къ своему логическому выводу, хотя масса сначала его не предвидитъ, не предвидятъ даже сами „оживители“. Изъ Чайковцевъ многіе отвернулись отъ послѣдующаго, но событія пошли своимъ чередомъ.
Сначала же этого вовсе не предвидѣли. Мы не называли себя даже революціонерами, а просто радикалами. Это названіе — воспоминаніе своего дѣйствительнаго происхожденія — удержалось въ революціонной средѣ даже и въ то время когда уже „терроръ“ свирѣпствовалъ во всей доступной ему силѣ. Названіе очень оскорбляло уши эмигрантовъ, потому что за границей, между революціонерами, слово радикалъ чуть не бранное, въ родѣ того какъ у насъ сказать „либералишка“. Радикалами, однако, продолжали называть себя даже „народовольцы“. Въ первыя времена Чайковцевъ вообще сознаніе своей явной, не подлежащей никакому оспариванію принадлежности къ самому обыкновенному передовому, образованному слою было такъ ясно, что никакихъ особенныхъ отличительныхъ кличекъ мы не выдумывали и не принимали. Мы, конечно, понимали что мы революціонеры по стремленіямъ, но не больше чѣмъ всѣ остальные, чьи книги мы распространяли. По дѣятельности же — тоже ничего особеннаго, отличнаго отъ прочихъ. Революція — представлялась чѣмъ-то такимъ величественнымъ, что прилагать это слово къ нашей мелкой работѣ казалось просто опошливаніемъ его.
13.
Періодъ массоваго „самообразованія“ и „распространенія книгъ“ тянулся не долго. Каждый изъ насъ скоро убѣждался, что сколько онъ ни читаетъ книгъ, всѣ онѣ говорятъ одно и то же, и именно то же самое, что́ онъ и безъ нихъ уже думалъ. Поэтому каждый собственно образованіе себя скоро, за ивлишествомъ, прекращалъ. У него оставалась на рукахъ, за ликвидаціей личной задачи, только задача общественная: образованіе другихъ, распространеніе уже не читаемыхъ имъ книгъ между другими. Оставалась на рукахъ чистая пропаганда, къ которой мы уже привыкли за время самообразованія. Слой людей, занятыхъ такимъ образомъ пропагандой, росъ тѣмъ сильнѣе чѣмъ больше покидалось собственное образованіе. Ставъ дѣломъ спеціальнымъ, пропаганда естественно заставляла подумать и о болѣе усовершенствованныхъ органахъ ея. При дѣятельномъ участіи кружка Чайковцевъ, за границей появляется Впередъ Лаврова. Значеніе Лаврова при этомъ отнюдь не слѣдуетъ преувеличивать. Мы его три раза заставляла передѣлывать программу будущаго органа.
Шелуха самообразованія, выростившаго пропаганду, отпадала. Оставалась одна пропаганда. Но и съ пропагандой затѣмъ повторилось нѣчто въ томъ же родѣ. Нарождающіеся изъ самообразованія пропагандисты дѣлали самые быстрые успѣхи. Куда ни направлялся каждый изъ нихъ къ молодежи, онъ могъ сказать: veni, vidi, vici. Въ сущности, не съ кѣмъ было спорить, некого побѣждать, и весь арсеналъ книгъ его дѣйствовавъ чуть не однѣми обложками. Всѣ и безъ того имѣли одинаковыя мысли. Пропагандѣ въ молодежи скоро нечего было дѣлать, она въ историческомъ смыслѣ была не столько пропагандой, какъ генеральнымъ смотромъ революціоннаго міросозерцанія.
На производство его потребовалось около двухъ лѣтъ. По окончаніи его мы по взглядамъ были совершенно тѣ же, какъ и до него. Но мы увидѣли, сознали, что мы повсюду; мы чувствовали себя не разрозненными, а сплоченными, мы имѣли повсюду вожаковъ, которымъ вѣрили. Мы испробовали свои силы и пріучились что-то такое „политическое“ дѣлать. Мы разшевелились и уже не могли сидѣть смирно.
Вопросъ объ уничтоженіи существующаго строя и замѣны его новымъ, конкретно оставался предъ нами въ такомъ же туманѣ, какъ и два-три года назадъ.
Но предъ этимъ вопросомъ мы уже не могли и не хотѣли сидѣть въ пассивной тоскѣ. Мы кинулись въ активное исканіе выхода.
14.
Съ этого времени революціонный слой начинаетъ пріобрѣтать собственные контуры, замыкается мало-по-малу въ „партію“, создаетъ свою особенную литературу, программы, фракціи, появляется временами довольно сильное вліяніе эмиграціи. Вообще, онъ отчленяется отъ остальнаго „интеллигентнаго“ слоя. Либералы иногда даже вступаютъ съ революціонерами въ полемику, революціонеры, со своей стороны, ругательски ругаютъ либераловъ. Несмотря на все это, если революціонеры дѣлаются за это время полными отщепенцами отъ исторической Россіи, то я никакъ не могу ихъ признать отщепенцами отъ европеизированной части образованнаго общества. Я положительнѣйшимъ образомъ утверждаю, что нѣтъ ни одного революціоннаго теченія (за исключеніемъ терроризма), которое бы не имѣло своихъ корней или отраженія въ легальной литературѣ, по большей части съ необходимыми смягченіями, иногда и безъ нихъ. Идеи анархизма не формуловались въ сжатую систему, но онѣ разлиты были повсюду, безъ Бакунина. Наши русскія идеи о свободѣ личности или о вольностяхъ общественныхъ съ самаго начала были чисто анархическими. Ни въ одной литературѣ на свѣтѣ, полагаю, ихъ нѣтъ больше чѣмъ у насъ. Ученіе Лаврова, во-первыхъ, все изложено путемъ легальной русской прессы; во-вторыхъ, развивалось многими публицистами настолько, что я даже не увѣренъ безъ справокъ кому нужно дать хронологически первенство; кажется, впрочемъ, все-таки Лаврову. О позднѣйшихъ временахъ нечего и говорить, эти идеи даже въ стихи перекладывались „знаменитымъ“ Надсономъ. Якобинство Ткачева тоже не было новостью. Идеи соціальнаго демократизма были проводимы въ легальной литературѣ гораздо раньше нежели въ нелегальной. Демократизмъ европейскій, народничество русское — все это находитъ совершенно одинаковое мѣсто въ пропагандѣ „мирной“ и „бунтовской“.
Терроризмъ стоитъ одиноко. Но это не доктрина, а тактика. И если мы зададимся вопросомъ какъ могла появиться такая тактика, какія для этого требовались нравственныя понятія и какія оцѣнки русской дѣйствительности, то, конечно, не придадимъ значенія его кажущейся изолированности.
Впрочемъ, присутствіе въ общественномъ сознаніи, а стало-быть и въ легальной литературѣ, всѣхъ основъ революціонныхъ доктринъ совершенно естественно и неизбѣжно, потому что всѣ онѣ вытекаютъ изъ общаго міросозерцанія европеизированной части образованнаго слоя. Мысль не можетъ не работать, и если она даже отвращается отъ послѣдняго вывода или не допускается до него цензурой, то все же останавливается очень близко отъ него. Человѣку похрабрѣе или болѣе послѣдовательному остается затѣмъ лишь договорить нѣсколько словъ, — и вотъ онъ изъ „мирнаго“ дѣятеля превращается въ революціонера, изъ „человѣка общества“ во „врага общества“.
И напрасно бы старалась чисто либеральная пропаганда удержать такого человѣка „въ границахъ“. Она сама ему даетъ всѣ посылки, сама доказываетъ ихъ справедливость, и, когда затѣмъ останавливается предъ выводомъ — ученикъ ее покинетъ съ недоунѣніемъ или презрѣніемъ. Этого презрѣнія либералъ не всегда заслуживаетъ. Очень часто онъ останавливается передъ выводомъ не по малодушію, не по нелогичности, а потому, что въ немъ начинаетъ кричать здравый смыслъ. Но здраваго смысла — который есть или инстинктъ, или результатъ мелкаго личнаго опыта — не передашь другому, особенно молодому. А идеи передаются.
Вина такого человѣка, обладающаго, за неимѣніемъ лучшаго, хоть здравымъ смысломъ, состоитъ въ томъ что онъ не рѣшается опереться на указанія здраваго смысла и, при помощи его, провѣрить самыя теоретическія представленія свои. Только тогда, переродившись въ самыхъ идеяхъ своихъ, онъ могъ бы успѣшно спорить съ революціонерами, — не о выводахъ, которые дѣлаются революціонерами совершенно вѣрно, а объ основахъ, въ которыхъ они ошибаются.
15.
Революціонная мысль, революціонное настроеніе, назрѣвъ до послѣдней степени напряженія, прорвались, наконецъ, движеніемъ, котораго судорожныя подергиванія захватили цѣлыя пятнадцать лѣтъ. Это движеніе представляетъ два большіе фазиса: сначала оно бросается „въ народъ“ съ цѣлью… правду сказать, съ тысячью цѣлей, но въ концѣ концовъ онѣ всѣ сводились къ возбужденію народной революціи; во второмъ фазисѣ, революціонеры, оставляя народъ, пытаются низвергнуть правительство силами интеллигенціи; по окончаніи этихъ порывовъ, движеніе, уже обезсилѣнное, лишенное страсти и вѣры, вырождается, съ одной стороны — въ какой-то уродливый конституціонализмъ, съ другой — въ чистый, скучнѣйшій и, вѣроятно, безплоднѣйшій соціалъ-демократизмъ.
Если мы вспомнимъ, что въ каждый изъ этихъ отдѣльныхъ фазисовъ существовало по нѣскольку различныхъ плановъ дѣйствія, — различныя фракціи пропагандистовъ, анархисты бунтари, попытки самозванщины, попытки дѣйствія чрезъ сектантовъ, попытки возбужденія конституціонной агитаціи, попытки заговоровъ, попытки „вынужденія уступовъ“, попытки „аграрнаго террора“ и т. п., — то нельзя не согласиться, что для пятнадцати лѣтъ это — страшная толчея, это — горячечное метаніе изъ стороны въ сторону, къ самымъ даже противоположнымъ цѣлямъ, это, какъ я говорилъ, — исканіе, исканіе связи своего революціоннаго міросозерцанія съ жизнью, исканіе очевидно неудающееся, постоянно наталкивающееся на невозможности и абсурды, стукающееся лбомъ объ одну стѣну, бросающееся въ другую сторону, и, натыкаясь снова на какую-нибудь скалу, бросающееся опять и опять куда-нибудь гдѣ еще не видно препятствій.
Все перепробовали въ предѣлахъ своего матеріалистическаго міросозерцанія, съ его обожаніемъ человѣчества и соціальныхъ формъ, съ вытекающимъ отсюда самодержавіемъ народа, соціализмомъ и отрицаніемъ исторической необходимости1.
16.
Движеніе въ народѣ по своей хаотичности, по дѣтской наивности, по невообразимому непониманію дѣйствительнаго положенія дѣла, по множеству отдѣльныхъ маскарадныхъ глупостей — можетъ, конечно, заставить пожимать плечами. Настоящая поѣздка Донъ-Кихота, и именно это сравненіе приходило мнѣ въ голову, когда я, сидя въ тюрьмѣ, размышлялъ о нашей „пропагандѣ“:
И, однако, вспоминая все то шальное время, теперь, совершенно уже со стороны, я не могу не видѣть что въ концѣ концовъ молодежь была виновата по преимуществу лишь въ чрезмѣрномъ довѣрія къ розсказнямъ передовой литературы. Донъ-Кихотъ сумашествовалъ за свой собственный счетъ, мы же — по „довѣренности“. Еслибы народъ былъ дѣйствительно тѣмъ, чѣмъ его предъ нами изображали, движеніе было бы далеко не смѣшнымъ.
Въ самомъ дѣлѣ, что́ мы знали объ участи массы народа въ устроеніи именно этого, настоящаго, „существующаго строя“, столь намъ ненавистнаго? Народъ намъ всегда изображался только жертвой его, но никакъ не устроителемъ и не поддержателемъ. Кто намъ расписывалъ всякую „понизовую вольнецу“ бѣжавшую отъ „московскаго гнета“, разныхъ Стенекъ Разиныхъ и Пугачевыхъ „тенденціозныхъ разбойниковъ“ и т. п? Кто писалъ:
и т. п. глупости и выдумки? Пусть читатели перелистуютъ хоть Положеніе рабочаго класса въ Россіи, — вѣдь это дѣйствительно невозможное, невыносимое положеніе. Если даже народъ „задавленный грубою силой“ и т. п. потерялъ мужество, чтобы „стряхнуть притѣснителей“, если онъ только несетъ лямку какъ „унылый, сумрачный бурлакъ“, и „на великой русской рѣкѣ“ только „стонъ раздается“, „гдѣ народъ тамъ и стонъ“, — то дѣйствительно ли легкомысленно предположить, что столь притѣсненный, страдающій народъ легко взбунтовать?
Могли ли мы предположить, что наши знатоки народнаго быта, учители, болтали о томъ, о чемъ сами не имѣютъ понятія, что наши вдохновенные пѣвцы народныхъ слезъ просто перескакивали „къ перу отъ картъ и къ картамъ отъ пера“, только-что подмахнувшаго какое-нибудь —
Мы не имѣли понятія о народѣ, о его стонахъ и радостяхъ, о его дѣйствительныхъ бунтахъ, о его воззрѣніяхъ на свободу и неволю. Сидитъ, бывало, какая-нибудь хорошенькая барышня въ золотомъ пенсне, въ модномъ платьѣ, котораго еще не успѣла перемѣнить на якобы крестьянскіе лохмотья, и тоненькимъ голоскомъ распѣваетъ:
И такъ искренне выводитъ, такъ глупо, съ такимъ убѣжденіемъ что это пѣсня „найденная“ у какого-то „крестьянина“ „при обыскѣ“… Бѣдныя, бѣдныя „желторотыя“! Не легко имъ пришлось расплачиваться за разбитые горшки.
А впрочемъ, они возбуждаютъ грустное чувство только пока молоды, пока изъ нихъ еще могло бы что-нибудь выйти, пока они являются жертвой старшихъ. Прошли десятки лѣтъ, мозги застыли окончательно, искренность превратилась въ китайскую неподвижность, чувство очерствѣло въ сектантской непримиримости, глаза закрылись на все, и изуродованное поколѣніе, въ свою очередь, стало уродовать другихъ. Тутъ ужъ не до жалости, которой гораздо болѣе достойны ихъ новыя, молодыя жертвы.
17.
Молодое поколѣніе семидесятыхъ годовъ очень мало нравственно отвѣтственно за движеніе въ народъ. Это движеніе было совершенно подсказано внушенными ему понятіями о соціальномъ строѣ Россіи, объ исторической роли и современномъ положеніи народа. Но съ этого перваго опыта — оно уже лично виновато. Сколь ни коротки были эти экскурсіи, сколь ни маловажна практика кружковой дѣятельности, — онѣ могли дать много поученія для каждаго, въ комъ сохранилась хоть искра свободнаго сознанія и воли. А эта искра есть у каждаго человѣка. Мы не могли не видѣть многаго, и дѣйствительно видѣли. Мы отлично знали, что въ народѣ можно кого угодно бранить и порицать, но почти невозможно заикнуться о Государѣ. О Государѣ можно было говорить только уже съ самыми „подготовленными“. Это зналъ каждый пропагандистъ послѣ самаго недолгаго опыта. Мы всѣ знали, что единственная успѣшная попытка народной организаціи была сдѣлана Стефановичемъ и товарищами, которые дѣйствовали якобы отъ Высочайшаго имени, прямо Его приказомъ, и даже приводили народъ Его именемъ къ присягѣ. Малѣйшее честное размышленіе о такихъ фактахъ могло бы намъ показать истинный характеръ русскаго государственнаго строя. Мы на каждомъ шагу видѣли православную философію въ народѣ и при малѣйшемъ честномъ размышленіи могли бы понять изъ этого не только что́ такое народъ, но и что́ такое Церковь, умѣвшая его такъ воспитать. Мы отлично видѣли понятія народа о собственности, о власти, о семейномъ началѣ. Мы могли и должны были, на основаніи наблюдаемаго, подвергнуть пересмотру свои идеи, и не хотѣли этого. Многіе изъ насъ, долго прожившіе въ народѣ, совершенно начинали перерождаться и, замѣчая это, мы стали говорить что пребываніе въ народѣ „обуржуазиваетъ“, „дереволюціонизуетъ“, — и стали даже этому пребыванію противодѣйствовать. Мы изъ собственной нашей кружковой практики не только могли видѣть, но и видѣли что́ такое значатъ выборы, коллективныя обсужденія н т. п. У тѣхъ, кто былъ поумнѣе скоро составилось вполнѣ ясное убѣжденіе, что умныхъ людей не выбираютъ, что кагальное обсужденіе только запутываетъ вопросы. Мы знали, что большинство глупѣе меньшинства, и въ собственной кружковой практикѣ дѣйствовали сообразно съ этимъ. А для Россіи, для организма въ милліонъ разъ болѣе сложнаго, продолжали требовать верховенства народа, всенародныхъ голосованій и т. п.
Вообще, мы могли бы многому научиться — и не научились ничему. Одно было ясно, что оставаться около народа значитъ „биться какъ рыба объ ледъ“. Другое — ясно чувствуемое — было ожесточеніе за „преслѣдованія“, за то, что не давали вести пропаганду, подготовлять народныя возстанія (между прочимъ, путемъ самозванщины), что за это сажали въ тюрьму, ссылали на каторгу.
Третье, въ чемъ мы были вполнѣ увѣрены, — это, что мы авангардъ неизбѣжнаго общаго движенія, революціи, и что поэтому мы — сила, огромная сила, не по данному наличному составу, очевидно ничтожному, но по своему, такъ оказать, положенію. Не сами по себѣ сильны, а какъ представители неизбѣжно грядущей революціи.
18.
Эта вѣра въ революцію была у насъ создана, опять же, отнюдь не какими-нибудь заговорщиками, эмигрантами и профессіональными революціонерами. Эго старинная „западническая“ идея, пришедшая изъ Франціи и вполнѣ логично укоренившаяся въ нашемъ образованномъ классѣ. Что міръ развивается революціями — это было въ эпоху моего воспитанія аксіомой, это былъ законъ. Нравится онъ кому-нибудь или нѣтъ, она придетъ въ Россіи, уже хотя по одному тому, что ея еще не было — очевидно, что она должна придти скоро. Чѣмъ больше времени прошло безъ революціи, тѣмъ, стало-быть, меньше осталось ждать. Очень ясно! Само собой, при извѣстномъ міросозерцаніи, люди ждали „пришествія“ съ радостію:
какъ выразился Некрасовъ. Но революція считалась неизбѣжною даже тѣми, кто вовсе ея не хотѣлъ. „Эхъ, молодые люди, — увѣщевалъ одного арестованнаго полицейскій офицеръ, — и изъ чего вы хлопочете? Ну, поставятъ вамъ памятникъ черезъ 50 лѣтъ: да вы-то гдѣ будете въ это время? Давно сгніете гдѣ-нибудь.“ И нынче у стариковъ, у людей того времени, это убѣжденіе замѣчательно прочно. Одинъ весьма извѣстный писатель, довольно опредѣленный націоналистъ и вовсе не либералъ, еще недавно говорилъ мнѣ: „Я очень радъ, что Россія уже пережила революцію, — такъ какъ я всегда утверждалъ что она ее переживаетъ — теперь мы можемъ разсчитывать на спокойное развитіе.“ Этому человѣку нужно убѣдить себя что „законъ“ исполнился. Иначе онъ не будетъ спокоенъ!
Я уже замѣтилъ выше, что извѣстное міросозерцаніе, приводя къ полному противорѣчію съ дѣйствительною жизнью, порождаетъ революцію. Но міръ тутъ ни при чемъ. Онъ, вообще, развивается не революціями. Ни при чемъ и Россія вообще взятая. Что касается „передовыхъ“, то ихъ „революцій“ никогда не переживешь до тѣхъ поръ пока не измѣнится ихъ общая философія.
Вѣра въ пришествіе революціи въ семидесятыхъ годахъ дошла до крайней степени, особенно, конечно, у революціонеровъ, которымъ было весьма утѣшительно думать, что они дѣйствуютъ не въ пустую. Нечаевъ назначалъ даже сроки для революціи. Одинъ изъ нихъ былъ годъ превращенія временно-обязанныхъ отношеній къ помѣщикамъ. Помню, когда я сидѣлъ въ тюрьмѣ, мой сосѣдъ, разговаривая со мной2, замѣтилъ:
— Мы такъ хорошо узнали другъ друга, а въ лицо не знаемъ. Но увидимся…
— Когда же?
— Когда на волѣ будемъ.
— Дожидайся!
— Отчего же? Года за три не помрешь, а въ три года, если не освободитъ судъ, такъ освободитъ революція.
Это говорилось совершенно серіозно.
Какъ бы ни была слѣпа внутренняя, теоретическая вѣра, нужно же имѣть, однако, какіе-нибудь внѣшніе признаки. Почему революція именно такъ близка? Безъ сомнѣнія, признаки нужны. Безъ сомнѣнія, также, собственно въ народѣ мы ихъ видѣли въ высшей степени мало, такъ что для своего утѣшенія должны были ставить въ счетъ самыя пустяшныя явленія, самыя ничтожныя столкновенія рабочихъ съ хозяевами, крестьянъ съ мѣстною полиціей, каждую жалобу мужика на то, что „тяжело стало“, все, что́ всегда было, есть и будетъ, и что́ ровно ничего не доказываетъ кромѣ вѣчнаго столкновенія человѣческихъ интересовъ и безконечности человѣческаго стремленія къ лучшему, болѣе удобному. Въ подвижномъ, полномъ жизненнаго трепета соціальномъ равновѣсіи мы, по своему узкому міросозерцанію, не хотѣли видѣть именно результаты, то-есть равновѣсія, а отмѣчали только трепетаніе слагающихъ его отдѣльныхъ силъ. Видя же ясно, что все-таки революціи нѣтъ, мы порѣшили съ народомъ на томъ, что онъ задавленъ, боится, не рѣшается бунтовать. Это заключеніе съ грѣхомъ пополамъ заполняло подлежащую графу́ революціонной вѣдомости. Но настоящіе, вполнѣ уже, казалось, убѣдительные признаки наступающей революціи мы видѣли — въ „сознательной части народа“, въ обществѣ, въ интеллигенціи.
Начинать революцію съ этой стороны, въ союзѣ съ „обществомъ“, собственно говоря, было нежелательно, непріятно. Но если нельзя иначе, если революція должна начаться съ этого конца — что́ жъ дѣлать? Можно и на этомъ помириться, такъ какъ, съ ниспроверженіемъ „абсолютнаго“ правительства, съ „народа“ будетъ снятъ „подавляющій его гнетъ“, и народъ, только изъ боязни сидящій смирно, тоже выйдетъ на революціонный путь.
19.
Начинать „съ обществомъ“ намъ было нежелательно, даже стыдно, это казалось „измѣной“. Дѣйствительно, мы были, во всякомъ случаѣ, не „либералы“. Мы были послѣдовательные и искренніе носители нашего общаго съ либералами міросозерцанія, а потому мы были крайними демократами, сторонниками не словеснаго, а дѣйствительнаго народнаго всевластія, политическаго и экономическаго. Все должно принадлежать массѣ. „Либералы“ этого, натурально, не желали. Слѣдовательно, помогая имъ получить власть, конституцію, мы, такъ-сказать, предавали бы имъ „народъ“, „народное дѣло“. Поэтому мы сначала были даже безусловно противъ „конституціи“. Мы хотѣли непремѣнно „переворота экономическаго“. Нужно было имѣть истинно анархическую голову, чтобы вмѣщать эту неопредѣленность тогдашняго „экономическаго переворота“, но, во всякомъ случаѣ, хлопотали именно о немъ.
Итакъ, „конституціи“ не желали, боялись, а между тѣмъ всѣ свои неудачи „въ народѣ“ объясняли тѣмъ, что „правительство не даетъ свободы дѣйствія“. Изъ этого возникла мысль, которую трудно даже назвать мыслью, по ея нелѣпости, но которая, однако, первая положила начало „террору“.
У меня нѣтъ подъ руками Земли и Воли, подпольнаго листка, въ которомъ излагалась эта премудрость, но въ сущности своей мысль эта такова: „Конституціи и вообще свободы мы не требуемъ, она насъ не касается, у насъ есть свое дѣло — соціалистическое. Но мы требуемъ, чтобы намъ не мѣшали дѣйствовать, и если намъ будутъ мѣшать, то мы будемъ убивать людей администраціи и правительства.“ Другими словами — пусть, если угодно, существуетъ цензура, лишь бы намъ не мѣшали издавать подпольные листки и прокламаціи; пусть существуетъ административная высылка, лишь бы не высылали революціонеровъ; пусть полиція пресѣкаетъ какія угодно преступленія, но только не подготовленія возстанія…
Это, очевидно, было слишкомъ глупо для того, чтобы какіе бы то ни было люди могли долго удержаться на подобной позиціи. И хотя такія вещи отъ времени до времени продолжали высказываться, масса революціоннаго слоя очень быстро стала на путь общаго требованія политическихъ вольностей. Заговорили о „ниспроверженіи правительства“, „революціонномъ захватѣ власти“, „созывѣ учредительнаго собранія“ и т. п. Въ собственномъ сознанія революціонеры, до извѣстной степени, примыкали тутъ къ „либераламъ“, хотя оставались радикальнѣе ихъ, шли дальше и, во всякомъ случаѣ, желали чтобы „власть“ досталась не „либераламъ“, а народнымъ массамъ, или, „что́ одно и то же“, „его революціоннымъ представителямъ“, то есть имъ самимъ.
Мысль вынырнула изъ чистой нелѣпости и поплыла по привычной ей фантастичности. Но, къ несчастью, новая область фантастичности была такова, что создавала уже не комическія положенія, а трагическія, и приводила къ преступленію за преступленіемъ.
20.
Оставимъ пока въ сторонѣ вопросъ нравственный. Но, собственно, съ точки зрѣнія разсчета, что́ представляютъ въ это время революціонеры? Говорилъ ли въ нихъ чисто бредъ безумнаго, утратившаго всякое сознаніе дѣйствительности?
Еслибъ я писалъ для революціонеровъ, я бы по преимуществу обратилъ ихъ вниманіе на эту сторону дѣла. Но для Россіи въ широкомъ смыслѣ гораздо важнѣе не забывать объективныхъ обстоятельствъ производившихъ иллюзію въ умахъ способныхъ ей поддаваться.
Итакъ, я скорѣе спрошу: въ настроеніи и поведеніи извѣстныхъ слоевъ общества было ли что-нибудь способное дать революціонерамъ поводъ думать о революціонномъ движенія въ обществѣ? Было ли что-нибудь позволившее покойному М. Н. Каткову, хотя бы въ порывѣ возбужденія, воскликнуть что „мы уже находимся въ революціи“, а профессору Н. А. Любимову писать свои предупредительныя статьи „Противъ Теченія“?
Вопросъ этотъ, къ сожалѣнію, слишкомъ ясенъ. Я говорю не объ идеяхъ этихъ слоевъ, гдѣ уже и вопроса не можетъ быть, но о самомъ поведеніи.
Въ этихъ слояхъ общества существовала, во-первыхъ, полная увѣренность въ необходимости конституціи, въ томъ что реформы покойнаго Государя Императора имѣютъ логическимъ завершеніемъ именно ограниченіе Самодержавія конституціей. Къ этой именно цѣли и концу подгонялись передовыми самыя реформы, насколько это было имъ доступно. Большинство такихъ людей, безъ сомнѣнія, не только не желали достигнуть цѣли путемъ прямаго насилія, но имѣли, какъ я говорилъ, достаточно здраваго смысла чтобы понимать невозможность насилія. Но не менѣе несомнѣнно, что они находились въ состояніи раздраженія и недовольства по случаю продолжительнаго „неувѣнчанія“ зданія, и склонны было радоваться всему, что́ можетъ „подогнать“ правительство обратиться къ „содѣйствію общества“.
Все это, пожалуй, хуже революціи, но не есть еще революція. Но вотъ появляется въ молодежи революціонное движеніе. Какъ же относятся въ нему „либералы“? Само собою, они не могли одобрить „хожденія въ народъ“, но неодобреніе было далеко не рѣзко, не убѣдительно. Во-первыхъ, анархическая подкладка мышленія у насъ такъ сильна, что находилось не мало „людей общества“ которые даже и такому странному движенію прямо помогали. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, считать людьми „внѣ общества“ Коваликовъ и Войноральскихъ, избираемыхъ въ мировые судьи? Въ процессѣ 193 были запутаны даже лица судебнаго вѣдомства, офицеры, землевладѣльцы. Допустимъ, что все это было въ умѣренномъ количествѣ, но за то вѣдь и движеніе было ужъ очень невѣроятное. Допустимъ, что „неодобреніе“ также выражалось обществомъ, но что это за неодобреніе! Молодежь упрекали въ „благородномъ, великодушномъ и т. п. увлеченіи“. Великъ упрекъ! Когда у насъ съ 1874 года потянулся рядъ политическихъ процессовъ, молодежь видѣла себѣ со стороны передоваго общества только сочувствіе. Оно, по большей части, было основано по преимуществу на чувствѣ гуманности, однакоже нельзя было не видѣть, что такой гуманности тѣ же люди нисколько не проявляютъ относительно другихъ, не политическихъ преступниковъ. Настоящая гуманность, никого не вводящая въ заблужденіе, проявлялась очень рѣдко. Было двое-трое человѣкъ, которые, оказывая по христіанству помощь страдающему человѣку (какимъ былъ, натурально, и политическій арестантъ), высказывали, однако, имъ свое неодобреніе, старались переубѣдить ихъ, доказать имъ, что они неправы. Это была настоящая гуманность, не помощь своему, а помощь врагу, и притомъ стремленіе не просто успокоить человѣка, доставить ему больше комфорта, а спасти его, помочь ему не только матеріально, но и духовно. Но такіе люди составляли рѣдкое исключеніе. Помощь заключеннымъ, по большей части, была преклоненіемъ предъ ними, относилась къ нимъ какъ къ мученикамъ, и духовно окончательно губила ихъ. Иногда со стороны передоваго общества „политическіе“ видѣли даже явное, несомнѣнное сочувствіе самимъ идеямъ своимъ. Рѣчь С. Бардиной на судѣ въ этомъ обществѣ произвела истинный фуроръ. Знаменитый Тургеневъ „съ благоговѣніемъ“ цѣловалъ карточку „мученицы“. Если заключенные, осужденные и т. п. слышали упреки себѣ, дѣлаемые, впрочемъ, со всевозможными разшаркиваніями, то исключительно съ той точки зрѣнія, что они безплодно растрачиваютъ силы, которыя бы нужно было примѣнить къ полученію политическихъ вольностей. Вообще, поведеніе передоваго общества было таково, что единственное заключеніе какое изъ него можно было вывести, — это то, что общество только не рѣшается вѣрить въ столь радостное событіе какъ пришествіе революціи, но весьма ея желаетъ. Стало быть, нужно было лишь подогрѣть, расшевелить его — и дѣло пойдетъ. Дѣло, казалось, должно было пойти, потопу что, по взглядамъ почерпнутымъ изъ міросозерцанія самого же „общества“, правительственный строй представлялся какъ бы висящимъ въ воздухѣ, безо всякихъ прочныхъ основаній.
Сочувствіе „общества“ революціи, освобожденной отъ чрезмѣрнаго „мужичества“ и соціализма, и направленной на цѣли преимущественно политическія, казалось революціонерамъ, со времени эпохи процессовъ, несомнѣннымъ. Революціонеры не сомнѣвались, что будутъ приняты съ распростертыми объятіями, и только сами стѣснялись „измѣнить народу“. Однакоже, въ народѣ ясно революціи не предвидѣлось, а, между тѣмъ, ждать дольше было психологически невозможно для людей такъ страстно настроенныхъ, такъ безусловно вѣрующихъ въ свою революцію.
21.
О „террорѣ“ много говорилось, и сами революціонеры подыскивали ему много различныхъ основаній, якобы „цѣлей“. По моему мнѣнію, этотъ „единоличный бунтъ“ вытекалъ, въ глубинѣ своего психологическаго основанія, вовсе не изъ какого-нибудь разсчета и не для какихъ-нибудь цѣлей. Террористы сами не понимали себя, и въ этомъ отношеніи не захотѣли бы понять. Положеніе было таково. Люди чуть не съ пеленокъ, всѣми помыслами, всѣми страстями, были выработаны для революціи. А, между тѣмъ, никакой революціи нигдѣ не происходитъ, не на чемъ бунтовать, не съ кѣмъ, никто не хочетъ. Нѣкоторое время можно было ждать, пропагандировать, агитировать, призывать, но, наконецъ, все-таки никто не желаетъ возставать. Что́ дѣлать? Ждать? Смириться? Но это значило бы сознаться предъ собой въ ложности своихъ взглядовъ, сознаться что „существующій строй“ имѣетъ весьма глубокіе корни, а „революція“ никакихъ, или очень мало. Допустивъ это, пришлось бы далѣе признать одно изъ двухъ: 1) или что люди очень глупы, 2) или что революціонные идеалы сомнительны. Допуская любое изъ этихъ положеній, пришлось бы далѣе, шагъ за шагомъ, вопросъ за вопросомъ, разбить всю свою революціонную вѣру. Помню одного неофита, уже даже не мальчика, который все приставалъ къ революціонерамъ: „дайте мнѣ настоящее дѣло, или я сдѣлаюсь шпіономъ.“ Я тогда не понималъ такой странной дилеммы. Но дѣйствительно, при такомъ абсолютномъ обожаніи революціи отсутствіе революціоннаго дѣла было ужасно. Вѣдь теорія непремѣнно его предсказывала, еслибы революціонныя теоріи и оцѣнки были вѣрны, то дѣло, фактическая революція, не могла не быть. Стало быть, если ея нѣтъ, если ее никакъ даже невозможно придумать, то это доказываетъ, что теорія вздоръ и ложь; но если она ложь, то ложь несомнѣнно преступная, такая преступная, что ее должно искоренять всѣми способами. И вотъ — „дайте дѣла, или пойду въ шпіоны“. Помнится, ему дали дѣло, во всякомъ случаѣ онъ былъ куда-то сосланъ.
Безъ революціи человѣку семидесятыхъ годовъ грозило полное крушеніе всего міросозерцанія. Онъ этого не мотъ допустить, умъ былъ слишкомъ не привыченъ къ работѣ и, главное, другой вѣры не могъ себѣ найти. Оставалось одно: единоличный бунтъ. Еслибы революціоннаго матеріала было въ Россіи чуть-чуть побольше, онъ бы попыталъ баррикады или переворотный заговоръ. Но это оказывалось невозможнымъ. Не выходило ничего. Оставалось дѣйствовать въ одиночку, съ группой товарищей, а стало быть — противъ лицъ же, тайкомъ, изъ-за угла… Подъ эту разбойничью практику, разумѣется, подыскивались цѣли, самыя разнообразныя: месть, дезорганизація, охрана пропаганды и т. п. Въ основной подкладкѣ это просто былъ единственный способъ начать революцію, то-есть показать себѣ, будто бы она дѣйствительно начинается, будто бы собственные толки о ней — не пустыя фразы.
22.
Такой страшный шагъ назрѣвалъ долго, онъ не могъ бы состояться еслибы революціонеры не успѣли одурманить окончательно своего разума и своей совѣсти, и даже послѣ этого онъ не могъ бы состояться въ широкихъ размѣрахъ, еслибы легкомысленное и истинно преступное поведеніе нѣкоторой части общества не поддержало иллюзіи въ наркотизированномъ мозгу „террористовъ“. Но всѣ эти условія осуществлялись одно за другимъ, какъ будто нарочно подготовляемыя.
Хороши были наши „всѣ науки“, проходимыя по программѣ Лаврова въ кружкахъ самообразованія, хорошо было наше „чтеніе“ книжекъ, какъ двѣ капли сходныхъ между собою! Но даже и это до нельзя умѣренное обремененіе своей головы было отброшено во время „движенія въ народѣ“. Началось отрицаніе „наукъ“, и новая формація „передовой интеллигенціи“ умудрилась дойти до замѣчательнаго невѣжества. Революціонеры перваго періода прозвали новыхъ людей „троглодитами“. Какъ новые Омары, „троглодиты“ могли бы сказать: „или въ наукахъ подтверждаютъ революцію, и тогда онѣ излишни, или ей противорѣчатъ, и тогда онѣ вредны“. Отрицаніе чтенія, образованія, книжекъ, имѣло, однако, свою внутреннюю логику. Что́ дѣйствительно могла дать революціонерамъ „наука“ имъ доступная, то есть писанія разныхъ либераловъ? Въ основахъ — ничего. Въ частностяхъ же могла только охлаждать, вселяя все-таки сомнѣнія. Изъ-за чего же было тратить время необходимое „для дѣла“? Любви къ чистому знанію не было, да такое знаніе и не могло ее въ себѣ выработать. Практическаго же, „полезнаго“ тоже ничего не представлялось. Образованіе, чтеніе, поэтому, чрезвычайно забрасывались въ слояхъ молодежи, на которыхъ отражалось вліяніе революціонеровъ того времени, и результаты получались иногда очень рѣзкіе. Я могу вспомнить чрезвычайно талантливыхъ мальчиковъ первыхъ курсовъ, которые въ два-три года замѣчательно тупѣли съ погруженіемъ своего ума въ это самодовольное бездѣйствіе. Дѣйствительно, какая бы ни была наука, хотя бы самая патентованная либеральная, все же давала нѣкоторое упражненіе, отъ котораго теперь совершенно отрѣшались. Революціонная вѣра заковывалась въ непроницаемую броню отвычки разсуждать и ничего незнанія. Безъ этого ей трудно было бы уцѣлѣть, пережить вопіющій опровергающій крикъ фактовъ и дойти до своего „террора“, даже не замѣчая что онъ составляетъ ей логическій смертный приговоръ. Заклепавъ наглухо всѣ пружины пониманія, можно было теперь встрѣтить помѣху только въ привычкахъ нравственнаго чувства.
Любопытно, однако, какъ все устраивалось само собой, но съ такою систематичностью, какъ будто кто нарочно подстраивалъ и велъ къ роковому концу. Еще съ 1876 года, когда не было никакихъ политическихъ убійствъ (хотя и были уже къ нимъ подстрекательства) въ революціонныхъ кружкахъ съ чрезвычайною силой возникаетъ, повидимому странный, споръ о томъ, оправдываетъ ли цѣлъ средства? Посторонній слушатель подумалъ бы, что эти люди замышляютъ преступленіе и расчищаютъ для него путь въ своей совѣсти! Революція полубезсознательно наткнулась на такія препятствія, которыхъ чистыми средствами не могла одолѣть; она искала другихъ средствъ, которыхъ нечистоту сознавала, потому что сама искала имъ оправданія. Вопросъ дебатировался чрезвычайно страстно. Сильнѣйшій кружокъ 1877–1878 годовъ, „Земля и Воля“, призналъ правило „цѣль оправдываетъ средства“ основнымъ принципомъ, внесъ его въ свою программу, и съ тѣхъ поръ въ кружокъ никто не былъ допускаемъ безъ торжественнаго исповѣданія этого іезуитскаго принципа.
Дѣйствительно, со своей точки зрѣнія, революціонеры и не могли его не принять. Нравственныя понятія совершенно связывали имъ руки. А между тѣмъ — почему же нельзя убитъ, ограбить, обмануть? Почему нельзя насильно навязать народу ту или иную судьбу? Конечно — утилитарная нравственность, единственная, которую могли признавать они, говорила что убійство, нарушеніе чужаго права, обманъ и т. п. — недозволительны, потому что они вредны для общества. Какъ общее правило, это было ясно. Но въ отношеніи революціонеровъ, спасителей общества, передовой его части, носителей разума человѣчества? Вѣдь они осуществляли революцію, то-есть величайшее благо, а величайшее благо, величайшая степень пользы выражаетъ въ себѣ и величайшую степень нравственности. Стало быть, если для такой цѣли потребуется кого-нибудь убить — это полезно, то-есть и нравственно дозволительно или даже обязательно. Но можетъ быть разсчетъ окажется ошибочнымъ, можетъ быть убійство или грабежъ окажутся не полезными, не цѣлесообразными? Это уже другой вопросъ, и, во всякомъ случаѣ, революціонерамъ приходится тутъ полагаться только на свое соображеніе, потому что они впереди всѣхъ, они понимаютъ лучше всѣхъ и некому имъ дѣлать указаній. Если они признаютъ что-либо полезнымъ, то, по наибольшей степени вѣроятности, это дѣйствительно полезно. Если же слушаться указаній общества или народа, то надѣлаешь гораздо больше ошибокъ.
23.
Въ то время, когда въ революціонной средѣ различными путями назрѣвали идеи террора, передовое общество принимало все болѣе оппозиціонное положеніе. Привыкши пользоваться всѣми непріятностями въ дѣлахъ какъ средствомъ критики, имѣющей концомъ намекъ на „увѣнчаніе зданія “ и необходимость „содѣйствія“, это общество такъ же отнеслось и къ многочисленнымъ политическимъ процессамъ. Это было тѣмъ легче, что процессы велись публично, шумно, словно ихъ нарочно старались разкричать. Ласки подсудимымъ, порицанія правительству и администраціи, „губящихъ молодежь — все это шло crescendo. На бѣду, тогда все согласно складывалось къ одному концу; въ злополучномъ процессѣ 193, дѣло было дѣйствительно чрезвычайно раздуто слѣдствіемъ. По существу, фактическая (а не нравственная) виновность большинства привлеченныхъ была такъ ничтожна что не стоила даже судебнаго разбирательства, а требовала чисто административныхъ взысканій. Точно также подсудимые (сначала ихъ было привлечено около 600, кажется, человѣкъ) ничуть не составляли одного тайнаго общества, какъ усиливалось доказать слѣдствіе. Эта коренная ошибка слѣдствія привела въ тому что дѣло затянулось до невозможности. Подсудимые сидѣли по четыре года въ одиночномъ заключеніи. Это было и жестоко, и несправедливо, не могло не возбуждать дѣйствительнаго чувства, и тѣмъ болѣе уже служило превосходнымъ предлогомъ для либеральнаго крика. Подъ вліяніемъ всего этого, не знаю что́ дѣлалось въ высшихъ сферахъ, но администрація низшая, съ которою приходилось сталкиваться, замѣчательно размякла, держала себя совершенно какъ виноватая. Въ домѣ предварительнаго заключенія (въ Петербургѣ), гдѣ скапливалось человѣкъ по 300 политическихъ подсудимыхъ, установились совершенно невѣроятные порядки, которые завершились злополучнымъ столкновеніемъ бывшаго градоначальника, Ѳ. Трепова, съ „политическимъ“ лишеннымъ всѣхъ правъ Боголюбовымъ.
Генералъ Треповъ, котораго видъ „одиночнаго заключенія“ политическихъ владыкъ тюрьмъ долженъ былъ довести до истинной ярости, — и человѣкъ, сколько-нибудь помнящій дисциплину пойметъ это чувство, — придрался за пустякъ къ Боголюбову и приказалъ его высѣчь. Оправдывать кого-нибудь въ этой исторіи я не стану, да и лишнее. Дѣло само за себя говоритъ. Происходило оно чуть не наканунѣ выпуска на судъ двухсотенной толпы доведенныхъ до бѣшенства подсудимыхъ. Процессъ вышелъ такимъ, какимъ долженъ былъ выйти, то есть самою скандальною политическою демонстраціей, которую слабость суда не умѣла прекратить, даже когда она началась. „Передовая“ публика привѣтствовала „героевъ“, и затѣмъ 150 подсудимыхъ тріумфально выпущены на улицы Петербурга.
У подъѣзда тюрьмы они встрѣчали кареты сердобольныхъ сочувствующихъ, которые предлагали гостепріимство первымъ встрѣчнымъ, незнакомымъ „политическимъ“. Много дверей „въ обществѣ“ открывалось предъ магическимъ словомъ „освобожденный“. Полиція держала себя предъ нами съ самою предупредительною любезностью. А впрочемъ — это былъ вообще моментъ такой „вѣжливости“ полиціи, какъ будто она поголовно собиралась въ отставку.
Рѣшительно во всемъ Петербургѣ одни дворники держали себя непримиримыми реакціонерами! Одни они не хотѣли понять „смыслъ событій“. Но остальные — если они имѣли цѣлью окончательно сбить съ толку революціонеровъ, окончательно убѣдить ихъ въ мысли объ ихъ передовомъ представительствѣ общаго движенія — они не могли дѣйствовать болѣе удачно.
На другой же день по освобожденіи послѣдней серіи подсудимыхъ, Вѣра Засуличъ выстрѣлила въ генерала Трепова. Черезъ нѣсколько времени — въ Ростовѣ убитъ какой-то полицейскій агентъ, въ Одессѣ оказано вооруженное сопротивленіе полиціи — цѣлое сраженіе. Въ Петербургѣ некому было и оказывать сопротивленія. Сходки происходили свободно. Начались уличныя демонстраціи. Въ больницѣ Св. Николая умеръ „политическій“ Подлевскій (католикъ). Цѣлая толпа молодежи хотѣла устроить ему торжественные похороны, не потому, чтобы Подлевскій былъ чѣмъ-нибудь замѣтенъ. Даже я тогда въ первый разъ услыхалъ его имя. Но это былъ предлогъ для демонстраціи. Администрація приказала похоронить покойнаго безъ шуму, но толпа ворвалась въ больницу, отбила гробъ и тріумфально понесла. Полицейскіе дали свистки, со всѣхъ сторонъ сбѣжались городовые и дворники. Барышни-курсистки, несшія крышку, первыя открыли сраженіе, мущины бросились имъ на выручку. Минуты двѣ шла кулачная битва. Но изъ толпы люди посолиднѣе замѣтили приставу: „Помните, г. приставъ, на васъ ляжетъ отвѣтственность за кровопролитіе“. И г. приставъ приказалъ городовымъ отступить. Толпа пронесла гробъ по всему городу до католическаго кладбища… Въ такихъ маленькихъ приключеніяхъ, въ сходкахъ, въ толкахъ о программахъ дѣйствія время прошло до процесса Вѣры Засуличъ.
Ее оправдали, при всеобщихъ рукоплесканіяхъ, генералъ Треповъ — осужденъ „общественнымъ мнѣніемъ“. „Общественное мнѣніе“ признало за революціонерами право убивать. Цѣль оправдываетъ средства, и цѣль — намѣчена вѣрно. Яснѣе невозможно было выразиться. Впрочемъ, насильственное освобожденіе Засуличъ отъ предполагаемаго ареста, газетныя статьи, наконецъ, всеобщее укрывательство „героини“, могли бы договорить даже и то, что́ осталось бы неяснымъ въ оправданіи.
Въ этотъ моментъ Петербургъ, конечно, долженъ былъ и самому Ѳ. Ѳ. Трепову напомнить знакомыя картины Варшавы наканунѣ возстанія.
„Ну, доложу вамъ,“ говорилъ, потирая руки, „одинъ изъ умнѣйшихъ революціонеровъ того времени, глубочайшимъ образомъ презиравшій „либераловъ“, — „доложу вамъ, рѣшительно —
И онъ углублялся въ сочиненіе прокламацій и пригласительныхъ билетовъ на предстоящую панихиду по „убитомъ“, при освобожденіи Засуличъ, Сидорацкомъ.
Кто его убилъ? Не знаю, кажется, самъ застрѣлился. Съ какою цѣлью — Господь его вѣдаетъ. Можетъ быть, дѣйствительно, какъ говорили, для того чтобы толпа обвинила въ этомъ жандармовъ, какъ и случилось. Тогда ни одинъ серіозный революціонеръ и не вѣрилъ въ эту сказку, но для демонстраціи случай былъ совершенно прекрасный.
Панихида была назначена за нѣсколько дней. По всему городу разосланы (и въ полицію посылались) печатные пригласительные билеты. Сочувствующіе приглашались почтить память жертвы деспотизма (впрочемъ, точныхъ выраженій не припомню). На панихиду ѣхали даже изъ Москвы. Тогдашніе крайніе революціонеры хотѣли воспользоваться моментомъ увлеченія
чтобы довести дѣло до уличной перепалки. Говорятъ, многіе изъ нихъ явились вооруженными. Дѣйствительно, легко было предположить что администрація приметъ вызовъ и воспользуется случаемъ очистить Петербургъ. Но дѣло вышло иначе. Хотя, по близъ лежащимъ дворамъ были скоплены войска и массы полиціи, однако она не вмѣшивалась. Панихиду служили, какъ назначено, во Владимірской церкви. Толпа народа, человѣкъ тысяча, стояла кругомъ. Еще болѣе любопытныхъ толпилось на противуположной сторонѣ Владимірской площади. По окончаніи панихиды всѣ высыпали на улицу. „Господа, смотрите же — не выдавать студентовъ“, распоряжались разодѣтые „либералы“. Но полиція никого не трогала. Начались рѣчи. Ораторъ, на что-то взгромоздившійся, очень краснорѣчиво поражалъ „деспотизмъ“, а приставъ мирно разгуливалъ около него въ толпѣ. Картины какія не всегда можно увидѣть и въ Парижѣ. Потомъ толпа медленно потянулась по Невскому, и тутъ начали тоже „демонстрировать“ конныя войска, очевидно нарочно державшіяся все время въ двухъ-трехъ стахъ шагахъ… Мало-помалу всѣ разсѣялись безъ дальнѣйшихъ приключеній и безо всякихъ послѣдствій. Даже арестовъ никакихъ не произошло ни на мѣстѣ, ни послѣ.
24.
Эти попытки демонстрацій время отъ времени повторялись въ послѣдующіе годы, но, вообще говоря, людей „изъ общества“ готовыхъ выходить на улицу оказалось слишкомъ мало. „Передовые“ имѣли достаточно здраваго смысла, чтобы понимать когда и въ какой мѣрѣ это можно дѣлать. Уже въ упомянутую панихиду по Сидорацкомъ многіе остались дома только потому, что прослышали о револьверахъ революціонеровъ. Они понимали, что при открытомъ бунтѣ, который бы заставилъ правительство выйти изъ упорнаго миролюбія, они будутъ въ два часа или въ два дня стерты съ лица земли. Между тѣмъ, администрація продержалась въ остро размягченномъ состояніи всего мѣсяца два, а затѣмъ возвратилась все-таки къ нѣкоторымъ мѣрамъ репрессіи. Кое-гдѣ начались аресты, высылки. При такихъ условіяхъ, „передовая часть общества“ сочла лучшимъ ограничиться эксплуатаціей чужаго революціоннаго движенія, не путаясь въ него самолично. Тотъ самый остроумецъ, о которомъ я упоминалъ, былъ очень обиженъ и безусловно отстранился ото всякихъ терроровъ и вообще „политики“: „Нѣтъ, говорилъ, другой разъ меня ужъ не надуютъ либералы“. Это былъ, конечно, не единичный случай. Другіе, не отказавшіеся отъ „политическихъ вольностей“, увидѣли снова, что предъ ними, кромѣ „террора“, единоличнаго бунта, нѣтъ другаго дѣйствія. И „терроръ“ продолжался, уже поставивъ себѣ за правило не выходить на улицу, бить только изъ-за угла, внезапными нападеніями, въ строжайшей тайнѣ „конспираціи“. Эта система прямо проповѣдывалась листкомъ Земля и Воля. Въ послѣдствіи она была возведена въ заграничныхъ брошюрахъ въ цѣлую нелѣпѣйшую теорію, будто бы открывавшую человѣчеству новую форму революціи. Не буду задерживаться на этомъ дѣтскомъ вздорѣ. Суть дѣла до 1879 года состояла въ томъ, что даже на „терроръ“, на одиночныя убійства, въ сущности не было силъ. Все это продѣлывали на всю Россію какихъ-нибудь десятка два человѣкъ, переѣзжавшихъ съ мѣста на мѣсто, издававшихъ прокламаціи отъ несуществовавшаго Исполнительнаго Комитета и т. п. Революціонеры еще разъ чувствовали свою слабость, и еще разъ заключали изъ этого не о необходимости измѣнить свои идеи, а о томъ, что нужно еще логичнѣе ихъ развивать. Въ ихъ средѣ идетъ страстная пропаганда сплотить силы на террорѣ и объединить ихъ безусловною дисциплиной, слѣпымъ повиновеніемъ центру (который еще требовалось создать). Наконецъ — нужно произнести слово — всѣ эти силы, всѣ силы „революціи“, слитыя какъ одинъ человѣкъ, проповѣдывалось направить на Цареубійство.
Въ этомъ crime suprême, преступленіе изъ преступленій, духъ анархіи находилъ свое послѣднее слово. И съ нимъ же онъ произнесъ, безсознательно, высшее признаніе Самодержавной власти.
Слабый, оторванный клочокъ „дикаго мяса“, выросшій въ язвѣ денаціонализованнаго слоя, эта самозванная „революція“ напрасно искала способовъ разрушенія строя. Великая страна не давала ихъ, „революція“ была не ея, не касалась до нея. „Революція“ могла дѣлать только то, что́ было бы доступно и для банды чеченскихъ абрековъ, вздумавшихъ мстить за своихъ казненныхъ вождей. Россія національная — которую требовалось разрушить — была неохватима, недосягаема, недоступна нападенію. И „революція“ сказала, что тогда нужно обрушиться на Государя Россіи, что́ это одно и то же.
Никогда, ни въ чемъ Самодержавіе не могло бы получать такого поразительнаго признанія, какъ въ этомъ кровавомъ злодѣяніи!
Обезумѣвшимъ оставалось еще только узнать, что если Государь смертенъ какъ человѣкъ, то онъ безсмертенъ какъ учрежденіе, пока Россія есть Россія, пока свѣтятъ лучи народнаго сознанія преломляющіеся въ своемъ великомъ средоточіи. Попытка задуть свѣтящуюся точку преломленія могла стать реальною; какъ преступленіе, какъ средство политическаго дѣйствія, эта попытка оставалась большей химерой и безсмыслицей, чѣмъ всѣ предыдущія хожденія въ народъ.
И когда черное дѣло совершилось, свѣтъ сіялъ по прежнему, и міръ еще разъ увидѣлъ, что гдѣ „революція“ сводится на злодѣйства противъ представителей строя, тамъ никакой революціи нѣтъ и не можетъ быть.
25.
Террористическое движеніе было выводомъ внутренне вполнѣ логичнымъ, но, я уже раньше сказалъ, такимъ, который сдѣлали сами революціонеры. Общество, хотя бы и наиболѣе передовое, его не дѣлало. Наиболѣе послѣдовательный либералъ, эмигрантъ Драгомановъ, не стѣсняемый никакою цензурой, сразу отнесся къ терроризму весьма несочувственно. Сослаться на него я считаю вполнѣ убѣдительнымъ, потому что Драгомановъ совершенно ничѣмъ не отличается отъ остальныхъ нашихъ конституціоналистовъ, кромѣ большей опытности и лучшаго политическаго образованія. Говорилъ же онъ „свободно“, за границей, безъ цензуры, безъ страха.
Передовое общество стало отъ террористовъ особнякомъ. Но этого обособленія я тоже не желаю преувеличивать.
Во-первыхъ, повторяю, терроризмъ былъ бы совершенно немыслимъ, еслибъ основная подкладка русскаго „передового“ міросозерцанія не была анархична. Это міросозерцаніе совершенно расшатывало основанія нравственности, оно отнимало у человѣка всякое прочное руководство въ опредѣленіи того, что́ онъ можетъ себѣ позволять и чего не можетъ. Драгомановъ могъ сколько угодно упрекать террористовъ въ теоріи „исключительной нравственности“, но онъ не имѣлъ никакихъ способовъ доказать имъ, что они не правы, потому что, въ концѣ концовъ, отвращаясь отъ ихъ способовъ дѣйствія, могъ въ дѣйствительности руководиться лишь инстинктомъ. Общіе идеалы „прогресса”, опредѣляемаго либералами, вели, хотя бы семи либералы этого искренне не сознавали, къ тому, чего хотѣли революціонеры.
Устраненіе препятствій, лежащихъ на пути этихъ идеаловъ, роковымъ образомъ представлялось дѣломъ нравственнымъ. Эмигрантъ Лавровъ, котораго понятія о нравственномъ воспроизводятъ мнѣнія весьма значительной части „передоваго общества“3, тоже сначала былъ противъ „террора“, но въ концѣ концовъ принужденъ былъ сознаться, что его „молодые друзья“ логичнѣе его, и самъ долженъ былъ достроить силлогизмъ ихъ оправдывающій: „Русскій прогрессистъ“, писалъ онъ въ 1885 году, „не можетъ колебаться въ выборѣ пути… Эта борьба не есть еще царство нравственныхъ началъ, но неизбѣжное условіе торжества царства ихъ… Ни одну ступень на этой лѣстницѣ (борьбы) нельзя миновать… Соціальная революція обѣщаетъ быть кровавою и жестокою, но цѣль ея есть цѣль нравственная и должна быть достигнута“. Колебаться въ этомъ случаѣ значатъ „подвергать себя опасности поступить безнравственно, помѣшать торжеству царства нравственныхъ началъ“. (В. Н. В № 4, стр. 83).
Эта косвенная связь терроризма съ идеями нѣкоторой части „общества“ не могла не отразиться и чисто практическими послѣдствіями въ самомъ поведеніи этой части „общества“. Фактъ въ высшей степени плачевный, въ высшей степени постыдный и для нравственнаго чувства и для политическаго смысла общества, но фактъ, котораго нельзя и не слѣдуетъ забывать. Иначе — никогда не поумнѣешь. Фактъ былъ такого рода:
Въ минуту преступленій, положительно безпримѣрныхъ въ исторіи, безпримѣрныхъ потому что они совершались даже не дѣйствительною революціей, а самозванною, преступленій, выражавшихъ положительно безпримѣрную попытку узурпаціи, преступленій, въ сравненіи съ которыми неистовства террористовъ французской революціи представляютъ верхъ законности — въ такую минуту въ русскомъ обществѣ находятся хотя бы отдѣльныя личности, оказывающія прямое пособничество убійцамъ. Я не буду цитировать политическихъ процессовъ, это установившихъ. Напомню одинъ фактъ, что ежемѣсячный бюджетъ „исполнительнаго комитета“ правильно въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ колебался около 5.000 рублей ежемѣсячно. Конечно, не студенты давали „на дѣло“ эти 60.000 рублей въ годъ! Еще, быть можетъ, постыднѣе, что находились люди сторонившіеся отъ прямой помощи, но относившіеся къ сообществу политическихъ убійствъ какъ къ воюющей сторонѣ и позволявшіе себѣ быть „нейтральными“. Наконецъ, третьи выбираютъ этотъ моментъ для конституціонной агитаціи. Революціонеры дѣйствовали какъ тигры; эти господа избрали роль шакала. Революціонеры, какъ разбойники, пускали въ дѣло ножъ. Эти господа пытались воспользоваться разбойничьимъ ножомъ для того чтобы предлагать угрожаемому условія своей помощи. Въ нравственномъ отношеніи это низменность совершенно непонятная, которая, съ одной стороны, не могла не возбуждать глубокаго презрѣнія революціонеровъ, но съ другой — окончательно развращала ихъ. Террористу, если ему гдѣ-нибудь, въ подкопѣ или въ засадѣ, являлись еще какія-нибудь сомнѣнія, — стоило только вспомнить „адресы“ или иныя статьи „вѣрноподданныхъ“ журналовъ, чтобы стряхнуть съ себя все, всѣ упреки совѣсти или разсудка, и выпрямиться во весь ростъ.
„Воля Всевышняго совершилась“, читаемъ мы въ Порядкѣ, въ мартѣ 1881 года, „теперь остается только смириться предъ несокрушимою волей Привидѣнія и, не вступая съ ней въ тщетную борьбу, посвятить заботы чтобы половить прочное основаніе для будущаго… Государь, спросите вашу землю въ лицѣ излюбленныхъ людей“. Страна (№ 27) толкуетъ объ „отвѣтственности за все, что́ дѣлается на Руси, ошибки экономическія, мѣры реакцій, ссылки въ Восточную Сибирь“, обвиняетъ „руководителей реакціи“, и заключаетъ: „Надо чтобъ основныя черты внутреннихъ политическихъ мѣръ внушались представителями Русской земли. А личность Русскаго Царя пусть служить впредь только символомъ нашего національнаго единства и т. д.“ Голосъ (№ 36) говоритъ, что изо всего происшедшаго „выяснилась необходимостъ въ устройствѣ общественной организаціи для служенія вмѣстѣ съ правительствомъ“, и что необходимо приступить къ „продолженію реформъ, призвавъ къ содѣйствію общественныя силы“.
Даже революціонная хроника, отмѣчающая всѣ эти выгодныя для революціи черты разложенія, не могла не замѣтить, что „земство, столь молчаливое обыкновенно, заговорило именно въ тотъ моментъ, когда даже открытые враги Государя сочли возможнымъ излагать свои требованія лишь со всевозможными оговорками и указаніями на условія момента, не позволяющаго имъ поддаваться чувству естественной деликатности“ (В. Н. В. т. I, стр. 37).
Я не цитирую этихъ „земскихъ“ заявленій, которыми бы могъ наполнить нѣсколько страницъ. И хотя „земство“, въ смыслѣ не только населенія, но даже въ смыслѣ своихъ „гласныхъ“ и „управъ“, виновато главнымъ образомъ своею безгласностію и безуправностію, благодаря которымъ политическіе шарлатаны могли подсовывать свои „адресы“ людямъ, не понимающимъ что́ они творятъ, тѣмъ не менѣе это земство не должно забывать, какимъ людямъ оно давало у себя мѣсто. Оно изъ этого могло бы понять какъ легко горсти людей было бы оболванивать его при какой-нибудь „конституціи“, и какая фальшивая, нелѣпая фикція есть „общественное мнѣніе“, понимаемое въ смыслѣ криковъ момента.
Поведеніе той горсти либеральныхъ политикановъ, которые взяли на себя „выраженіе мнѣній передоваго общества“, — поведеніе это, которое я характеризую далеко не самыми рѣзкими фактами проносящимися теперь въ моемъ воспоминаніи, — это поведеніе могло лишь окончательно затемнить и нравственное, и политическое сознаніе революціонеровъ. Террористъ слышалъ, что его ругали „крамольникомъ“, „преступникомъ“ и т. п. Но онъ изъ поведенія „передовыхъ представителей общества“ заключалъ, что это одни слова. Развѣ онъ, въ самомъ дѣлѣ, поступаетъ безнравственно въ сравненіи съ ними? Развѣ онъ узурпаторъ въ сравненіи съ ними? Онъ убѣждался что онъ только человѣкъ первыхъ рядовъ и больше ничего, что онъ дѣлаетъ лишь то, о чемъ другіе думаютъ. Никогда бы и терроръ не принялъ своихъ размѣровъ, никогда бы онъ не дошелъ до своего слѣпаго фанатизма, еслибы не было объективной причины иллюзіи въ видѣ поведенія извѣстной части общества.
Еслибъ общество понимало это, оно бы, конечно, не позволило своимъ „передовымъ“ такой болѣе чѣмъ двусмысленной роли. Оно бы не стало читать газету въ передовыхъ статьяхъ которой не проведены границы съ рѣчами революціонныхъ листковъ, оно бы не пустило въ общественное учрежденіе лицо сомнительное. Оно бы не допустило перепутыванья законнаго съ незаконнымъ, честнаго съ нечестнымъ, не допустило бы всей этой мутной воды и заставило бы своихъ и чужихъ разбиться на два ясные, осязаемые слоя. И это его обязанность, столько же какъ и интересъ. Тогда сами революціонеры увидали бы, что́ они такое, увидали бы неслыханные размѣры своей узурпаціи, поняли бы ея невозможность, и отступили бы.
Но ничего этого не было сдѣлано благодаря именно передовой, крайней части либераловъ. Было, напротивъ, напущено столько тумана, сколько лишь позволяли обстоятельства. И если въ концѣ концовъ Россія все-таки разобралась, — она это сдѣлала не только помимо, но даже вопреки тѣмъ, кто себя смѣетъ называть „интеллигенціей“, „сознательною частью страны“ и т. п. пышными именами. Тѣ же, кто дѣйствительно пожелали разсѣять туманъ — какъ М. Н. Катковъ и И. С. Аксаковъ — только лишній разъ ославлены этою „сознательною частью“ какъ „реакціонеры“.
26.
„Передовое“, „прогрессивное“ и пр. и пр. міросозерцаніе все сказалось за эти годы. Оно показало не только концы свои въ своихъ революціонерахъ, но и все соотношеніе силъ умѣренныхъ и крайнихъ. Эти крайніе логичны, какъ вездѣ, и фанатики, какъ нигдѣ. Еще будучи ничтожнымъ безсиліемъ, они не останавливаются ни предъ какимъ насильственнымъ дѣйствіемъ, ни предъ какою узурпаціей, ни предъ какимъ преступленіемъ. Отъ нихъ не жди никакихъ уступокъ ни здравому смыслу, ни человѣческому чувству, ни исторіи. Это русская революція, движеніе, по основѣ даже не политическое, не экономическое, вызываемое не потребностью, хотя бы фальшивою или раздутою въ какихъ-нибудь улучшеніяхъ дѣйствительной жизни. Это возмущеніе противъ дѣйствительной жизни во имя абсолютная идеала. Это алканіе ненасытное, потому что оно хочетъ по существу невозможнаго, хочетъ его съ тѣхъ поръ, какъ потеряло Бога. Возвратившись въ Богу, такой человѣкъ можетъ стать подвижникомъ, до тѣхъ поръ — онъ бѣсноватый. Это революціонеръ изъ революціонеровъ. Успокоиться ему нельзя, потому что если его идеалъ невозможенъ, то стало быть ничего на свѣтѣ нѣтъ, изъ-за чего бы стоило жить. Онъ скорѣе истребитъ все „зло“, то-есть весь свѣтъ, все изобличающее его химеру, чѣмъ уступитъ.
Въ дѣлахъ вѣры нѣтъ уступокъ, и еслибы самъ дьяволъ захотѣлъ поймать человѣка, онъ не сумѣлъ бы придумать лучшаго фокуса, какъ направивъ вѣру въ эту безвыходную, безплодную область, гдѣ, начиная, повидимому, съ чистѣйшихъ намѣреній, человѣкъ неизбѣжно кончаетъ преступленіемъ и потерей самого нравственнаго чувства.
И рядомъ съ этимъ страстнымъ фанатикомъ, слѣпымъ и глухимъ на все, кромѣ своей idée fixe, — бѣдное либеральное общество, слабѣйшее умственно во всей Европѣ, наиболѣе подверженное потерѣ своихъ энергичнѣйшихъ людей въ пользу революціи, само легко загорающееся тою же лихорадкой, само не имѣющее прочныхъ устоевъ ни для нравственности, ни для разума. Его вліяніе огромно для выработки революціонеровъ, но ничтожно, когда ихъ нужно сдержать. Тутъ бывшіе учителя семи попадаютъ на буксиръ ученикамъ.
Еслибы наши либералы хоть на минуту могли понять, что сулитъ имъ такое положеніе, особенно при легкости съ какою ученики ихъ произносятъ слово „терроръ“, — они бы пришли въ ужасъ. Въ концѣ концовъ, опасность, борьба, смерть, не страшны, когда ложишься костьми за свой идеалъ. Но погибнуть отъ своего же идеала, слышать, какъ Руже де-Лиль, свою собственную „марсельезу“ которую орутъ люди разыскивающіе его, чтобы потащить на гильотину — это дѣйствительно страшно. Только либералы не захотятъ понять этого — потому же, почему не захотятъ понять своей преступности революціонеры — потому, что они тогда остаются безъ міросозерцанія, безъ философіи, безъ вѣры. Допустимъ, что перспектива страшна или нелѣпа, но что́ же дѣлать? Или ото всего отказаться, отъ „разума“, „человѣческаго достоинства“, „свободы“, „правъ личности“ и пр. и пр.? Неужто же эти основы не вѣрны? Или возвратиться къ Домострою (натурально, отродясь не читанному)? Нѣтъ, немыслимо. Лучше стараться не дойти „до абсурда“. Ахъ, какъ трудно это, когда съ абсурда-то именно и начинаютъ!
Либералъ только и мечтаетъ какъ бы не додумать до конца. Революціонеръ все спасеніе ищетъ въ томъ, чтобы дойти до самаго послѣдняго предѣла. Но судьба обоихъ одинакова — оба осуждены дойти до противорѣчія съ дѣйствительностью, откуда ихъ ничто не можетъ вытащить, кромѣ реакціи. А затѣмъ, отдохнувъ, позабывъ по возможности опытъ, опять начинаютъ старую исторію, а для утѣшенія себя въ этой толчеѣ придумаютъ, будто таковъ ужъ „законъ“ — міръ, будто бы, развивается „акціями“ и „реакціями“. Такъ лампа да горитъ спокойно, безо всякихъ акцій и реакцій, пока есть масло, а какъ придетъ время потухать, тутъ и начнутся мельканія — акцій и реакцій. Формула предсмертной агоніи! И это „законъ жизни“, законъ „развитія“!
Нѣтъ, не таковы законы жизни, но это предметъ, о которомъ безполезно толковать, пока люди не убѣдятся что ихъ современный „прогрессивный“ идеалъ съ начала до конца ложенъ, неосуществимъ, не даетъ ничего, что́ отъ него ждутъ и во имя чего приносятъ столько жертвъ.
КОНЕЦЪ.
-
Я, конечно, знаю что соціализмъ такъ-называемый научный, на которомъ строится соціалъ-демократія, совершенно признаетъ историческую необходимость и совершенно лишенъ религіознаго характера. Но у насъ соціалъ-демократизмъ былъ всегда ничтожно слабъ. По моему мнѣнію, онъ и въ Европѣ при первыхъ успѣхахъ своихъ, стушуется предъ анархизмомъ. Соціалъ-демократизмъ такой же компромиссъ какъ и буржуазный либерализмъ. Поэтому и у насъ научный соціализмъ наиболѣе распространенъ въ слояхъ политически чисто либеральныхъ, а наши соціалъ-демократы — единственные революціонеры искренне готовые помогать конституціоналистамъ безъ задней мысли перехватить у нихъ власть. Обѣ стороны одинаково думаютъ только о желудкѣ и размежевались полюбовно: однимъ ближайшее, настоящее, другимъ — будущее. И обѣ ошибутся въ разсчетѣ, потому что на самомъ дѣлѣ у человѣка не одинъ желудокъ, а есть также душа, которая не можетъ не заговорить. ↩
-
Стукомъ, конечно. Каждая буква означается извѣстною краткою комбинаціей ударовъ. Пріучившись, можно разговаривать очень быстро, быстрѣе чѣмъ, напримѣръ, писать. Мы такъ вели цѣлые споры. Нѣкоторые стуки такъ удобны, что ихъ отъ насъ переняли даже сторожа. ↩
-
Повторяю, что свое ученіе о нравственности Лавровъ излагалъ въ легальной, цензурной литературѣ еще даже будучи „нашимъ почтеннымъ“, „нашимъ извѣстнымъ“ и т. п. ↩
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.