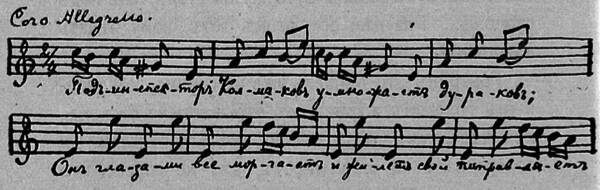Создатель русской оперы, Михаилъ Ивановичъ Глинка
Біографическая повѣсть для юношества съ 20-ю портретами и рисунками

Содержаніе:
- ПРОЛОГЪ. Женитьба родителей. (1802.)
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. Подъ крылышкомъ бабушки. (1804–1810.)
- ГЛАВА ВТОРАЯ. „Музыка — душа моя“. (1810–1817.)
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Недоросль изъ дворянъ. (1822.)
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Скоморохъ. (1823–1830.)
- ГЛАВА ПЯТАЯ. Національная Cтруя. (1832–1834.)
- ГЛАВА ШЕСТАЯ. „Полжизни за либреттто!“
- ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Медовые мѣсяцы жизни и творчества. (1835.)
- ГЛАВА ВОСЬМАЯ. „Жизнь за царя.“ (1836.)
- ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Свои и „братія“.
- ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. „Русланъ и Дюдмила“. (1842.)
- Эпилогъ
ПРОЛОГЪ. Женитьба родителей. (1802.)
Въ частной жизни каждаго семейства найдутся такіе знаменательные дни, память о которыхъ не изглаживается годами. Для семьи владѣльца села Новоспасскаго, Ельнинскаго уѣзда, Смоленской губерніи, капитана въ отставкѣ, Николая Алексѣевича Глинки, такимъ достопамятнымъ днемъ было 30-е мая 1802 г.
Съ ранняго утра всѣ обитатели барскаго дома, начиная съ господъ и кончая послѣднимъ казачкомъ, были уже на ногахъ. Самъ Николай Алексѣевичъ, въ бархатномъ халатѣ нараспашку, сколько времени уже сидѣлъ на балконѣ въ ожиданіи своего утренняго чая.
Передъ балкономъ съ четырьмя высокими колоннами, по пологому скату разстилались цвѣточный садъ и лугъ до самой рѣки, откуда вѣяло утреннею свѣжестью; вмѣстѣ съ нею на балконъ приносило и сладкій запахъ цвѣтовъ съ ближайшей клумбы. Но майское солнце начинало уже припекать, и Николай Алексѣевичъ отодвинулся въ тѣнь колонны; однако, ненадолго: солнечные лучи, игравшіе золотыми зайчиками на пузатомъ, ярко-вычищенномъ самоварѣ, стали опять подбираться къ хозяину изъ-за колонны, и онъ долженъ былъ отодвинуться еще далѣе. Самоваръ же кипѣлъ, пыхтѣлъ, — пока совсѣмъ не отпыхался; только изъ носа чайника на конфоркѣ струился еще душистый паръ.
Самому Николаю Алексѣевичу, правда, не стоило бы труда протянуть руку къ чайнику; но заваривала и разливала чай разъ навсегда супруга его, Ѳекла Александровна, а нарушить порядокъ, заведенный ею, было немыслимо. Временами только старичокъ нашъ прислушивался къ ея повелительному голосу, раздававшемуся то въ нижнемъ этажѣ, то изъ открытыхъ оконъ спальни во второмъ этажѣ; прислушается и тихонько вздохнетъ.
Тутъ на порогѣ показался единственный его сынъ и наслѣдникъ, Иванъ Николаевичъ или попросту Ваня, юноша лѣтъ восемнадцати. Несмотря на ранній часъ, одѣтъ онъ былъ въ новый голубой фракъ, а въ рукахъ держалъ цилиндръ и бѣлыя лайковыя перчатки.
Приложившись къ рукѣ отца, юноша пожелалъ ему добраго утра.
— Здравствуй, сынокъ, здравствуй, — отозвался старикъ; а затѣмъ, опасливо оглянувшись на стеклянную дверь изъ залы, вполголоса прибавилъ: — И какъ это у тебя, право, духу хватаетъ на такую штуку?
Сынъ смущенно завертѣлъ въ рукахъ свой цилиндръ и сталъ оправдываться:
— Да развѣ я, папенька, самъ отъ себя? Вѣдь маменька первая же подала мысль…
— Ну да, ну да, само собою. Маменька твоя въ этомъ отношеніи, можно сказать…
Конецъ фразы застрялъ у него въ горлѣ, потому что въ это время вышла на балконъ къ нимъ сама маменька. Какъ и сынъ, она была въ праздничномъ нарядѣ: въ пышномъ кружевномъ чепцѣ, шелковомъ платьѣ и съ турецкою шалью на плечахъ. Тѣлосложенія она была не особенно крѣпкаго, видъ имѣла болѣзненный; но въ умныхъ и быстрыхъ глазахъ ея выражались властолюбіе и непреклонная воля.
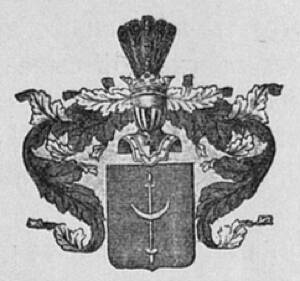
— Что же ты, батюшка, примолкъ? что „маменька“? — строго спросила она мужа. — Договаривай.
Тотъ еще болѣе съёжился въ своемъ халатѣ, какъ улитка въ своей раковинѣ.
— Да мы съ Ваней только такъ, отъ нечего дѣлать… Ждемъ вотъ чаю.
— Кромѣ чая, другихъ заботъ у тебя и нѣту? Ну, смотри, смотри на милость! — продолжала Ѳекла Александровна, когда изъ чайника въ чашку мужа потекла струя темно-бураго цвѣта. — Вѣдь это уже не чай, а какой-то декоктъ аптечный! Что̀ бы, кажется, снять съ конфорки?
— Да я и самъ уже думалъ…
— То-то, что ты все больше думаешь. Не забылъ бы только къ свадьбѣ сына халатъ-то скинуть, парикъ напудрить…
— Да развѣ такъ уже къ спѣху?
— Ахъ Ты, Господи! Лишь только вернемся съ невѣстой, такъ и къ вѣнцу. И отцу Іоанну уже наказано, чтобы былъ въ церкви съ дьякономъ и пѣвчими. Ну, ну, пейте оба поскорѣе!
Оба послушно принялись за свой чай, Ваня даже такъ усердно, что обжогъ себѣ нёбо и отъ боли крякнулъ.
— Что съ тобой опять? — спросила Ѳекла Александровна, зоркимъ окомъ матери окидывая всю фигуру жениха-сына. — Эхъ! не можешь ты, Ваня, хорошенько повязать галстухъ! Сколько разъ вѣдь показывала! Дай, я тебѣ перевяжу… И вихоръ опять на самой макушкѣ!
— Да я, маменька, и то уже помадилъ, помадилъ… — пробормоталъ Ваня, проводя ладонью по непослушному вихру.
— А мокрой щеткой потомъ, конечно, не причесалъ?
— Забылъ, простите. Я, маменька, сейчасъ…

— Сиди, сиди! Допивай. До сихъ поръ вѣдь, не можешь обойтись безъ няньки. Пора было женить тебя, пора!
— Нянька-то ужъ очень молоденькая, — вполголоса замѣтилъ мужъ.
— Что-о? — протянула Ѳекла Александровна. — Что ты говоришь?
— Я говорю, что Женичка еще на четыре года его моложе…
— Но зато она дѣвица; а дѣвушка въ четырнадцать лѣтъ невѣста. Къ именинамъ ей сшили даже длинное платье…
— Бѣлое кисейное! — съ оживленіемъ подхватилъ Ваня. — И какъ оно ей къ лицу!
— Еще бы, — улыбнулся Николай Алексѣевичъ надъ пылкостью сына: — что дѣвочка очень мила — никто не споритъ. Но все-таки увезти ее этакъ насильно…
— Вовсе не насильно! — перебила мужа Ѳекла Александровна. — Съ полнаго ея согласія. Знаетъ же она нашего Ваню еще съ ранняго дѣтства, видится съ нимъ чуть не каждую недѣлю, привязалась къ нему тоже всей душой, — чего жъ больше? А по-твоему лучше, чтобы къ ней присватался какой-нибудь заѣзжій ферлакуръ, и Ваня нашъ остался бы съ носомъ? Нѣтъ, они созданы другъ для друга.
Въ это время изъ столовой донесся на балконъ бой стѣнныхъ часовъ.
— Ну, вотъ! уже пять часовъ; а въ половинѣ шестого мы обѣщались встрѣтиться съ нею около озера. Ѣдемъ, ѣдемъ!
Карета, запряженная лихой шестеркой, стояла уже на дворѣ у крыльца. Тутъ же гарцовалъ на коняхъ разной масти конвой — двѣнадцать человѣкъ дворовыхъ, вооруженныхъ ломами и топорами. Вокругъ толпилась и галдѣла вся женская дворня. Усѣвшись въ карету, барыня подозвала къ себѣ старшую горничную, Татьяну Карповну.
— Такъ смотри же, Татьянушка, не забудь коврика и внука.
— Помилуй, сударыня! — отвѣчала Татьяна: — какъ же безъ коврика и образника? Поѣзжайте съ Богомъ.
— Ну, пошелъ!
И шестерка тронулась почти съ мѣста вскачь, а за нею двѣнадцать верховыхъ.
•••
Тѣмъ временемъ въ сосѣднемъ селѣ Шмаковѣ, отстоявшемъ отъ села Новоспасскаго всего въ восьми верстахъ и принадлежавшемъ дальнему родственнику и однофамильцу Николая Алексѣевича, Аѳанасію Андреевичу Глинкѣ, всѣ обитатели помѣщичьяго дома спали еще мирнымъ сномъ, — всѣ, кромѣ подростка-сестрицы Аѳанасія Андреевича, Женички.
Каждое утро она вставала нѣсколько ранѣе брата и жены его, Елизаветы Петровны, чтобы еще до утренняго чая выкупаться въ озерѣ. Сегодня же она поднялась съ постели даже раньше прислуги. Спустивъ ножки на полъ и въѣхавъ ими въ туфельки, она прислушалась, не слыхать ли уже кого-нибудь въ домѣ, глубоко вздохнула и достала изъ комода чистое бѣлье, потомъ изъ шкапа свое именинное бѣлое платье и бѣлые же атласные ботинки.
Тутъ, когда она обернулась, въ глаза ей блеснулъ свѣтъ лампадки передъ образомъ Спасителя въ углу. И самъ Спаситель, сдавалось ей, глядѣлъ на нее съ укоризной и грустью. Въ невольномъ порывѣ она бросилась на колѣни и принялась истово молиться, класть поклоны. Когда затѣмъ ея увлаженные взоры поднялись опять къ Спасителю, ликъ Его точно просвѣтлѣлъ.
„Онъ меня благословляетъ!“ поняла дѣвочка, и на душѣ у нея стало чудно-легко.
Не прошло и четверти часа, какъ она была уже умыта, причесана, одѣта.
Схвативъ со стула и съ полу свое будничное платье, старое бѣлье и туфельки, она свернула все въ узелъ и, съ узломъ подъ мышкой, тихонечко растворила дверь въ коридоръ. Изъ дѣвичьей долетали женскіе голоса. Стало-быть, тамъ уже проснулись! Дай Богъ ноги…
На цыпочкахъ проскользнула она коридоромъ въ залу, оттуда въ стеклянную дверь на балконъ, а съ балкона въ садъ. На минутку ея бѣлое платьице промелькнуло потомъ на солнцѣ, когда ей пришлось выступить изъ тѣнистой чащи сада на большую дорогу, по ту сторону которой лежало озеро. А тамъ путь ея шелъ лѣсною тропинкой попрежнему въ тѣни.
Вотъ и озеро. Какъ чудно въ кристально-чистой водѣ отражается и зелень кругомъ и голубое небо! Такъ бы и окунулась туда… Но теперь не до того.
Она развернула свой узелъ, аккуратно разложила на травѣ всѣ вещи, точь въ точь какъ всегда, когда купалась, а около поставила свои старыя туфельки. Глаза ея весело заискрились, какъ отъ удавшейся шалости, но тотчасъ же расширились отъ испуга: изъ-за лѣса донесся стукъ колесъ и конскій топотъ. Она схватилась за сердце: духъ замеръ! А тѣ все ближе, ближе… Еще проѣдутъ мимо!
И она бѣжитъ наперерѣзъ имъ уже не по тропинкѣ, а прямо сквозь кустарникъ. Вотъ и большая дорога…
Ну, такъ! Легкое кисейное платье, развѣваясь на лету, зацѣпилось за придорожный кустъ. Еще оборвешь, пожалуй… А тутъ и карета съ конвоемъ верховыхъ. Изъ спущеннаго оконца кареты выглядываетъ старая барыня и машетъ рукой.
— Отойди, душенька, отойди! Дай поворотить лошадей.
Пока кучеръ круто поворачивалъ назадъ свою шестерку, нетерпѣливый женихъ уже выскочилъ къ невѣстѣ изъ кареты. Оба сконфузились, боялись взглянуть другъ на друга.
— Здравствуй, Женичка…
— Здравствуй, Ваня…
— Позволь, я подсажу тебя.
— Вотъ выдумалъ! Точно я не могу сама…
— Сюда, родная, возлѣ меня, — съ необычайною ласковостью говорила Ѳекла Александровна, отодвигаясь на сидѣніи. — А ты, Ваня, повтори-ка людямъ насчетъ мостовъ.
— Не забудьте разбирать мосты! — крикнулъ Ваня конвойнымъ и, вскочивъ въ карету, захлопнулъ дверцу.
Кучеръ щелкнулъ кнутомъ, свистнулъ, — и карета съ грохотомъ помчалась обратно въ Новоспасское.
— Но для чего это, Ѳекла Александровна? — спросила Женичка: — для чего разбирать мосты?
— Ахъ ты, дитятко малое! Чтобы насъ не нагнали. Но я для тебя съ этого дня, кажется, уже не Ѳекла Александровна, а тоже какъ бы мать родная.
— Простите, Ѳекла Александ… маменька, хотѣла я сказать…
И дѣвочка наклонилась, чтобы приложиться губами къ рукѣ новой матери, а та, въ свою очередь, поцѣловала ее въ темя.
Женихъ съ сіяющей улыбкой оглядывалъ невѣсту; какъ вдругъ спохватился:
— А фату-то, маменька, мы такъ и забыли дома?
— Во-время вспомнилъ! — отвѣчала Ѳекла Александровна, развертывая пуховый платокъ, въ которомъ оказались какъ фата, такъ и цвѣтущая миртовая вѣтка. — Ну, доченька, теперь уберемъ твою голову.
Въ подвѣнечномъ убранствѣ, съ блещущими отъ волненья глазами, съ зардѣвшимся личикомъ, молоденькая невѣста была такъ обворожительна, что и сердце старой барыни растаяло.
— Ахъ ты, красавица моя! Ну, Ваня, можешь сказать мнѣ спасибо.
— Да я, маменька, вамъ такъ благодаренъ, такъ ужъ благодаренъ…
Не успѣли они разговориться, какъ изъ-за опушки показалась уже Новоспасская церковь. Вѣсть о предстоящей свадьбѣ молодого барина облетѣла уже, видно, все село: передъ церковью толпился въ ожиданіи старъ и младъ, а на паперти стоялъ старикъ-священникъ въ полномъ облаченіи; отецъ жениха въ напудренномъ парикѣ съ косичкой, въ старомодномъ своемъ фракѣ, въ черныхъ шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ съ серебряными пряжками; старшая горничная, Татьяна Карповна, съ цвѣтнымъ коврикомъ въ рукахъ, а рядомъ съ нею малолѣтній внукъ-образникъ. Взмыленная шестерка лихо подкатила къ паперти…
А что же, между тѣмъ, въ Шмаковѣ?
До девяти часовъ утра никому тамъ и въ голову не приходило, что барышня могла скрыться.
— Заспалась нынче наша Женюша, — говорила Елизавета Петровна, наливая мужу третью чашку чая.
— Весенній воздухъ, да и дѣтскій возрастъ, — отозвался Аѳанасій Андреевичъ, отнимая отъ губъ свой неразлучный чубукъ, чтобы отхлебнуть изъ полной чашки.
— Ну, она все-таки ужъ не совсѣмъ дитя, — возразила жена. — Ѳекла Александровна серіозно вѣдь прочитъ ее для своего Вани.
— Не напоминай мнѣ объ этомъ вздорѣ, сдѣлай милость! — прервалъ съ сердцемъ мужъ. — Я наотрѣзъ вѣдь объявилъ сумасбродной старухѣ, что до поры до времени моего согласія на то нѣтъ и нѣтъ. Выдать дѣвочку-подростка за такого же молокососа — просто курамъ на смѣхъ. Хороша будущая хозяйка дома, которая и вставать-то во-время не умѣетъ. Эй, Анютка! сходи-ка, постучись къ барышнѣ: пора-де, наконецъ, вставать; чай совсѣмъ простынетъ.
Горничная пошла, но вслѣдъ за тѣмъ возвратилась съ отвѣтомъ, что барышни уже нѣтъ у себя: ушла, знать, купаться.
— И опять одна! — досадливо замѣтилъ Аѳанасій Андреевичъ.
— Да я, баринъ, хотѣла разъ итти вмѣстѣ; а барышня: „я, говоритъ, уже не маленькая: плаваю, какъ утка“.
— Ну да! И разсуждаетъ, какъ утенокъ. Отплыветъ отъ берега; а тамъ, на глубинѣ, какъ сведетъ ноги судорогой…
— Полно, Аѳанасій Андреевичъ! — вступилась тутъ Елизавета Петровна. — Тебѣ сейчасъ представляются разныя страсти.
— Береженаго и Богъ бережетъ.
— Хорошо, хорошо. Анюта, успокой ужъ барина: сбѣгай на озеро, поторопи барышню.
На такомъ распоряженіи жены Аѳанасій Андреевичъ пока успокоился. Допивъ свою третью чашку и выколотивъ золу изъ трубки, онъ отправился въ гости къ своимъ любимцамъ — пѣвчимъ птицамъ, для которыхъ половина гостиной отгорожена была сѣткой. При входѣ хозяина, пѣвички, сидѣвшія въ клѣткахъ, еще громче зачирикали, веселѣе запрыгали по жердочкамъ, летавшія же на волѣ закружились вокругъ него, а болѣе смѣлыя садились ему даже на плечо, на руку.
— Здравствуйте, мои дѣточки, добраго утра! — говорилъ онъ имъ такимъ тономъ, точно онѣ, въ самомъ дѣлѣ, могли понять его. — Минутку терпѣнія: всѣхъ накормлю, напою.
И, переходя отъ клѣтки къ клѣткѣ, называя каждую пташку ласкательнымъ прозвищемъ, онъ насыпалъ каждой корму, наливалъ свѣжей водицы. Вдругъ безъ зова къ нему ворвалась Анюта.
— Бѣда, баринъ! Твоя милость ровно напророчилъ…
— Что такое? Ты это про что?
— Про нашу бѣдную барышню!
— Да неужели она, въ самомъ дѣлѣ…
— Утонула, душечка наша! И зачѣмъ было этакъ говорить, право?
Ломая руки, преданная своей барышнѣ служанка залилась слезами.
— Перестань, успѣешь! — прикрикнулъ на нее Аѳанасій Андреевичъ. — Говори толкомъ: ее вытащили уже изъ воды?
— Гдѣ же мнѣ одной, коли ключомъ ко дну пошла! Одна одёжа только на травѣ лежитъ. И туфельки-то, туфельки тутъ же: стоятъ рядышкомъ, сердечныя, будто ждутъ, что вотъ ихъ сейчасъ надѣнутъ. А сама-то, межъ тѣмъ… ой, горе наше, горе!
Не тратя времени на дальнѣйшіе разспросы, Аѳанасій Андреевичъ выбѣжалъ на дворъ.
— Никита! Ермолай! Памфилъ! Тимошка! всѣ сюда!
И отовсюду, со всѣхъ концовъ, бѣжали опрометью дворовые, каждый отъ своего дѣла: и въ обыкновенное-то время не жди отъ барина поблажки, а тутъ, видно, стряслось что-нибудь совсѣмъ небывалое.
— Сѣтей сюда! багровъ! Барышня, купаясь, утонула.
— Господи, помилуй насъ, грѣшныхъ! Царица Небесная! Наша голубушка-барышня!…
— Живо! живо! — прервалъ общія причитанія баринъ. — За мною къ озеру.
И всѣ уже у мѣста предполагаемой катастрофы. Первымъ въ привязанную у берега лодку вскочилъ самъ Аѳанасій Андреевичъ, за нимъ люди съ баграми. Другіе съ сѣтями полѣзли прямо въ воду.
Прошло полчаса, прошелъ часъ, а изъ глубины озера на свѣтъ Божій не извлекли ничего, кромѣ рыбы, никому теперь ненужной, да тины.
Тутъ къ Елизаветѣ Петровнѣ, стоявшей въ ожиданіи на берегу съ толпой бабъ и дѣвушекъ, подошла какая-то старушонка, съ клюкой въ рукахъ, съ котомкой за плечами.
— Не до тебя, бабушка, — сказала Елизавета Петровна, со вздохомъ утирая платкомъ глаза.
— Да я же, сударыня, не простая нищенка, а богомолка изъ дальнихъ мѣстъ, отъ святынь кіевскихъ, — зашамкала старушка. — Ноги-то, вишь, только плохо уже служатъ. Да на грѣхъ еще мосты у васъ разобраны…
— Какъ разобраны? — вслушалась Елизавета Петровна, въ головѣ у которой мелькнула новая мысль. — Гдѣ это, бабушка?
— Да вонъ на той дорогѣ, — указала богомолка клюкой въ сторону Новоспасскаго. — Теперича-то плотники ихъ опять сколачиваютъ, да сами, поди, еще зубоскалятъ: „Какъ будешь, молъ, въ Шмаковѣ, такъ скажи господамъ, что путь скоро опять свободенъ; милости просимъ, молъ, молодыхъ поздравить“. — Говорятъ такъ, а сами промежъ себя, ироды, хохочутъ. И въ толкъ не возьму…
Но Елизавета Петровна взяла уже въ толкъ, догадалась, въ чемъ дѣло. Съ просвѣтлѣвшимъ лицомъ она крикнула мужу, чтобы онъ понапрасну не искалъ сестры въ водѣ: что она въ Новоспасскомъ. Сойдя на берегъ, Аѳанасій Андреевичъ, въ свою очередь, сталъ допрашивать богомолку, и та къ прежнему своему показанію добавила, что телѣги при плотникахъ не было, а было столько же осѣдланныхъ лошадей, сколько и людей: видно, верхомъ всѣ прискакали.
Теперь и у Аѳанасія Андреевича не оставалось уже сомнѣнія относительно мѣстопребыванія сестрицы. По природѣ своей очень вспыльчивый, онъ отдался необузданному гнѣву. Глаза его налились кровью; весь онъ затрясся.
— Мнѣ… мнѣ такой афронтъ!… — вскричалъ онъ, захлебываясь собственными словами. — Этого я имъ уже не спущу…
— Ради Бога, мой другъ, умѣрься, не волнуйся, — перепугалась жена. — Ты надѣлаешь еще такихъ бѣдъ…
— На ихъ голову!
— И на свою. Семейства наши были всегда въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ…
— Хороши отношенія! И сестрица моя тоже хороша: обмануть такъ брата, который былъ ей за отца…
— Но вѣдь и самъ ты, Аѳанасій Андреевичъ, черезъ годъ, черезъ два не былъ бы противъ ея брака съ Ваней.
— Что было бы черезъ годъ или два — объ этомъ теперь говорить нечего. Дѣло въ томъ, что дѣвочку выкрали у насъ самымъ разбойническимъ манеромъ: стало-быть, прежде всего надо вернуть ее изъ разбойническаго гнѣзда.
— Ты самъ хочешь ѣхать за нею? — всполошилась снова Елизавета Петровна.
— Много чести! Довольно съ нихъ и Ѳедотыча.
— Вотъ это такъ. Ѳедотычъ — человѣкъ степенный, разсудительный. А если бы ее съ нимъ все-таки не отпустили?
— Отпустятъ: онъ возьметъ себѣ въ помощь нѣсколько дюжихъ парней.
— Но тогда можетъ выйти побоище…
— Что бы тамъ ни вышло, — не мы съ тобой въ отвѣтѣ!
Получивъ надлежащую инструкцію, старшій приказчикъ Ѳедотычъ сѣлъ въ тарантасъ и покатилъ въ Новоспасское: за нимъ слѣдовало въ телѣгѣ нѣсколько деревенскихъ парней, вооруженныхъ дубинами.
Самъ Аѳанасій Андреевичъ удалился къ себѣ въ кабинетъ, набилъ трубку, усѣлся за письменный столъ и взялъ въ руки старый номеръ газеты. „Главное — выдержать характеръ, остаться твердымъ, непреклоннымъ“.
Однако, онъ тщетно принуждалъ себя сосредоточить свое вниманіе на газетѣ. Мысли его летѣли вслѣдъ за Ѳедотычемъ въ Новоспасское, а глаза все чаще поглядывали на столовые часы, стрѣлки которыхъ точно не двигались съ мѣста.
Наконецъ-то за окномъ послышался шумъ подъѣзжающихъ экипажей.
„Ага! Ну, бѣгляночка моя, теперь-то мы съ тобой побесѣдуемъ!“
Усѣвшись глубже въ кресло и развернувъ еще шире газету, Аѳанасій Андреевичъ совершенно, казалось, погрузился въ ея содержаніе. Даже и тогда, когда къ двери приблизились робкіе шаги и затихли на порогѣ, онъ не отвелъ глазъ съ газеты, а только мрачнѣе сдвинулъ брови, крѣпче сжалъ губы,
„Потерпи еще, дурочка, помучься немножко. Посмотримъ, съ чего-то сама начнешь“.
Но, вмѣсто тоненькаго, жалобнаго голоска бѣглянки, онъ услышалъ тяжелое сопѣнье и покашливанье мужчины.
„Что за притча!“ Пришлось поневолѣ повернуть голову.
Въ дверяхъ стоялъ, переминаясь съ ноги на ногу, одинъ только Ѳедотычъ. У сановитаго и по-своему развязнаго приказчика видъ былъ такой растерянный, пришибленный, что, очевидно, его миссія потерпѣла полную неудачу. Аѳанасій Андреевичъ пососалъ свою трубку, пустилъ на воздухъ нѣсколько дымныхъ колецъ и протянулъ затѣмъ:
— Ну-у-у?
Приказчикъ съ глубокимъ вздохомъ почесалъ въ затылкѣ.
— Да что, батюшка баринъ… велѣли низко кланяться…
— А барышня? Вѣдь ты же ее видѣлъ?
— Никакъ нѣтъ-съ. Но еще часа три назадъ ее, слышь, повѣнчали съ молодымъ бариномъ, Иваномъ Николаевичемъ.
Аѳанасій Андреевичъ отъ неожиданности даже привскочилъ въ креслѣ.
— Что ты чепуху несешь!
— Точно такъ-съ.
— Повѣнчали?
— Повѣнчали въ церкви съ пѣвчими, при всемъ народѣ, какъ быть должно, а теперя просятъ пожаловать на свадебный пиръ.
— Что дѣлать, мой другъ? — вмѣшалась въ разговоръ Елизавета Петровна, показавшаяся въ дверяхъ за спиною приказчика. — Придется тебѣ, видно, ѣхать…
— Чтобы я — я же къ нимъ еще поѣхалъ? Ноги моей тамъ не будетъ!
— Да они повѣнчаны, слышишь вѣдь, такъ все равно не развѣнчать. Стало быть, остается только помириться, простить.
— Никогда! Ни во вѣкъ! — еще зычнѣе гаркнулъ ея мужъ и съ такимъ азартомъ хватилъ чубукомъ по столу, что большая глиняная трубка отскочила отъ чубука, и табакъ съ искрами разсыпался по полу.
Ѳедотычъ поспѣшилъ затоптать на полу огонь, а баринъ въ сердцахъ швырнулъ чубукъ въ противоположный уголъ комнаты.
— Сами пріѣдутъ ко мнѣ съ повинной, въ ногахъ будутъ валяться, — и то не прощу!

Пріѣзда молодыхъ съ повинной онъ, однако, не дождался. На слѣдующее утро къ крыльцу его, дѣйствительно, подъѣхала карета Новоспасскихъ господъ, но высадили оттуда одну лишь Ѳеклу Александровну. Волей-неволей хозяевамъ пришлось съ поклономъ встрѣтить почтенную старую барыню.
— Ну, что, проспалъ свой гнѣвъ? — заговорила она первая, съ легкой усмѣшкой заглядывая въ хмурыя очи Аѳанасія Андреевича и протягивая ему для поцѣлуя руку.
— Проспалъ, проспалъ, — поспѣшила отвѣтить за мужа Елизавета Петровна, пока онъ молча прикладывался къ рукѣ гостьи.
— Полно тебѣ, мой батюшка, дурить! — продолжала старуха тѣмъ же дружелюбнымъ тономъ. — Что сдѣлано — не воротишь. Самъ долженъ понять, какъ умный человѣкъ. Чего тебѣ нужно? скажи. Счастья сестрицы? Ну, она счастлива, какъ дай Богъ всякому. Одѣвайся-ка, садись со мной въ карету и поздравимъ вмѣстѣ молодыхъ.
— Послушайся, мой другъ, — тихонько попросила и жена, кладя ему на плечо руку.
И послушался онъ на этотъ разъ старухи, сѣлъ съ нею въ карету. Въ Новоспасскомъ же новобрачная, объ руку съ юношей-мужемъ, ждала уже ихъ на крыльцѣ. Въ своей дамской наколкѣ съ розовыми ленточками и съ умоляющей улыбкой на устахъ, она была такъ трогательно-мила, что у брата духу уже не достало укорять бѣдняжку. Онъ молча обнялъ сестрицу, обнялъ и молодого зятя, а когда подали шампанскаго, самъ первый же пожелалъ имъ всякаго благополучія…
Вотъ любопытная исторія женитьбы родителей создателя русской національной оперы, Михаила Ивановича Глинки.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Подъ крылышкомъ бабушки. (1804–1810.)
Какова была радость молодыхъ супруговъ, когда спустя годъ послѣ свадьбы Богъ послалъ имъ сына! Какіе строились воздушные замки для ихъ ненагляднаго первенца, Алешеньки! Но Богъ послалъ — Богъ и взялъ: слабенькій, золотушный мальчикъ не выжилъ и года. Молодая мать, Женичка, или, какъ ее теперь величали, Евгенія Андреевна, была бы безутѣшна, если бы вскорѣ, именно, 20 мая 1804 г., у нея не родился второй ребенокъ. Родился онъ на зарѣ, и въ отвѣтъ на его первый крикъ въ сиреневыхъ кустахъ подъ самымъ окномъ спальни защелкалъ соловей, точно привѣтствуя будущаго музыкальнаго генія. Но новорожденный, нареченный при крещеніи Михаиломъ, былъ едва ли не слабѣе еще своего покойнаго братца, и бабушка его, Ѳекла Александровна, приняла тотчасъ мѣры, чтобы его не постигла та же печальная участь: выбрала для него здоровую кормилицу изъ деревенскихъ бабъ, а самого его взяла къ себѣ во второй этажъ, чтобы лично наблюдать за его уходомъ. Молодая невѣстка пришла, понятно, въ отчаяніе.
— Да вѣдь онъ же мой, маменька, мой!
— И мой! — былъ рѣшительный отвѣтъ. — Я ему родная бабушка и отвѣчаю за него передъ Богомъ.
— Точно такъ же, какъ и мы, его родители…
— Ну да! Вамъ обоимъ въ пору еще въ куклы играть.
— Да мы и играли бы съ нимъ, какъ съ живою куколкой…
— И разбили бы, какъ куклу! Одного ребенка уже схоронили; и другого не уберегли бы.
— Теперь-то убережемъ…
— Нѣтъ, родная, лучше и не проси. Пока я жива, Мишенька останется безотлучно при мнѣ, и не дамъ я вамъ до него пальцемъ прикоснуться.
— Но видѣть-то его, маменька, мы будемъ все-таки каждый день? — робко спросилъ молодой отецъ, до тѣхъ поръ не возражавшій еще ни слова.
— Каждый день? Это для чего?
— Чтобы онъ привыкъ тоже къ намъ…
— И пересталъ слушаться бабушки? Помру разъ, — ну, тогда дѣлайте съ нимъ, что знаете; сами къ тому времени старше станете, дастъ Богъ, поумнѣете. А пока вы будете видѣть его только разъ въ недѣлю — по воскреснымъ днямъ, послѣ обѣдни.
И сынъ и невѣстка стали было умолять — дозволить имъ заглядывать въ дѣтскую хотя бы три, ну, два раза на недѣлѣ; но упрямая старуха отъ рѣшенія своего уже не отступилась.
Такъ-то воспитаніе Мишеньки началось по педагогическимъ пріемамъ бабушки. Каковы же были эти пріемы?
Ѳекла Александровна, на старости лѣтъ постоянно хворая, любила тепло и въ холодное время года не выходила изъ сильно-натопленныхъ комнатъ верхняго жилья. Такъ какъ и внучекъ ея былъ ребенокъ слабенькій, болѣзненный, то въ дѣтской у него температура никогда не была ниже 20 градусовъ Реомюра [≈25°С], и самъ онъ цѣлый день былъ закутанъ еще въ шубку. На воздухъ водили его гулять только съ наступленіемъ весеннихъ теплыхъ дней, а при первыхъ осеннихъ заморозкахъ снова закупоривали на всю зиму въ четырехъ стѣнахъ. Такъ нѣжный отъ природы организмъ мальчика еще болѣе изнѣжился и на всю жизнь сталъ чрезвычайно чувствителенъ ко всякимъ перемѣнамъ погоды. Этимъ же самъ Глинка впослѣдствіи объяснялъ свое пристрастіе къ югу.
Главной исполнительницей своей барской воли при воспитаніи внука Ѳекла Александровна выбрала свою испытанную старшую горничную, Татьяну Карповну. По нѣскольку разъ, какъ днемъ, такъ и ночью, та поила Мишеньку переслащеннымъ чаемъ съ густыми сливками, пичкала его сладкими кренделями и другимъ печеніемъ.
Въ помощь Карповнѣ была назначена поднянькой веселая молодая дѣвушка Авдотья, мастерица на сказки, на пѣсни. Чуть только мальчикъ прихворнетъ или заскучаетъ, раздается повелительный окрикъ бабушки:
— Авдотья! разсказывай сказку! пой!
Надоѣстъ ему слушать, — бабушка устраиваетъ для него увеселительное зрѣлище: наверхъ сзываются всѣ дворовыя дѣвчонки и переряжаются въ индюшекъ: ноги онѣ продѣваютъ въ рукава, а подолъ имъ завязываютъ узломъ надъ головой.
— Ну, что жъ, пляшите! — приказываетъ бабушка, и „индюшки“ выбиваются изъ силъ, чтобы угодить грозной барынѣ и ея маленькому внуку: скачутъ, кружатся и, не видя другъ друга, сшибаются, взвизгиваютъ, валятся въ одну кучу.
Миша хохочетъ, и бабушка тоже довольна, усмѣхается.
— Ну, натѣшились и будетъ! — говоритъ она и топаетъ ногой. — Пошли вонъ, дуры!
Дѣтскихъ игръ съ сверстниками въ первые годы жизни Миша не зналъ, потому что товарищей-однолѣтокъ у него не было. Нельзя же было, по тогдашнимъ понятіямъ, давать ему, барчуку, въ товарищи деревенскихъ ребятишекъ!
Была у него, правда, маленькая сестренка, Полинька, всего годомъ его моложе. Но бабушка почему-то сразу ее невзлюбила и не велѣла даже пускать къ себѣ наверхъ. Когда поднянька Авдотья, тѣмъ не менѣе, какъ-то разъ принесла Полиньку къ братцу, Ѳекла Александровна принялась тотчасъ же распекать Авдотью, да такъ сердито, что Полинька разревѣлась.
— Дѣвчонка дрянь! — еще пуще раскричалась бабушка. — Неси ее вонъ! Да и впередъ, смотри, не смѣй приносить.
Такъ-то вотъ, пока была жива бабушка, Миша не только никогда не игралъ съ сестрицей, но почти ее и не видалъ. Тихій и кроткій, онъ вообще не рѣзвился. Набожность бабушки и обѣихъ нянь нашла въ его впечатлительной душѣ самую благодарную почву. Для него не было бо̀льшаго удовольствія, какъ побывать въ церкви (что случалось, впрочемъ, только лѣтомъ, такъ какъ Новоспасская церковь не топилась). Съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ онъ за богослуженіемъ, усердно крестился и клалъ поклоны. Отъ перезвона же колоколовъ онъ приходилъ въ благоговѣйный восторгъ. Возвратясь разъ домой, онъ досталъ два мѣдныхъ таза и сталъ въ нихъ „звонить“. Подражаніе колокольнымъ звукамъ вышло настолько удачно, что затѣмъ онъ часто развлекался такимъ же образомъ; когда же онъ заскучаетъ, случалось, во время болѣзни, по приказанію бабушки ему приносили небольшіе „настоящіе“ колокола.
Чтенію Миша научился почти самъ собой. Новоспасскій священникъ, отецъ Іоаннъ, почасту навѣщавшій богомольную Ѳеклу Александровну, показалъ однажды ея внуку титлы въ какой-то церковной книгѣ. Каково же было удивленіе батюшки, когда вскорѣ Миша прочиталъ ему цѣлую страницу почти безъ запинки. Умиленію же бабушки и обѣихъ нянь не было конца, и съ этого времени маленькій грамотей долженъ былъ прочитывать имъ каждый день изъ разныхъ душеспасительныхъ книгъ.
Было у Миши еще одно любимое занятіе — рисованіе. Но рисовалъ онъ не карандашемъ, и не на бумагѣ, а мѣломъ на полу, притомъ всего охотнѣе церкви. Бѣда, бывало, если кто-нибудь, проходя по комнатѣ, наступитъ на его рисунокъ! Слабонервный мальчуганъ тотчасъ въ слезы и затопаетъ ножками.
— У-у-у, бяшка! Наступила на церковь.
Вообще, всякую обиду — и свою и чужую — онъ принималъ близко къ сердцу. Дошло, наконецъ, до того, что въ его присутствіи боялись прихлопнуть комара или муху: того гляди, разревется, и ничѣмъ вѣдь потомъ не унять. Такая чувствительность Миши косвеннымъ образомъ нѣсколько укротила даже необузданные порывы старухи-бабушки. Пользуясь полновластнымъ въ то время правомъ господъ надъ своими крѣпостными, Ѳекла Александровна въ сердцахъ не стѣснялась давать волю не только языку, но и рукамъ.
— Страшное тогда житье было! — признавалась много лѣтъ спустя поднянька Авдотья младшей сестрѣ Миши, Людмилѣ Ивановнѣ. — Вашей бабушки я боялась, какъ огня: какъ заслышу ея голосъ, такъ сквозь землю бы провалилась.
Самъ же Миша, при всякой такой ручной расправѣ бабушки съ своими людьми, спасался къ старшей нянѣ Татьянѣ Карповнѣ.
— Бабушка опять разсердилась, — лепеталъ онъ, прижимаясь къ ней и глотая слезы.
— Полно, мое золото, не плачь попустому! — успокаивала его Карповна. — Тебя-то она не тронетъ.
— Да я не о себѣ, няня; мнѣ другихъ жалко…
— Другихъ? Ахъ, ты, болѣзный мой! Насъ, безправныхъ, жалѣешь тоже, слезки изъ-за насъ льешь?
Подхватила какъ-то разъ Ѳекла Александровна такія рѣчи няни и напустилась на нее:
— Что, что такое? Ты еще подговариваешь ребенка противъ меня?
— Зачѣмъ подговаривать? — оправдывалась та. — Сама ты, сударыня, безъ меня, кажись, осерчала; а осерчаешь, такъ отъ голоса твоего стекла въ окнахъ, поди, дрожатъ. Ну, а Мишенька нашъ этого не выноситъ: сейчасъ какъ листъ затрясется, расхнычется.
Непривыкшую къ возраженіямъ старую барыню окончательно взорвало.
— Ты, дура глупая, еще разсуждать со мной смѣешь! Да я тебя, знаешь-ли…
— Бабушка, не тронь ее, не тронь! — взмолился Миша, и поднятая уже рука бабушки опустилась.
— На первый разъ, ради Миши, я тебѣ еще, такъ и быть, спущу, — отрывисто проговорила Ѳекла Александровна. — Но впередъ, смотри у меня, берегись!
Однако, послѣ этого случая и сама она, если внучекъ ея находился по близости, остерегалась давать слишкомъ большую волю своему барскому нраву.
ГЛАВА ВТОРАЯ. „Музыка — душа моя“. (1810–1817.)
Дѣдъ Миши, Николай Алексѣевичъ, скончался уже года полтора по рожденіи внука, у котораго поэтому и не осталось никакихъ личныхъ воспоминаній о дѣдѣ. Впрочемъ, старичокъ безобидный, безотвѣтный сошелъ съ земного поприща точно такъ же тихо, незамѣтно, какъ прожилъ свои семьдесятъ лѣтъ. Послѣ него установленный разъ въ Новоспасскомъ порядокъ ничуть не нарушился; только однимъ хорошимъ человѣкомъ въ домѣ меньше стало.
Не то было послѣ вдовы его, Ѳеклы Александровны, пережившей мужа на четыре года. Съ ея смертью село Новоспасское со всѣми крѣпостными поступило въ полную собственность ея сына, Ивана Николаевича. Онъ былъ уже не безвольнымъ юношей, а мужчиной двадцати шести лѣтъ, и достаточно, казалось бы, присмотрѣлся къ распорядкамъ матери. Но, устраняемый до тѣхъ поръ отъ всякихъ самостоятельныхъ распоряженій, онъ, естественно, не могъ интересоваться сельскимъ хозяйствомъ и лелѣялъ одну завѣтную мечту — зажить большимъ бариномъ, а именно построить, въ полномъ смыслѣ слова, „барскій“ домъ, разбить кругомъ образцовый цвѣточный садъ, завести свой собственный конскій заводъ, и т.д., и т.д. И вотъ, когда силою обстоятельствъ у него были развязаны руки, онъ, не медля, принялся за осуществленіе своей мечты.
Сперва были составлены, разумѣется, подробные планы новаго дома; потомъ были свезены на мѣсто толстѣйшія дубовыя и сосновыя бревна, застучали топоры, завизжали пилы. Въ то же время началась распланировка новаго сада на пространствѣ шести верстъ въ окружности. Работы были въ полномъ ходу, когда ихъ пришлось разомъ прервать: надвинулась военная гроза 1812 года. Всѣ владѣльцы имѣній по пути движенія Наполеоновской арміи на Москву торопились покинуть свои усадьбы, чтобы искать убѣжища во внутреннихъ губерніяхъ. То же сдѣлалъ и владѣлецъ Новоспасскаго, заблаговременно перебравшись со своими въ Орелъ. Но съ зимними морозами туда пришла почти невѣроятная вѣсть: что французы бѣгутъ изъ Москвы безъ оглядки. Подъ Рождество не оставалось уже сомнѣнія, что изъ полумилліонной непріятельской арміи спаслась за границу едва одна тысяча человѣкъ, всѣ же остальные либо захвачены въ плѣнъ, либо полегли костьми подъ глубокими снѣгами на пути бѣгства. Можно было вернуться снова въ свое Новоспасское. Оказалось, что гроза благополучно его миновала: французы туда и не заглядывали.
Съ наступленіемъ весны 1813 года пріостановленныя строительныя работы возобновились. Когда новое зданіе было подведено подъ крышу, а затѣмъ и обсушено, оштукатурено, изъ Москвы были вызваны извѣстные живописцы, чтобы расписать потолки; изъ Петербурга были вывезены для парадныхъ комнатъ паркеты, бархатные обои, зеркала въ золоченыхъ рамахъ, люстры, бра; въ каждую комнату была поставлена своя, подходящая, особаго дерева, мебель; словомъ, относительно внутренняго убранства и комфорта новаго дома желать ничего не оставалось.
Одновременно съ домомъ возникалъ вокругъ него и роскошный цвѣточный садъ, для котораго сѣмена выписывались нарочно изъ Риги, изъ Петербурга и даже изъ-за границы; заводились и другія европейскія затѣи: фонтаны и каскады, островки и мостики, галлереи и бесѣдки. Любимымъ же мѣстомъ самого Ивана Николаевича былъ „Амуровъ лужокъ“ — усаженный розами всѣхъ оттѣнковъ лугъ, посреди котораго возвышалась бѣлая статуя Амура.
По другую сторону дома, за обширнымъ дворомъ, лежалъ старый фруктовый садъ. Теперь около него появились оранжереи и теплицы, чтобы и въ зимнюю стужу можно было гулять подъ цвѣтущими пальмами, угощаться земляникой, малиной и разными южными фруктами: ананасами, персиками, виноградомъ.
Съ какою гордостью Иванъ Николаевичъ показывалъ всѣ эти чудеса навѣщавшимъ его сосѣдямъ! И высшей наградой для него были ихъ восторженные возгласы:
— Что за изящный вкусъ! что за фантазія! что за поэзія!
Если же кто-нибудь былъ настолько наивенъ, что справлялся еще о прозаическомъ хозяйствѣ, то Иванъ Николаевичъ снисходительно усмѣхался:
— Ну, это, признаюсь, не по моей части. Въ полевыхъ работахъ старый приказчикъ нашъ знаетъ толку, конечно, болѣе меня: ученаго учить — только портить; а домашнее хозяйство — дѣло молодой хозяйки: пускай пріучается.
Молодая хозяйка, Евгенія Андреевна, сдѣлавшись самостоятельной въ домашней сферѣ, предалась ей всей душой, и если бъ покойная свекровь ея могла возстать изъ гроба, то, при всей своей взыскательности, осталась бы ею, вѣроятно, довольна.
Сверхъ хозяйственныхъ заботъ, у Евгеніи Андреевны было не мало еще и материнскихъ, потому что нѣсколько лѣтъ послѣ Миши и Поли Господь благословилъ ее еще многими дѣтьми, изъ которыхъ взрослаго возраста достигли затѣмъ два сына и пять дочерей. Всего болѣе хлопотъ, однако, ей было все-таки съ Мишей: его, не въ мѣру изнѣженнаго, надо было совершенно перевоспитать и заставить не скучать по покойной бабушкѣ, отъ которой онъ испыталъ только доброту и ласку. Для укрѣпленія его крайне чувствительнаго организма, няня Татьяна Карповна должна была, противъ собственнаго желанія, выводить мальчика на свѣжій воздухъ во всякую погоду. Съ непривычки онъ, понятно, то и дѣло простужался, — и няня торжествовала:
— Что я говорила, барыня? Нешто Мишенька такой же ребенокъ, какъ другіе? Онъ у насъ тепличный цвѣтокъ; его надо беречь да беречь.
И волей-неволей его стали опять беречь, какъ тепличный цвѣтокъ.
Успѣшнѣе были старанія молодой матери развлечь баловня бабушки. Первымъ дѣломъ она позволила ему видѣться постоянно съ его сестренкой Полинькой, и дѣти вскорѣ крѣпко подружились. Подъ руководствомъ веселой подняньки Авдотьи, они цѣлый день играли въ разныя дѣтскія игры. Но окна дѣтской выходили на дворъ, откуда доносились звонкіе голоса дворовыхъ ребятишекъ. Подойдетъ, бывало, Миша къ окошку и видитъ, какъ тѣ тамъ рѣзвятся, играютъ въ пятнашки, въ горѣлки, въ бабки. Зависть возьметъ Мишу.
— Няня, а няня!
— Что, касатикъ?
— Дѣти на дворѣ играютъ!
— Ну, и пущай ихъ.
— Вотъ бы и намъ съ ними!
— Что ты! Перекрестись. Не видишь, что ли, какія они все чумазыя, растрепанныя…
— Да вѣдь имъ веселѣе, чѣмъ намъ съ Полей?
— Мало-ли что!
— Но маменька, можетъ-быть, позволитъ?
— И не думай, ни-ни-ни!
— Поля! пойдемъ къ маменькѣ, попросимъ.
Но няня была права. Дворяне въ тѣ времена почитались совсѣмъ особой породой людей, и ближайшее общеніе ихъ съ крѣпостными считалось чуть ли не позорнымъ. Евгенія Андреевна пристыдила дѣтей, и они, повѣсивъ носъ, поплелись обратно въ дѣтскую. Тѣмъ не менѣе, ихъ видимое огорченіе заставило молодую мать серіозно призадуматься. Наединѣ съ мужемъ, она подѣлилась съ нимъ своей новой заботой.
— Гмъ… а вѣдь имъ, право, должно быть прескучно, — сказалъ Иванъ Николаевичъ. — Съ утра до вечера играть все вдвоемъ да вдвоемъ… Если бъ пріискать для нихъ хоть третьяго еще товарища.
— Да гдѣ его сейчасъ взять-то?
— А вотъ переберемъ по пальцамъ, какіе въ уѣздѣ у насъ дворяне многодѣтные, да побѣднѣе.
И стали они перебирать. Но подходящихъ подъ ихъ требованія никого не находилось.
— Да чего лучше, — вспомнилъ вдругъ Иванъ Николаевичъ: — послѣ землемѣра Мѣшкова осталась вдова съ малолѣтней дочкой.
— Она очень нуждается, правда, — сказала Евгенія Андреевна; — но уступитъ ли она намъ свою дочурку — свою единственную радость?
— Не уступитъ, такъ возьмемъ съ дочкой и мать въ придачу.
— Но въ качествѣ чего?
— Въ качествѣ бонны, что ли. Женщина она хоть и простая, но для такихъ малышей много ли нужно? Все же она грамотная…
— И предобрая, будетъ любить нашихъ дѣтей, — подхватила Евгенія Андреевна. — Что же, Иванъ Николаевичъ, не откладывая въ долгій ящикъ, не послать ли за нею уже завтра?
— Пошли, мой ангелъ, переговори съ нею: это по твоей части.
Результатомъ переговоровъ со вдовой Мѣшковой было переселеніе ея, вмѣстѣ съ дочкой Катей, въ Новоспасское. Мѣшкова, Ирина Ѳедоровна, не имѣвшая понятія о школьномъ преподаваніи и вообще малосвѣдущая, при всемъ своемъ усердіи не могла дать малолѣткамъ даже первоначальныхъ научныхъ свѣдѣній въ правильной формѣ. Зато, какъ женщина простодушная и сердечная, она берегла двухъ хозяйскихъ дѣтей едва-ли не больше своей родной Кати. Сама Катя, которая немногимъ лишь была старше Миши, столь же беззавѣтно привязалась къ обоимъ, и какъ въ учебныхъ занятіяхъ, такъ и въ играхъ, всѣ трое стали неразлучны.
Въ одномъ предметѣ — въ рисованіи — Миша совершенно неожиданно обрѣлъ прекраснаго учителя. Приглашенный Иваномъ Николаевичемъ для постройки новаго дома архитекторъ засталъ однажды мальчика ползающимъ по полу съ мѣломъ въ рукѣ.
— Ты что это дѣлаешь, шалунъ? — удивился онъ.
— А церковь рисую.
— Дай-ка посмотрѣть… Эге! Ты у кого это научился?
— Ни у кого.
— Значитъ, самоучкой? Ай да молодецъ! Но мѣломъ, да на полу ты рисованью все-таки никогда не научишься.
— А то какъ же?
— Карандашемъ на бумагѣ. И начинать надо не со строеній, а съ лица человѣческаго. Пойдемъ-ка со мной, дружокъ.
Взявъ Мишу за руку, архитекторъ повелъ его къ себѣ, усадилъ за столъ и разложилъ передъ нимъ нѣсколько литографированныхъ рисунковъ.
— Вотъ тебѣ на выборъ: носъ, ротъ, глазъ, ухо; а вотъ карандашъ и бумага. Ну-съ, начнемъ-ка съ простѣйшаго — съ носа. Какъ-то ты справишься.
Справился Миша съ задачей для перваго раза довольно удовлетворительно; но тотчасъ, уже отъ себя, прибавилъ къ носу и глазъ съ бровью.
— Вотъ это уже напрасно! — сказалъ архитекторъ. — По-твоему, этотъ кружокъ съ точкой по серединѣ — глазъ?
— Глазъ.
— А по-моему, пуговица. Взгляни-ка на меня съ боку: глазъ у меня тоже круглый или длинноватый?
— Длинноватый.
— А зрачекъ по серединѣ или въ углу глаза?
— Въ углу.
— То-то же. Лучше не сочиняй, а копируй просто съ готоваго рисунка.
Дѣлать нечего, пришлось копировать. Зато съ каждымъ разомъ дѣло шло все успѣшнѣе. И Миша еще больше пристрастился къ рисованію1.

Немало также способствовалъ развитію Миши одинъ родственникъ-сосѣдъ, Александръ Ивановичъ Кипріановъ. Это былъ милѣйшій старикъ, много читавшій и съ особеннымъ удовольствіемъ разсказывавшій другимъ о прочитанномъ. Когда онъ, случалось, начнетъ говорить о чужихъ краяхъ, о роскоши тропической природы, Миша такъ и вопьется въ него глазками, боится слово проронить.
— И все это правда, Александръ Ивановичъ? — спрашивалъ мальчикъ. — Вы сами были тамъ, сами все видѣли?
— Нѣтъ, голубчикъ, — съ легкимъ вздохомъ отвѣчалъ Кипріановъ. — Собирался въ кругосвѣтное плаваніе, да такъ и не собрался.
— Откуда же вы все такъ хорошо знаете?
— Изъ книгъ вычиталъ.
— И много у васъ книгъ?
— Цѣлая библіотека.
— Какой вы счастливый!
— Но дѣтскихъ сказокъ для тебя у меня, прости, нѣтъ.
— Да на что мнѣ сказки! Сказки няни Авдотьи мнѣ и то уже надоѣли. Мнѣ бы одну правду, но про чужіе страны и народы.
— По части путешествій-то у меня запасъ неистощимый. Въ слѣдующій разъ, пожалуй, привезу тебѣ что-нибудь… ну, хоть про португальскаго мореплавателя Васко де Гама, который еще триста лѣтъ назадъ побывалъ въ Африкѣ, въ Индіи… Привезти?
— Ахъ, пожалуйста! только, смотрите, не забудьте.
И первыя же слова Миши въ слѣдующій пріѣздъ Кипріанова были:
— А книгу для меня привезли, не забыли? Вмѣсто отвѣта тотъ съ улыбкой подалъ ему увѣсистый томъ.
— Ой, какая толстая!
— Испугался?
— Нѣтъ: чѣмъ толще, тѣмъ лучше.
Раскрывъ книгу, Миша прочелъ на заглавной страницѣ:
— „О странствіяхъ вообще. Томъ 1-й“. Такъ есть еще и другіе томы?
— Есть.
— И вы мнѣ ихъ тоже дадите почитать?
— Если тебѣ не прискучитъ…
— Ужъ это-то нѣтъ!
Вотъ и время вечерняго чая. Всѣ сидятъ около самовара въ столовой, — взрослые за чаемъ, а Поля и Катя за кружкой молока (чай дѣти получали только по воскресеньямъ). Одного лишь Миши что-то не видать.
— А что же Миша? — обращается Евгенія Андреевна къ дѣвочкамъ. — Развѣ его не звали тоже?
— Звали, — отвѣчаетъ Поля, надувъ губки. — Но онъ никакъ не можетъ оторваться отъ своей книги!
— Простите, Евгенія Андреевна, — извиняется старикъ Кипріановъ: — мой грѣхъ. Ты бы, Полечка, еще разъ сходила за нимъ.
— Да онъ меня все равно не послушается.
— Такъ притащи его насильно, — не одна, такъ вмѣстѣ съ Катей.
Дѣвочки переглядываются и смѣются.
— Пойдемъ, Катя, притащимъ его?
— Пойдемъ.
Немного погодя дѣвочки возвращаются, со смѣхомъ таща подъ руки Мишу. Съ усмѣшкой привѣтствуютъ его и взрослые. Но онъ точно этого не замѣчаетъ. За столомъ возобновляется прерванный разговоръ. А Миша сидитъ передъ полной кружкой молока, но ея не видитъ, вперивъ глаза мечтательно куда-то въ пространство.
— Гдѣ ты теперь мыслями витаешь, Миша? — спрашиваетъ, улыбаясь, Кипріановъ. — Вѣрно, на кораблѣ Васко де Гама?
Тутъ только малышъ приходитъ въ себя, какъ отъ волшебнаго сна.
— Да, Александръ Ивановичъ.
— Объѣхалъ мысъ Доброй Надежды?
— Объѣхалъ… А въ другихъ томахъ, Александръ Ивановичъ, разсказывается о какихъ странахъ?
— Объ островахъ остиндскаго архипелага: Цейлонѣ, Суматрѣ, Явѣ… Тебѣ, дружокъ, дастъ Богъ, посчастливится болѣе, чѣмъ мнѣ: самъ объѣздишь весь свѣтъ. Тогда обо мнѣ, старикѣ, можетъ-быть, вспомянешь.
Посѣтить другія страны свѣта и Мишѣ не было суждено. Но любовь къ странствіямъ, пробужденная въ немъ еще въ дѣтствѣ благодаря Кипріанову, разгорѣлась въ немъ съ годами въ настоящую страсть. И не разъ потомъ, путешествуя по Европѣ, онъ, дѣйствительно, вспоминалъ съ благодарностью о добромъ старикѣ, снабжавшемъ его, ребенка, географическими книгами.
Музыкальныя способности будущаго великаго композитора проявлялись вначалѣ только въ упомянутыхъ уже выше попыткахъ подражать на мѣдныхъ тазахъ и маленькихъ колоколахъ колокольному звону. Во время пребыванія въ Орлѣ зимою 1812–1813 г.г. мальчику представилась къ тому еще бо̀льшая возможность. Въ Орлѣ было нѣсколько церквей; въ каждой колокола звучали иначе, и Миша по одному звону безошибочно распознавалъ, гдѣ благовѣстятъ. Снова пошли въ ходъ мѣдные тазы; вскорѣ онъ такъ навострился въ этомъ искусствѣ, что могъ, по желанію, воспроизводить благовѣстъ любой церкви. Эта музыкальная передача колокольнаго трезвона нашла впослѣдствіи замѣчательное примѣненіе въ эпилогѣ безсмертной его оперы „Жизнь за царя“.
Врожденная любовь къ гармоніи звуковъ сказалась въ мальчикѣ затѣмъ еще и въ иной формѣ. Когда родители, бывало, брали его съ собой въ Шмаково къ дядѣ Аѳанасію Андреевичу, Миша тотчасъ бѣжалъ въ гостиную, половина которой, какъ сказано, была отведена для разныхъ пѣвчихъ птицъ. Остановится онъ передъ сѣткой, внимательно прислушивается къ щебетанію и трелямъ маленькихъ пѣвуновъ и самъ имъ подсвистываетъ.
„Какъ выросту, такъ непремѣнно заведу себѣ тоже пѣвуновъ!“ рѣшилъ онъ; но когда затѣмъ отцу его по наслѣдству досталось, между прочимъ, нѣсколько пѣвчихъ птицъ, Миша выпросилъ ихъ себѣ, и онѣ свободно летали у него по комнатѣ.
Еще болѣе, впрочемъ, этой естественной музыки плѣняла Мишу въ Шмаковѣ музыка искусственная. Аѳанасій Андреевичъ, получившій блестящее свѣтское воспитаніе и жившій открытымъ домомъ, имѣлъ свой оркестръ, свой оперный театръ. Само собою разумѣется, что всѣ исполнители: музыканты, пѣвцы, пѣвицы и танцовщицы были изъ своихъ же крѣпостныхъ; набирались они изъ деревенской молодежи и посылались нарочно на выучку въ Петербургъ.
Въ Новоспасскомъ въ то время своей собственной музыки еще не было. Но въ семейные праздники, когда туда съѣзжались на нѣсколько дней цѣлыя семьи родственниковъ и добрыхъ сосѣдей, Иванъ Николаевичъ посылалъ къ шурину въ Шмаково записочку съ просьбой одолжить ему свой оркестръ. И изо дня въ день, съ утра до вечера, гремѣлъ шмаковскій оркестръ, играя для танцевъ матрадуры и кадрили, экосезы и вальсы, а во время завтрака, обѣда и ужина — разные симфоніи, романсы и оперныя аріи.
Въ жизни крупныхъ талантовъ бываютъ иногда случаи, сами по себѣ ничтожные, но наталкивающіе ихъ на настоящую дорогу. То же было и съ Глинкой на 10 или 11 году жизни. Оркестромъ дяди былъ сыгранъ квартетъ Крузеля съ кларнетомъ. Мальчикъ былъ точно опоенъ волшебнымъ зельемъ; имъ овладѣлъ сперва неизъяснимый восторгъ, перешедшій затѣмъ на цѣлый день въ лихорадочное, сладкое томленіе. На слѣдующее утро у него былъ урокъ рисованія. Обучавшій его этому предмету домашній архитекторъ, всегда довольный его прилежаніемъ, нашелъ нужнымъ сдѣлать ему замѣчаніе:
— Какъ ты сегодня разсѣянъ, Миша!
— Простите, — извинился Миша, — но у меня все еще звучитъ въ ушахъ этотъ дивный квартетъ.
— Какой квартетъ?
— Да тотъ, что̀ играли вчера. Неужели вы не помните?
И онъ сталъ напѣвать основную мелодію квартета.
— Хорошо, хорошо, припомнилъ! — улыбнулся учитель, — А теперь займемся-ка опять дѣломъ.
Но ученикъ и на другомъ и на третьемъ урокѣ былъ не менѣе разсѣянъ. Водя карандашемъ по бумагѣ, онъ совершенно безсознательно мурлыкалъ себѣ что-то подъ носъ.
— Откуда у тебя эта новая мода — пѣть во время урока? — укорилъ его учитель. — Ты, вѣрно, думаешь только о музыкѣ?
— Что же дѣлать? — отвѣчалъ Миша: — музыка — душа моя!
Около этого времени началось правильное обученіе Миши музыкѣ. Кромѣ вдовы Мѣшковой, при обоихъ дѣтяхъ недолго состояла также привезенная изъ Москвы француженка Роза Ивановна (фамилія ея забыта), которую, однако, почему-то признали вдругъ нужнымъ отправить обратно въ Москву. На смѣну ей была выписана изъ Петербурга, въ 1815 году, гувернантка изъ воспитанницъ Смольнаго монастыря, Варвара Ѳедоровна Кламмеръ. Выборъ оказался какъ нельзя болѣе удачнымъ. При всей своей молодости, эта двадцатилѣтняя дѣвушка сумѣла пріохотить дѣтей къ ученію; они взапуски готовили свои уроки и вскорѣ стали болтать довольно бойко по-нѣмецки и по-французски. Сверхъ научныхъ предметовъ, Варвара Ѳедоровна занималась съ ними и музыкой, при чемъ особенное вниманіе обращала на то, чтобы Миша, который былъ музыкальнѣе сестры, свободно разбиралъ ноты.
— Да ты, Миша, не гляди все на клавиши! — говорила она. — Такъ ты никогда не научишься играть бѣгло.
— Но какъ же не глядѣть, Варвара Ѳедоровна, когда клавиши передо мною? — отговаривался Миша.
— Ну, такъ мы ихъ чѣмъ-нибудь прикроемъ.
И, въ самомъ дѣлѣ, на другой же день надъ клавишами была приспособлена доска, скрывавшая ихъ отъ глазъ играющаго. Вначалѣ Миша нерѣдко бралъ невѣрныя ноты, за что ему попадало карандашемъ по пальцамъ. Въ короткое время, однако, онъ такъ привыкъ къ „слѣпой“ игрѣ, что почти никогда уже не ошибался.
Изъ пьесъ, исполнявшихся оркестромъ его дяди, Миша охотнѣе всего игралъ на фортепьяно двѣ увертюры: „Лодойска“ Крейцера и „Два слѣпыхъ“ Мегюля. Но сколько онъ ни влагалъ „души“ въ свою игру, подъ его дѣтскими пальцами выходила далеко не то, что въ оркестрѣ.
— Не то, все не то! — восклицалъ онъ, чуть не плача. — Звукъ фортепьяно такъ бѣденъ…
— А ты хотѣлъ бы передать за разъ всѣ оркестровые инструменты? — разсмѣялась Варвара Ѳедоровна.
— Конечно. Будь у меня десять рукъ, вмѣсто двухъ, — о! тогда… Даже скрипка звучитъ гораздо нѣжнѣе, чѣмъ фортепьяно.
— Ну, на скрипкѣ, прости, я не берусь учить тебя. Попроси дядю своего Аѳанасія Андреевича уступить одного изъ своихъ скрипачей…
Миша ухватился за эту мысль, и дядя уважилъ его просьбу; подарилъ ему вдобавокъ маленькую скрипку, а потомъ и пикколо-флейту. На бѣду, присланный скрипачъ самъ владѣлъ смычкомъ довольно посредственно и нерѣдко детонировалъ. Неудивительно, что и Мишѣ скрипичная игра не давалась. Тѣмъ не менѣе, онъ пиликалъ на своей скрипицѣ очень усердно, тираня слухъ всѣхъ домашнихъ. Когда же, случалось, дядинъ оркестръ игралъ для танцевъ, Миша со скрипкой и пикколо-флейтой становился рядомъ и старался подладиться подъ оркестръ.
— Опять ты здѣсь! — сердился отецъ. — Иди-ка танцовать.
— Не люблю я танцовать, папенька, — отговаривался мальчикъ, — а музыку обожаю…
— Пустяки, пустяки! Не въ музыканты же тебѣ итти. Какой изъ тебя потомъ выйдетъ кавалеръ, если ты станешь прыгать козломъ? Маршъ!
И Миша со вздохомъ повиновался. Но, сдѣлавъ туръ или два, онъ ускользалъ назадъ къ оркестру.
Вѣнцомъ всякаго такого музыкально-танцовальнаго вечера для него былъ ужинъ, — но не изъ-за ѣды, а опять-таки изъ-за музыки: къ ужину исполнялись обыкновенно русскія простонародныя пѣсни на однихъ духовыхъ инструментахъ.
„Эти грустно-нѣжные, но вполнѣ доступные для меня звуки мнѣ чрезвычайно нравились, — говорится въ автобіографіи Глинки, — и, можетъ-быть, эти пѣсни, слышанныя мною въ ребячествѣ, были первою причиною того, что впослѣдствіи я сталъ преимущественно разрабатывать народную русскую музыку“.
Ученье у Варвары Ѳедоровны тѣмъ временемъ шло своимъ чередомъ. Къ началу 1817 года Миша по всѣмъ предметамъ былъ уже порядочно подготовленъ къ пріемному экзамену въ такъ-называемый Благородный пансіонъ для дворянскихъ дѣтей (впослѣдствіи первая петербургская гимназія), открытый незадолго передъ тѣмъ при Главномъ Педагогическомъ институтѣ. Надо было отвезти мальчика въ Петербургъ. Въ тѣ времена это было цѣлое путешествіе, и въ Новоспасскомъ былъ сооруженъ на сей конецъ особый возокъ, необычайно просторный и обшитый кругомъ мѣхомъ. Самъ Иванъ Николаевичъ, занятый по дворянскимъ выборамъ, не имѣлъ возможности отлучиться, чтобы сопровождать сына; но зато его провожали мать, дядя, сестра, гувернантка и горничная; всѣ совершенно удобно помѣстились въ томъ же возкѣ.
— Совсѣмъ Ноевъ ковчегъ! — говорила, смѣясь, Поля.
— Нѣтъ, это корабль Колумба, — съ важностью возразилъ Миша, — и мы ѣдемъ открывать Америку.
— Да она давнымъ-давно открыта!
— Точно на свѣтѣ одна только Америка!
— И что же ты будешь дѣлать тамъ, въ своей новой Америкѣ?
— Онъ будетъ все музыканить, и дикіе будутъ плясать по его дудкѣ, — шутливо замѣтилъ дядя.
— Да, я буду задавать концерты, — серіозно подтвердилъ Миша. — Но у меня будутъ цѣлые оркестры изъ лучшихъ музыкантовъ, я самъ буду сочинять для нихъ пьесы, и обо мнѣ будутъ печатать во всѣхъ газетахъ, съ моимъ портретомъ…
Всѣ расхохотались.
— Мечтай, мой другъ, мечтай, — сказалъ Аѳанасій Андреевичъ. — Но такъ какъ ждать этого придется, пожалуй, до второго пришествія, а папенькѣ твоему и теперь, я думаю, будетъ пріятно имѣть портретъ старшаго сына, то мы сдѣлаемъ ему сюрпризъ — закажемъ въ Петербургѣ для него табакерку съ твоимъ портретомъ.
— Зачѣмъ же только съ моимъ, дяденька? Маменька и Поля будутъ также въ Петербургѣ…
— И чудесно: велимъ написать васъ всѣхъ троихъ группой.

Мечты же его со временемъ все же оправдались: ему суждено было открыть свою Америку — національную русскую музыку.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Недоросль изъ дворянъ. (1822.)
Пять лѣтъ слишкомъ молодой Глинка пробылъ въ Благородномъ пансіонѣ при Главномъ Педагогическомъ институтѣ. Домой въ Новоспасское изъ Петербурга онъ пріѣзжалъ только на лѣтнія вакаціи. Въ маѣ 1822 года успѣшно окончивъ курсъ пансіона съ правомъ на чинъ Х-го класса, онъ возвратился къ своимъ уже не въ казенной формѣ, а въ хорошо сшитомъ партикулярномъ платьѣ. Послѣ первыхъ привѣтствій, всѣ принялись разглядывать восемнадцатилѣтняго молодого человѣка и дѣлать свои замѣчанія.

— Какъ есть столичный щеголь, — говорилъ одобрительно Иванъ Николаевичъ. — Но съ прошлаго лѣта, кажется, и на вершокъ не выросъ! А я все разсчитывалъ, что ты переростешь меня.
— Какъ же я посмѣлъ бы, папенька? — отшутился сынъ.
— И бороды еще не видать, — критически замѣтила старшая сестра его, Поля.
— Потому что брѣюсь! — не безъ важности отозвался братъ, проводя ладонью по подбородку. — Вонъ какая щетина.
— Онъ брѣется! у него щетина! ха-ха-ха-ха! — залилась звонкимъ смѣхомъ толпившаяся кругомъ дѣтвора.
Младшая сестренка, пятилѣтняя Людмилочка, даже запрыгала отъ радости и захлопала въ ладошки:
— У него щетина!
— Коротышка этакая, а туда же. Вотъ погоди! — сказалъ братъ и, схвативъ ее съ полу, проѣхался подбородкомъ взадъ и впередъ по ея нѣжному личику.
— Ай, колется! — запищала малютка. — Пусти, Миша, пусти!
— То-то же. Будешь знать Мишу!
— Теперь ты у насъ уже не Миша, а Мишель, — сказала Евгенія Андреевна, съ счастливой улыбкой матери любуясь своимъ малорослымъ, но все-таки „большимъ“ уже сыномъ. — Прошелъ весь курсъ наукъ, легко сказать!
Она чистосердечно гордилась ученостью сына, потому что знала, что въ старшихъ классахъ Благороднаго пансіона всѣ науки преподавались университетскими профессорами. Самъ Глинка о преподаваніи въ пансіонѣ отзывается въ своихъ „Запискахъ“ довольно сдержанно и неопредѣленно. Но извѣстный литераторъ Иванъ Ивановичъ Панаевъ, окончившій тотъ же пансіонъ нѣсколько лѣтъ спустя, высказывается гораздо откровеннѣе и едва ли не черезчуръ рѣзко:
„Мы не пріобрѣли никакихъ, даже элементарныхъ научныхъ свѣдѣній. Въ туманѣ головъ нашихъ бродятъ безсвязно кое-какія историческія имена, названія городовъ и войнъ, какіе-то годы и цифры, но не только года, даже столѣтія мѣшаются и перепутываются въ нихъ.“
— А что твои нервы, голубчикъ? — продолжала допытывать сына Евгенія Андреевна. — Немножко-то хоть окрѣпли?
— Ужъ право, не знаю, маменька, — отвѣчалъ Мишель, — Всякую мелочь я попрежнему принимаю слишкомъ близко къ сердцу. Товарищи такъ и прозвали меня Мимозой.
— Что это — мимоза? — спросила Людмилочка.
— Это, Милушка, такое растеніе: какъ до него дотронешься, такъ у него сейчасъ свернутся листья: „Ай, не тронь меня!“
— И ты такой же?
— И я такой же: свернусь ежомъ — и заколю щетиной!
— Что ты въ состояніи шутить — хорошій уже знакъ, — замѣтила Евгенія Андреевна. — Но при отъѣздѣ навсегда изъ пансіона ты, вѣрно, тоже расчувствовался?
— Пока прощался съ товарищами, такъ кое-какъ крѣпился; но когда поднялся на чердакъ къ моимъ голубямъ и кроликамъ, такъ, признаюсь, не выдержалъ…
— Заплакалъ? — недовѣрчиво досказала одна изъ старшихъ сестрицъ.
— А ты бы не заплакала, если бы тебѣ пришлось навсегда разставаться съ такими милыми звѣрьками?
— И я тоже расплакалась бы! — сказала Людмилочка. — Кролики — такіе вѣрь душечки! Но зачѣмъ они были у тебя на чердакѣ, а не въ комнатѣ?
— Затѣмъ, что въ мезонинѣ моемъ я жилъ не одинъ, а съ тремя товарищами и гувернеромъ нашимъ Кюхельбекеромъ.
— Это вѣдь однокашникъ молодого Пушкина по лицею? — вставилъ Иванъ Николаевичъ.
— Да, и пишетъ тоже стихи, но какіе, — помилуй Боже!
— А онъ вамъ ихъ прочитывалъ?
— Какъ же, и съ какимъ еще упоеніемъ! Онъ считаетъ себя, кажется, вторымъ Державинымъ.
— Ну, что жъ, это довольно простительная слабость. Вообще же вѣдь онъ добрый малый?
— Добрый, но не малый: съ коломенскую версту. Впрочемъ, съ нимъ-то мы еще ладили. За душевную доброту мы любили его куда болѣе, чѣмъ остальныхъ гувернеровъ. Мосье Трипѐ, напримѣръ, гувернеръ-французъ, зналъ только играть въ лапту, притомъ мастерски (отдаю ему честь), но бранился, какъ настоящій извозчикъ.
— Ну, это ты сочиняешь!
— Увѣряю васъ.
— Но онъ все-же изъ французовъ?
— Да вѣдь изъ какихъ, папенька? Знаете ли вы, чѣмъ онъ былъ до своего гувернерства?
— Чѣмъ?
— Мелочнымъ торговцемъ.
— Кто тебѣ говорилъ?
— Слухомъ земля полнится. Вѣдь и мистеръ Виттонъ или, какъ называли его наши дядьки, „господинъ мусье мистеръ Виттонъ“, изъ простыхъ шкиперовъ.
— Это гувернеръ-англичанинъ?
— Да; но онъ же преподавалъ намъ и англійскій языкъ. На бѣду нашу, любимымъ его блюдомъ была молочная рисовая каша. Какъ только, бывало, въ меню ужина значится рисовая каша, такъ чуть не всѣ мы, оказывается, выговариваемъ англійскія слова не такъ, какъ нужно. „Посиди на ваши колѣнъ!“ кричитъ мистеръ Виттонъ и даетъ виновному такую подножку, что хочешь—не хочешь, а падаешь на колѣни. Ну, а къ ужину всѣ „сидѣвшіе на колѣнъ“ остаются безъ рисоваго блюда, и дядька Савелій относитъ всѣ арестованныя порціи въ камеру къ мистеру Виттону. Нѣмецъ, Herr Geck, въ своемъ рыжемъ парикѣ, сентиментальный, какъ герои въ нѣмецкихъ романахъ…
— Довольно, Мишель, будетъ! — прервалъ сына Иванъ Николаевичъ. — Какой у тебя, однако, злой языкъ!
— Да вѣдь все это правда, папенька…
— Вѣрно, жалованье гувернерамъ слишкомъ маленькое, — вступилась Евгенія Андреевна: — а они должны быть, вѣроятно, изъ иностранцевъ…
— Обязательно, — подтвердилъ Мишель. — Я вѣдь никого и не виню. Совсѣмъ другое дѣло — ихъ начальникъ, подъ-инспекторъ Иванъ Якимовичъ Колмаковъ. Вы его вѣдь тоже видѣли.
— У него, кажется, привычка моргать этакъ глазами?
— Вотъ, вотъ. Такъ его мы всѣ очень почитали, потому что онъ не только душа-человѣкъ, но и ученый: знаетъ всѣ науки не хуже, кажется, самихъ профессоровъ. Не придетъ какой-нибудь профессоръ, нашъ Иванъ Якимычъ уже тутъ какъ тутъ, читаетъ за него лекцію экспромтомъ, да еще съ какимъ увлеченіемъ! На экзаменахъ же не только не рѣжетъ, а подсказываетъ, какъ никто. Зато послѣ выпуска мы всѣмъ классомъ задали ему банкетъ, разумѣется, съ пуншемъ, къ которому у него есть нѣкоторая склонность. По восьмому пуншу душа у Ивана Якимыча совсѣмъ распахнулась: „Жизнь коротка, — говоритъ. — Мудрый, пользуйся жизнью… Ванька Колмаковъ — мудрый мужикъ и честный христіанинъ… Добрые люди всегда имѣютъ въ запасѣ: бутылку на столѣ, двѣ подъ столомъ… Разумѣй объ этомъ тотъ, кому вѣдать надлежитъ“…
Говорилъ это Мишель уже не своимъ собственнымъ голосомъ, а хриплымъ, отрывистымъ баскомъ, при чемъ такъ уморительно моргалъ глазами и обдергивалъ на себѣ жилетъ, что не только его сестрицы и братишки, но и родители не могли уже удержаться отъ смѣха.
— Какъ тебѣ не стыдно, Мишель! — съ укоризной замѣтилъ отецъ. — Самъ же ты говоришь, что онъ достоинъ всякаго уваженія…
— И всегда буду его уважать. Но если что смѣшно, то какъ-то жаль не посмѣяться; особенно, когда вспомнишь про нашъ историческій кантъ:
— Ну, вотъ поди съ этакими мальчишками! — сказалъ Иванъ Николаевичъ, кусая губы, чтобы не заразиться опять веселостью другихъ. — Не самъ ли ужъ ты это сочинилъ?
— Нѣтъ, стихи не мои; написалъ ихъ товарищъ мой Соболевскій 3. Я только приспособилъ къ нимъ модный романсъ: „Душа-ль, моя душенька“.
— Вотъ къ чему ведутъ твои музыкальныя занятія! Я, право, и не радъ, что позволилъ тебѣ брать уроки у знаменитаго Фильда.
— Фильдъ, папенька, въ этомъ случаѣ рѣшительно не при чемъ; я взялъ у него всего три урока, потому что онъ уѣхалъ потомъ въ Москву. И какъ я жалѣлъ объ этомъ! Что у него за сила, отчетливость въ игрѣ и въ то же время что за мягкость! Точно о клавиши ударяютъ не пальцы, а крупныя капли дождя и вдругъ разсыпаются жемчугомъ по бархату! Послѣ него другихъ моихъ учителей музыки4 просто и не слушалъ бы: они не играютъ, а рубятъ котлеты! А что нашъ здѣшній виртуозъ, Карлъ Ѳедоровичъ? А! lupus in fabula: про волка рѣчь, а онъ навстрѣчь.
Въ дверяхъ показался скромнаго вида господинъ — супругъ новой гувернантки, замѣнившей у младшихъ хозяйскихъ дѣтей г-жу Кламмеръ.
— Мы сейчасъ только говорили о нѣкоемъ виртуозѣ Карлѣ Ѳедоровичѣ Гемпелѣ, — привѣтствовалъ входящаго Мишель, протягивая ему руку.
— Обо мнѣ? Какой ужъ я виртуозъ! — отвѣчалъ по-нѣмецки Гемпель, видимо, все-таки польщенный. — Если я чему научился, такъ отъ моего покойнаго родителя, простого органиста въ Веймарѣ.
— Однако, вы большой знатокъ серіозной оперной музыки.
— Знатокъ? — пожалуй, потому что очень ужъ люблю оперную музыку, но не виртуозъ, о, нѣтъ! Гдѣ ужъ мнѣ: черезъ самого себя не перескочишь. О! какъ я вамъ завидую, что вы могли слышать въ Петербургѣ на сценѣ полныя оперы. Но, кромѣ того, вы бывали, конечно, еще и въ концертахъ?
— Старался ни одного не пропустить, особенно, когда игралъ Гуммель. Разъ онъ игралъ даже у насъ на дому, т.-е. у дяди Аѳанасія Андреевича, когда тотъ зимой пріѣзжалъ въ Петербургъ…
— Разсказывалъ намъ вашъ дядя объ этомъ вечерѣ, разсказывалъ и о томъ, что Гуммель заставилъ васъ сыграть его собственный А-мольный концертъ, и что вы показали себя настоящимъ концертантомъ.
— Ужъ, право, не знаю… Знаю только, что сердце у меня страшно при этомъ билось, голова кружилась…
— Но Гуммель васъ похвалилъ?
— Похвалилъ и въ награду мнѣ исполнилъ еще блестящую импровизацію. При выпускѣ изъ пансіона, недѣлю тому назадъ, этотъ же самый концертъ я игралъ уже публично вмѣстѣ съ Карломъ Мейеромъ, который аккомпанировалъ мнѣ на другомъ роялѣ.
— О, Карлъ Мейеръ! Онъ — прекрасный учитель, и, главное, умѣетъ развить въ ученикахъ музыкальный вкусъ. Я впередъ уже радуюсь, что мы будемъ опять играть съ вами въ четыре руки. Не привезли ли вы чего-нибудь новенькаго?
— Привезъ новую оперу Россини „Cenerentola“ („Золушка“)5. но только на двѣ руки.
— Экая жалость!
— Такъ вотъ что, Карлъ Ѳедоровичъ: переложимъ ее вмѣстѣ на четыре руки.
— Гмъ… А вы сами занимались уже композиціей?
— Кое-какія мелочи сочинилъ: варіаціи на чужія темы, оригинальный вальсъ — F-dur6…
— О! тогда, дастъ Богъ, справимся и съ „Ченерентолой“. У васъ, мой милый, есть всѣ задатки сдѣлаться профессіональнымъ музыкантомъ.
— Только не профессіональнымъ! — испугался Иванъ Николаевичъ. — Вы, Карлъ Ѳедоровичъ, пожалуйста ужъ, не сбивайте юношу съ толку. Быть музыкантомъ, — какая же это карьера для русскаго дворянина? Дѣдъ его служилъ государю своему вѣрой и правдой; отецъ его тоже служитъ — предводителемъ дворянства цѣлаго уѣзда, а ему, старшему въ новомъ поколѣніи стариннаго рода Глинокъ, весь вѣкъ оставаться недорослемъ изъ дворянъ, — благодарю покорно! Чиновникомъ же онъ сразу будетъ зачисленъ въ коллежскіе секретари — по-военному въ штабсъ-капитаны, черезъ три года въ капитаны, еще черезъ три года въ маіоры…
— Но вы пустите его вѣдь не по военной части, а по гражданской?
— Да, по дипломатической: она самая почетная и не уступаетъ военной. На двухъ иностранныхъ языкахъ онъ болтаетъ уже довольно бойко. Чтобы попасть въ иностранную коллегію, ему остается еще только познакомиться съ дипломатическимъ французскимъ языкомъ, а для этого у меня есть уже на примѣтѣ спеціалистъ, Линдквистъ, пишущій въ „Journal de St.-Pétersbourg“…
— Помилуйте, папенька! — взмолился Мишель, у котораго отъ словъ отца вытянулось лицо и на глазахъ навернулись слезы. — А что же будетъ съ моей музыкой?
— Она отъ тебя не убѣжитъ. Но на время тебѣ лучше ее вовсе оставить. Ну, посмотри на себя, посмотри: ты уже самъ не свой!
— Потому что вы требуете отъ меня невозможнаго! Какъ рыба безъ воды, я безъ музыки дня не проживу: это — моя стихія.
— Но нервы твои…
— Безъ нервовъ, простите, не можетъ быть великаго артиста, — вступился опять Гемпель.
— И композитора, — поддержала Евгенія Андреевна.
— И ты, матушка, туда же! — воскликнулъ Иванъ Николаевичъ, при всемъ своемъ благодушіи готовый уже разсердиться. — Россини изъ него все-таки никогда не выйдетъ.
— Россини не выйдетъ, но выйдетъ Глинка!
— Вы, маменька, ангелъ!
И, схвативъ руку матери, Мишель припалъ къ ней губами.
Гемпель съ своей стороны принялся убѣждать Ивана Николаевича не препятствовать хотя бы нѣкоторое еще время музыкальному развитію сына.
— Ужъ если знаменитый Гуммель его похвалилъ, такъ чего вамъ болѣе? — говорилъ онъ. — Вы сами себѣ потомъ не простите, что загубили крупный талантъ…
— Который черезъ самого себя перескочитъ?
— Для геніевъ все возможно. А почемъ знать, не кроется ли въ вашемъ сынѣ геній?
— Хорошо, хорошо, — нехотя сдался, наконецъ, Иванъ Николаевичъ. — Дѣлайте, какъ знаете. Я умываю руки.
Въ тотъ же день Мишель устроился въ двухъ комнатахъ второго этажа. Въ одной изъ нихъ, выходившей окнами въ садъ, онъ спалъ, мечталъ и по цѣлымъ часамъ упражнялся на роялѣ. Другую комнату, дверь въ дверь противъ первой, онъ превратилъ въ нѣкотораго рода птичникъ: какъ въ Шмаковѣ у дяди Аѳанасія Андреевича, у него летали тамъ также на свободѣ разныя пѣвчія птицы, которыхъ онъ самъ кормилъ и сдѣлалъ, такимъ образомъ, совсѣмъ ручными. Чтобы имъ жилось привольнѣй, онъ, съ разрѣшенія отца, обставилъ еще комнату безвредными растеніями изъ оранжереи.
Увертюра россиніевской „Ченерентолы“ была, дѣйствительно, переложена имъ сообща съ Гемпелемъ на четыре руки. Переложеніе оказалось настолько удачнымъ, что ихъ заставляли затѣмъ исполнять его очень часто. Нерѣдко Мишель ѣздилъ и въ Шмаково, чтобы наслаждаться тамошнимъ оркестромъ, а также и для личнаго наблюденія за музыкальными успѣхами нѣсколькихъ Новоспасскихъ парнишекъ, которыхъ Иванъ Николаевичъ отдалъ туда на выучку.
Не успѣлъ Мишель оглянуться, какъ подошла осень, и отецъ погналъ его обратно въ Петербургъ.
— Пора и честь знать, — сказалъ онъ на прощанье: — смотри, чтобы въ слѣдующій пріѣздъ ты не былъ уже вѣчнымъ недорослемъ, Митрофаномъ Простаковымъ, а штатнымъ чиномъ иностранной коллегіи.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Скоморохъ. (1823–1830.)
Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. Знатокъ французскаго дипломатическаго языка Линдквистъ хотя и прилагалъ всѣ старанія, чтобы посвятить нашего будущаго дипломата въ тайны своей науки, но для музыкальнаго слуха молодого Глинки эти деревянные, немузыкальные обороты рѣчи были дикой какофоніей, и онъ спасался отъ нея къ Карлу Мейеру, услаждавшему его симфоніями Гайдна, Моцарта и Бетговена. Немало отвлекала его отъ дѣла и разсѣянная столичная жизнь, которой онъ предавался безъ удержу во вредъ даже своему слабому организму. Какъ отъ такого образа жизни, такъ и отъ сырого петербургскаго климата, располагающаго вообще къ простудѣ, здоровье его къ веснѣ 1823 года настолько опять разстроилось, что, вмѣсто поступленія на службу, онъ долженъ былъ отправиться на Кавказъ — лѣчиться минеральными водами. Но воды не принесли ему никакой пользы, и въ деревню къ родителямъ онъ пріѣхалъ совсѣмъ больнымъ. Страдая частою головною болью, онъ почти лишился сна, залихорадилъ, и раздраженные теплыми ваннами нервы его разошлись до послѣдней степени. Самъ Иванъ Николаевичъ счелъ теперь за лучшее оставить сына на всю зиму у себя „на подножномъ корму“. И потекла жизнь Мишеля заведеннымъ въ Новоспасскомъ патріархальнымъ порядкомъ.
День начинался рано. Послѣ утренняго чая (или молока) каждый принимался за свои обычныя занятія, чтобы къ часу дня сойтись съ другими къ обѣденному столу. Гости бывали рѣдко, и только въ семейные праздники домъ наполнялся массою чужихъ людей. Главными изъ такихъ праздниковъ были: 24-е декабря — день ангела хозяйки дома и 7-е января — день ангела хозяина. Поэтому сосѣди и родственники, числомъ до 80-ти — 100 человѣкъ, наѣзжали въ Новоспасское уже наканунѣ рождественскаго сочельника и оставались вплоть до 8-го января. Карточную игру Иванъ Николаевичъ допускалъ у себя въ домѣ только для самыхъ завзятыхъ картежниковъ. Зато шмаковскій оркестръ перебирался къ нему въ Новоспасское на все праздничное время и потѣшалъ гостей съ утра до ночи.
Послѣ двухнедѣльнаго безпрерывнаго веселья: танцевъ, игръ и пѣсенъ, наступало, наконецъ, 8-е января. Возки и сани уже запряжены и запружаютъ дворъ; застоявшіяся за двѣ недѣли лошади нетерпѣливо ржутъ и скребутъ копытами. Гости закутываются въ шубы и прощаются съ радушными хозяевами. Казалось бы, чего еще? Пора и честь знать. Анъ нѣтъ.
— А жаль вѣдь уѣзжать? — замѣчаетъ вдругъ кто-нибудь изъ пріѣзжей молодежи.
— Ужъ какъ жаль! — подхватываютъ другіе. — На прощанье бы хоть еще потанцовать!
— Такъ за чѣмъ же дѣло стало? — говоритъ радушный хозяинъ. — Эй, музыканты! кадриль.
И изъ зала гремитъ кадриль. Молодежь, смѣясь, сбрасываетъ шубы, возвращается въ залъ, и танцы возобновляются съ новымъ жаромъ. Поневолѣ и старшее поколѣніе вылупляется изъ своихъ зимнихъ покрововъ и велитъ отложить лошадей до вечера.
Мишель не любилъ ни танцевъ, ни какихъ бы то ни было игръ (кромѣ карточной, да и то лишь въ дурачки и въ свои козыри), а потому почти не принималъ участія въ общемъ веселіи. На этотъ разъ у него была на то еще и основательная отговорка — болѣзнь. Исполнивъ долгъ приличія — поздоровавшись съ гостями, онъ тихомолкомъ опять скрывался. Впрочемъ, повторяемъ, будничное теченіе жизни въ Новоспасскомъ нарушалось пріѣзжими лишь изрѣдка въ видѣ исключенія.
Деревенскій воздухъ и уединеніе, вдали отъ городской сутолоки, временно оказали на больного благотворное дѣйствіе. Большую часть дня онъ проводилъ у себя наверху, по нѣскольку часовъ упражняясь на роялѣ. Послѣ обѣда онъ, обыкновенно, собиралъ у себя родную „мелюзгу“ и придумывалъ для нея всевозможныя игры. Такъ соорудилъ онъ, между прочимъ, деревянную горку, съ которой дѣти скатывались въ мѣдныхъ тазахъ. То-то было смѣху и веселья! Но любимицей его была все-таки младшая сестренка, Людмилочка или, какъ онъ ее чаще еще называлъ, Милушка. Научивъ ее декламировать балладу Жуковскаго „Людмила“ и пѣть извѣстную пѣсеньку (на слова Державина): „Пчелка златая, что ты жужжишь?“, онъ съ одинаковымъ все удовольствіемъ слушалъ ея тоненькій, но звонкій и чистый голосокъ, ея невинную дѣтскую болтовню. Показалъ онъ ей было и ноты; но маленькой вертушкѣ было не до того.
— Да ты, Милушка, не глазѣй по сторонамъ! Ты такъ не поймешь…
— Я все поняла, все, все… Ахъ, Мишель, посмотри-ка, посмотри!
И она уже у окошка, выходившаго на засыпанный снѣгомъ цвѣточный садъ, за которымъ виднѣлась протекавшая внизу рѣка Десна, также покрытая теперь снѣжно-ледяной пеленой.
— Что тамъ опять за невидаль? — спрашивалъ Мишель, которому не было охоты приподняться изъ-за рояля.
— А папенька на новой тройкѣ.
Дѣло въ томъ, что Иванъ Николаевичъ къ этому времени обзавелся уже собственнымъ конскимъ заводомъ, и зимою, когда цвѣточный садъ не требовалъ его заботъ, выѣзжалъ самъ молодыхъ лошадей по расчищенному льду рѣки.
— Вотъ если бъ и намъ тоже прокатиться этакъ на тройкѣ! — продолжала болтать дѣвочка. — Попроси; Мишель, папеньку, чтобы онъ взялъ насъ разъ съ собой. Ну, пожалуйста!…
— О тебѣ, изволь, попрошу. А теперь, я вижу, тебѣ не до нотъ. Пойдемъ-ка къ моимъ пѣвунамъ.
— Пойдемъ, пойдемъ!
И, схвативъ его за руку, сестренка тащила его въ „птичникъ“, усаживалась съ нимъ рядомъ на поставленную тамъ кушетку, осыпала его опять нескончаемыми вопросами о порхавшихъ кругомъ пташкахъ; а онъ не уставалъ разъяснять ей различіе въ ихъ напѣвахъ, потому что это была все-таки въ нѣкоторомъ родѣ музыка.
Такъ музыка становилась для Мишеля постепенно почти такою же жизненною потребностью, какъ пища и воздухъ. Дядя его Аѳанасій Андреевичъ, самъ очень музыкальный, понималъ артистическую натуру племянника едва ли не лучше всѣхъ другихъ. Чтобы дать ему возможность изучить на практикѣ и оркестровую музыку, онъ посылалъ ему изъ Шмакова два раза въ мѣсяцъ свой оркестръ, который оставался затѣмъ въ Новоспасскомъ нерѣдко цѣлую недѣлю. Проходя съ оркестромъ разныя серіозныя и трудныя пьесы, Мишель разучивалъ ихъ сперва съ отдѣльными музыкантами, и только увѣрившись, что каждый изъ нихъ знаетъ безошибочно свою партію, дѣлалъ имъ общую пробу. Дирижируя самъ оркестромъ, онъ подыгрывалъ ему также на скрипкѣ. По временамъ онъ сходилъ съ своего возвышенія, чтобы изъ противоположнаго конца зала вслушаться въ производимый общимъ исполненіемъ эффектъ. Такимъ образомъ, онъ все глубже вникалъ въ тайны оркестровой инструментовки такихъ музыкальныхъ геніевъ, какъ Глюкъ, Гендель, Бахъ.
На тазахъ онъ теперь уже не трезвонилъ; зато на роялѣ подражалъ живымъ голосамъ. Навѣщая ежедневно своихъ пернатыхъ пѣвуновъ, онъ, полулежа на кушеткѣ, своимъ изощреннымъ слухомъ ловилъ разнообразныя сочетанія звуковъ птичьяго гама и пересвиста, а потомъ вдругъ вскакивалъ и бѣжалъ къ себѣ, чтобы фантазировать на роялѣ на „птичьи“ темы.
Каждое воскресенье всѣ обитатели Новоспасскаго слушали обѣдню въ своей деревенской церкви. Но церковь не топилась, а потому Мишель, крайне подверженный простудѣ, рѣшался ходить туда съ другими только въ болѣе теплое время года. Съ малолѣтства очень религіозный, онъ съ благоговѣніемъ слѣдилъ за всей церковной службой, которая старикомъ-священникомъ и дьякономъ исполнялась просто, но хорошо. Того же, къ сожалѣнію, нельзя было сказать про пѣвчихъ: гнусящій дьячокъ, заикающійся пономарь и прикомандированный къ нимъ голосистый дворовый выводили такія неслыханныя рулады, что нашъ молодой маэстро диву давался. Рулады эти назойливо звучали у него въ ушахъ еще долго и дома. Чтобы отдѣлаться отъ нихъ, онъ старался перефразировать ихъ по-своему на роялѣ. Но удивительное тріо было такъ оригинально, что вполнѣ передать его оказывалось невозможнымъ.
Музыка, музыка и музыка, во всѣхъ ея видахъ и проявленіяхъ, наполняла теперь его жизнь, становилась для него главною цѣлью жизни.
А что же надежды Ивана Николаевича на дипломатическую карьеру сына? — Уступая желанію отца, Мишель, по возвращеніи весною 1824 г. въ Петербургъ, дѣйствительно опредѣлился, наконецъ, на государственную службу, — впрочемъ, не въ иностранную коллегію, а въ канцелярію совѣта путей сообщенія помощникомъ секретаря. Но онъ не чувствовалъ въ себѣ ни малѣйшаго призванія къ „бумагомаранью“ (какъ онъ самъ выражался) и къ выслушиванью выговоровъ начальства „изъ-за запятой“. Нѣкоторымъ утѣшеніемъ Ивана Николаевича было хоть то, что, благодаря службѣ, сыну его открылся доступъ въ гостепріимный домъ старшаго члена совѣта путей сообщенія, графа Сиверса, большого любителя и знатока классической музыки, а затѣмъ и вообще въ кругъ столичной аристократіи, гдѣ его принимали уже какъ многообѣщающаго виртуоза. Для танцовальныхъ вечеровъ княгини Хованской онъ сочинилъ оригинальную кадриль и разучилъ ее съ музыкантами у себя на квартирѣ; такимъ образомъ, онъ выступилъ впервые передъ петербургскимъ большимъ свѣтомъ въ качествѣ композитора. Участвовалъ онъ съ другими любителями музыки изъ большого свѣта и въ забавныхъ сценахъ изъ оперъ-буффъ и въ серенадахъ, при чемъ имѣлъ особенный успѣхъ въ пьесахъ собственнаго сочиненія, въ исполненіе которыхъ влагалъ всю душу. А собственныя пьесы эти у него нарождались одна за другой, какъ грибы: то романсы, то кантаты, то сонаты, даже на четыре голоса съ аккомпаниментомъ двухъ скрипокъ, альта и віолончеля. Все это не могло не льстить родительскому самолюбію Ивана Николаевича. Но всего пріятнѣе ему было узнать, что одинъ канонъ былъ написанъ Мишелемъ сообща съ извѣстнымъ меценатомъ, графомъ Віельгорскимъ, на слова князя С. Г. Голицына:
Поэтому же Иванъ Николаевичъ мирился и съ тѣмъ, что Мишель, не довольствуясь уже музыкальными познаніями, пріобрѣтенными отъ Карла Мейера, сталъ брать уроки въ теоріи музыки у „воплощеннаго контрапункта“ Миллера, потомъ уроки пѣнія у Беллони, наконецъ, уроки итальянскаго языка у Марокетти и итальянской композиціи у Цамбони. Вѣдь и самъ Карлъ Мейеръ говорилъ Мишелю:
— Вы слишкомъ талантливы, чтобы я могъ еще учить васъ.
Но онъ охотно просматривалъ композиціи своего бывшаго ученика и давалъ ему разныя цѣнныя указанія.
Хотя Иванъ Николаевичъ и не разсчитывалъ уже на быстрое движеніе Мишеля по государственной службѣ, тѣмъ не менѣе, былъ все-таки сильно огорченъ, когда тотъ уже черезъ четыре года (въ 1828 г.), не предупредивъ даже родителей, вышелъ въ отставку. Но служебныя непріятности отражались слишкомъ вредно на его слабыхъ нервахъ, такъ что онъ одно время не былъ въ состояніи заниматься даже своей милой музыкой.
Къ осени же 1829 года ему стало такъ плохо, что доктора совѣтовали ему провести опять цѣлую зиму въ деревнѣ. Мать нарочно пріѣхала за нимъ въ Петербургъ и увезла его домой, въ Новоспасское. Разжалобленный его страдальческимъ видомъ, отецъ не сдѣлалъ ему даже упрека за самовольное оставленіе службы, молча только его обнялъ и поторопился уложить его отдохнуть отъ дороги въ его верхнемъ жильѣ. Когда затѣмъ, укрѣпившись сномъ, Мишель спустился опять внизъ, въ столовую, гдѣ собрались уже всѣ члены многочисленной семьи, Иванъ Николаевичъ самъ навелъ разговоръ на его музыкальные успѣхи. А для отзывчивой натуры Мишеля достаточно было ласковаго слова и видимаго сочувствія дорогихъ ему людей, чтобы воспрянуть духомъ. Съ одушевленіемъ сталъ онъ разсказывать о разныхъ великосвѣтскихъ музыкальныхъ утрахъ и вечерахъ, въ которыхъ онъ выступалъ иногда и въ роли маэстро.
— Но откуда ть, Мишель, берешь мотивы для твоихъ композицій? — спросила одна изъ сестеръ.
— Спроси жаворонка, откуда онъ беретъ свои трели, — отвѣчалъ съ улыбкою братъ. — Прочту я какіе-нибудь стихи Жуковскаго, и сами собой они у меня уже слагаются въ романсъ. Иныя же темы летятъ мнѣ прямо, какъ жареные голуби, въ ротъ.
— Какъ такъ?
— А такъ вотъ: ѣздили мы, напримѣръ, лѣтомъ съ барономъ Дельвигомъ7 и еще съ кое-кѣмъ въ Финляндію, на Иматру. Чухонецъ-ямщикъ затянулъ преоригинальную пѣсню. Я заставилъ его нѣсколько разъ ее повторить, чтобы лучше затвердить мотивъ, а вернувшись въ Петербургъ, записалъ ее на память: когда-нибудь да пригодится8. Одну грузинскую пѣсню слышалъ я отъ Грибоѣдова и попросилъ Пушкина сочинить мнѣ на нее слова9.
— Гдѣ это ты успѣлъ такъ хорошо познакомиться съ лучшими нашими поэтами?
— А на субботахъ Жуковскаго. Съ самимъ же Жуковскимъ меня свелъ въ Павловскѣ Сергѣй Голицынъ. О! какой-нибудь романсикъ уже сближаетъ людей. Вотъ сила музыки!
— Но вѣдь ты сочиняешь и цѣлые хоры и для цѣлаго оркестра: неужели всѣ голоса и инструменты у тебя тоже въ головѣ?
— Приходится, понятно, дѣлать себѣ провѣрку. Но, спасибо полковому адъютанту конногвардейскаго полка, графу Девьеру, я пользовался для этого на дешевыхъ основаніяхъ духовыми инструментами конногвардейцевъ; для хоровъ же доставлялъ мнѣ пѣвчихъ изъ придворной пѣвческой капеллы свой братъ, композиторъ Варламовъ, который самъ пѣлъ при этомъ басовыя партіи.
— О твоихъ хоровыхъ серенадахъ на Черной рѣчкѣ печатали даже въ газетахъ, — замѣтила Евгенія Андреевна. — Папенька твой прочитывалъ намъ одну такую статейку изъ „Сѣверной Пчелы“.
— Да, Булгаринъ не упускаетъ случая подольститься въ своей газетѣ къ высшему обществу, но самого-то его въ это общество, увы! не принимаютъ. Серенада была, впрочемъ, только одна; но репетицій передъ тѣмъ было нѣсколько, и всякій разъ подъ нашими окнами собиралась цѣлая толпа чернорѣченскихъ дачниковъ.
— Было вѣдь то на дачѣ у твоего пріятеля, князя Голицына?
— Сергѣя Григорьевича или Ѳирса, какъ мы его называемъ? Нѣтъ, у старика-князя Василья Петровича. Но участвовалъ тутъ и Ѳирсъ и Толстые. Серенаду же мы устроили на двухъ катерахъ съ разноцвѣтными фонарями. Вечеръ былъ рѣдкій — теплый, тихій; фонари едва колыхались. Я сидѣлъ въ одномъ катерѣ съ трубачами кавалергардскаго полка и управлялъ хоромъ, а самъ въ то же время аккомпанировалъ на маленькомъ фортепьяно.
— Какъ! ты взялъ фортепьяно къ себѣ на катеръ?
— Да, мнѣ приладили его на кормѣ. Особенно понравилась всѣмъ венеціанская баркарола: звучный теноръ Ѳеофила Толстого такъ и разносился по водѣ, а въ заключеніе грянули трубы величественно и стройно — одинъ восторгъ! Весьма недурно прошелъ также хоръ „Бѣлой дамы“ Буальдье:
Строфу эту Мишель для большей убѣдительности пропѣлъ; но голосъ у него, отъ природы нѣсколько сиплый, еще не выработался опредѣленно въ баритонъ или теноръ, и ожидаемаго эффекта не вышло.
— Одинъ восторгъ! — съ безобидной ироніей подтрунилъ Иванъ Николаевичъ. — Но вѣдь ты участвовалъ также въ оперныхъ спектакляхъ у князя Кочубея, предсѣдателя государственнаго совѣта?
— Гдѣ я не участвовалъ! У Кочубея же мы давали сцены изъ моцартова „Донъ-Жуана“…
— Но ты выступилъ, надѣюсь, не въ заглавной роли?
— Нѣтъ, моя очаровательная фигура гораздо болѣе подходила къ партіи донны Анны. Посмотрѣли бы вы на меня въ рыжемъ парикѣ съ развѣвающеюся вуалью…
— И съ длиннымъ шлейфомъ, — воображаю! — подхватилъ съ усмѣшкой Иванъ Николаевичъ.
Всѣ залились дружнымъ смѣхомъ, начиная отъ Евгеніи Андреевны и кончая ея меньшой дочуркой, четырехлѣтней Олечкой.
— Какой Мишель веселый! — полушопотомъ замѣтила малютка Людмилѣ, сидѣвшей между нею и младшимъ братцемъ, шестилѣтнимъ Андрюшей. — А я думала, что онъ совсѣмъ больной.
— Какъ только ему чуточку легче, такъ онъ сразу развеселится, — объяснила ей Людмила, которая, будучи теперь уже подросткомъ по тринадцатому году, была для маленькой сестренки первымъ авторитетомъ. — Но не мѣшай теперь, дай послушать.
А послушать было что̀: Мишель началъ разсказывать о томъ, какъ исполнялъ онъ еще роль Фигаро въ „Севильскомъ цирюльникѣ“, причемъ иллюстрировалъ свой разсказъ пѣніемъ и мимикой такъ забавно, что всѣ опять покатывались со смѣху.
На вопросъ отца, гдѣ происходилъ этотъ спектакль, онъ отвѣчалъ, что было то не въ самомъ Петербургѣ, а въ двухъ-стахъ верстахъ оттуда — въ селѣ Марьинѣ, Новгородской губерніи, у старой княгини Голицыной, Princesse moustache10.
— Она, вѣрно, усатая, если ее такъ прозвали? — замѣтила Евгенія Андреевна.
— О! настоящій гренадеръ.
— И преважная?
— Едва ли не самая важная изъ придворныхъ дамъ: въ именины, 26 августа, къ ней съѣзжается на поклонъ весь дворъ, но навстрѣчу она идетъ одному только государю; всѣхъ же другихъ принимаетъ, сидя въ своемъ креслѣ, какъ на тронѣ. Смотря по рангу и знатности, кому она только головой кивнетъ, кому скажетъ пару ласковыхъ словъ.
— А въ деревнѣ неужели она себя не держала нѣсколько проще?
— Нѣтъ. До выхода ея къ завтраку изъ внутреннихъ апартаментовъ, ровно въ половинѣ двѣнадцатаго, всѣ гости должны были быть уже въ сборѣ. Два ливрейныхъ гайдука стоятъ истуканами у дверей. Вдругъ двери настежь, и она выплываетъ къ намъ во всемъ своемъ величіи, одной рукой опираясь на костыль, другой — на свою любимую родственницу. Общій низкій поклонъ. „Bonjour, mes amis!“ И, постукивая костылемъ, она шествуетъ въ столовую, а мы церемоніальнымъ маршемъ вслѣдъ.
— Ну, а за столомъ тоже садились по знатности и чинамъ?
— Какъ же иначе? Только мы, „безчинная“ молодежь, располагались, какъ попало, на нижнемъ концѣ стола.
— Гдѣ чувствовали себя, однако, гораздо свободнѣе?
— Свободнѣе — да. Но чуть, бывало, слишкомъ забудемся, зашумимъ, — княгиня взглянетъ на насъ, точно молніей обожжетъ, костылемъ своимъ стукъ-стукъ-стукъ, — и все кругомъ притихнетъ, ни-гугу. Муха пролетитъ — и то разслышишь.
— Стукъ-стукъ-стукъ, какъ Баба-Яга! — подала тутъ голосъ крошка Олечка.
Мѣткое замѣчаніе еще увеличило общую веселость. Отецъ съ притворной строгостью погрозилъ малюткѣ пальцемъ.
— Вотъ погоди, пріѣдетъ она въ своей ступѣ, пристукнетъ тебя костылемъ…
— Не костылемъ, а пестомъ!
— Скажите, пожалуйста! Еще отца поправляетъ.
— Впрочемъ, надо отдать честь княгинѣ, — продолжалъ Мишель: — несмотря на ея усы и костыль, обиды отъ нея никому изъ насъ не было. Напротивъ того, она позаботилась для нашего спектакля обо всемъ; выписала нарочно изъ Петербурга даже придворныхъ пѣвчихъ. Никогда не забуду генеральной репетиціи съ ними!
— А что̀ такое?
— Да для другихъ ничего особеннаго, но для меня это было откровеніе. Какъ разъ на послѣднемъ тактѣ моей баркаролы, гдѣ теноръ долженъ брать верхнее ла-бемоль, одинъ изъ хора, подтягивая, хватилъ контръ-ла-бемоль. Вышло нѣчто такое поразительное, что я не выдержалъ и перескочилъ черезъ рампу изъ оркестра на сцену.
„— Кто, братцы, взялъ октавою ниже? Не ты ли, Телѣгинъ?
„А Телѣгинъ мой стоитъ ни живъ, ни мертвъ, трясется предо мной, какъ листъ передъ травой.
„— Виноватъ, Михайло Иванычъ… — говоритъ.
„— Не виноватъ, братецъ, а молодчина! Чудно! восхитительно! Попробуй-ка взять еще полутономъ ниже.
„— Слушаю-съ.
„Но тутъ онъ взялъ уже такую ноту, что хоть вонъ бѣги. Однако его контръ-ла-бемоль я такъ и вставилъ въ баркаролу, и апплодировали же мнѣ потомъ за эту штуку“.
— Ты вообще, я вижу, большой штукарь, — сказалъ Иванъ Николаевичъ. — Доходили до насъ слухи и объ этой милой исторіи съ привидѣніями…
— Съ привидѣніями? — переспросилъ маленькій Андрюша. — Это мертвецы, что выходятъ ночью изъ гробовъ?
— И ты, Мишель, самъ ихъ видѣлъ? — подхватила Олечка.
— Самъ своими глазами, — таинственнымъ шопотомъ отвѣчалъ Мишель: — длинные-предлинные, въ бѣлыхъ саванахъ…
— Полно, Мишель, стращать дѣтей! — вмѣшалась мать: — они потомъ всю ночь не заснутъ.
— Заснемъ, мамочка, заснемъ! — закричали тѣ въ одинъ голосъ.
— Дайте ужъ ему разсказать, маменька, — попросила одна изъ старшихъ сестеръ, которой, должно-быть, не менѣе дѣтей хотѣлось узнать исторію съ привидѣніями. — Вѣдь няня Авдотья все равно разсказываетъ имъ на ночь про разныя страсти.
— А одною больше или меньше — не въ счетъ? — добавилъ съ снисходительной улыбкой отецъ. — Ну, что же, Мишель, позабавь ужъ ихъ. По крайней мѣрѣ, увидятъ, что не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ.
— Было то лѣтомъ на Черной же рѣчкѣ, — началъ Мишель. — Любимое мѣсто гулянья тамошнихъ дачниковъ — Строгоновъ садъ; гуляютъ тамъ обыкновенно днемъ, но есть любители и ночныхъ прогулокъ, особенно около одной старинной гробницы подъ плакучими березами: въ лунныя ночи очень ужъ поэтично. Кто тамъ похороненъ — неизвѣстно: надписи не сохранилось; сама гробница, въ видѣ древняго саркофага, наполовину разрушилась.
— Вѣроятно, она еще со шведскихъ временъ, — замѣтилъ Иванъ Николаевичъ.
— Вѣроятно, что такъ. Вотъ одному проказнику изъ нашей компаніи и вздумалось попугать полуночниковъ: завернулся онъ въ простыню и спрятался въ саркофагъ. Идетъ тутъ мимо мечтательная парочка, зазѣвалась на луну. Какъ вдругъ изъ гробницы встаетъ бѣлая тѣнь и раздается гробовой голосъ:
„— О, горе вамъ, горе, несчастные!
„Тѣ, понятно: „Ахъ! ахъ!“ и вонъ со всѣхъ ногъ безъ оглядки; а пріятели проказника, которые притаились тутъ же за кустами, кричатъ имъ еще въ догонку:
„— Держи! держи!
„Кричатъ и визжатъ и грохочутъ. На другое утро вся Черная рѣчка въ страшномъ переполохѣ; ни о чемъ больше и рѣчи, какъ о ночномъ привидѣніи и объ адскомъ хохотѣ мертвецовъ“.
— Милые мальчики! — сказалъ Иванъ Николаевичъ, одинъ изъ всѣхъ присутствовавшихъ сохранившій серіозную мину. — Надѣюсь, по крайней мѣрѣ, что въ этой глупой исторіи ты, Мишель, не былъ зачинщикомъ?
— Нѣтъ; къ сожалѣнію, въ тотъ разъ меня даже не было вовсе на Черной рѣчкѣ. Но въ слѣдующіе разы я, конечно, не отказался принять посильное участіе.
— „Конечно“! Есть чѣмъ хвалиться. И что же, вы продѣлывали опять то же самое?
— Нѣтъ, новую варіацію на ту же тему: вмѣсто одного привидѣнія, по ночамъ стало появляться ихъ уже нѣсколько въ разныхъ концахъ Черной рѣчки, а потомъ они скакали по улицамъ и переулкамъ на адскихъ коняхъ съ гикомъ и свистомъ, съ пистолетными выстрѣлами…
— И чего полиція смотрѣла!
— Полиція, папенька, и то съ ногъ сбилась. Наконецъ, она догадалась сдѣлать на насъ облаву. Выходимъ мы вечеромъ самымъ мирнымъ образомъ на главную улицу прогуляться, вмѣстѣ съ дамами. Луна еще не всходила, и тьма была почти непроглядная: на Черной рѣчкѣ уличныхъ фонарей вѣдь не полагается. Какъ вдругъ передніе изъ насъ спотыкаются, падаютъ, на нихъ задніе, всѣ въ одну кучу. Что такое? Оказалось, что полиція протянула поперекъ улицы веревку, а мы въ темнотѣ ее, разумѣется, не разглядѣли. Не успѣли мы сообразить, въ чемъ дѣло, какъ блеснулъ фонарь и нагрянулъ квартальный надзиратель съ будочниками:
„— Попались молодцы! Хватай ихъ, тащи на съѣзжую!
„По счастью, въ числѣ нашихъ дамъ была Екатерина Николаевна Хитрово, урожденная княжна Вяземская, племянница графа Кочубея.
„— Стой! — кричитъ одинъ изъ кавалеровъ. — Да знаете ли вы, г-нъ квартальный, съ какой особой вы имѣете дѣло?
„— Съ какой-съ?
„Тотъ кивнулъ ему на „особу“ и шепнулъ ему на ухо ея имя. Кварташка мой такъ и обмеръ.
„— Дурачьё! не смѣть трогать! — гаркнулъ онъ будочникамъ, а потомъ сдѣлалъ „особѣ“ подъ козырекъ. — Не поставьте въ вину, ваше сіятельство: мы — люди маленькіе, подначальные…
„Но по тому же самому онъ счелъ долгомъ на другой же день отрапортовать обо всемъ по начальству — генералъ-губернатору Кутузову. Кутузовъ, однако, стушевалъ дѣло, подъ условіемъ, чтобы привидѣнія впредь не появлялись“.
— И безобразники все-таки вышли сухи изъ воды? — сказалъ Иванъ Николаевичъ. — А жаль! Полезно было бы вамъ за ваши скоморошества посидѣть на съѣзжей.
— Да вѣдь люди они еще молодые, — вступилась Евгенія Андреевна. — Какъ это говорится у Пушкина? „Блаженъ“…
— „…кто съ молоду былъ молодъ!“ — подхватилъ сынъ. — Пушкинъ въ свое время тоже, я знаю, выкидывалъ разныя колѣнца.
— То Пушкинъ! — сказалъ Иванъ Николаевичъ, — Пушкины родятся вѣками и для нихъ законъ не писанъ.
— Но оба мы съ нимъ поэты, и виртуозы: онъ — виртуозъ слова, я виртуозъ звуковъ.
— Улита ѣдетъ, когда-то будетъ! А посмотри-ка на нашихъ другихъ, настоящихъ тоже поэтовъ: стихи у нихъ стихами, а дѣло дѣломъ. Жуковскій — учитель Пушкина въ поэзіи — служитъ царю и отечеству, какъ воспитатель наслѣдника престола; Грибоѣдовъ умеръ геройскою смертью, какъ посланникъ нашего двора въ Персіи…
— Но въ то же время онъ былъ и очень хорошимъ музыкантомъ, — сказалъ Мишель. — Если что свело меня съ нимъ, то опять-таки музыка.
— „Музыка“, „музыка“ — всякое третье твое слово! Да что̀ проку-то въ твоей музыкѣ, когда ты мастеръ только на скоморошества? Не даромъ, видно, при твоемъ рожденіи запѣлъ соловей: вотъ и вышелъ скоморохъ!
Сказалъ это Иванъ Николаевичъ, конечно, сгоряча; очень ужъ обидно ему было, что изъ его старшаго сына, на котораго онъ когда-то возлагалъ такія надежды, ничего дѣльнаго еще не вышло, да врядъ ли что, кромѣ „скомороха“, и выйдетъ. Всѣ кругомъ притихли, какъ передъ грозой. Самъ Мишель весь измѣнился въ лицѣ; губы его судорожно задергало.
— И музыкой, папенька, можно служить царю и отечеству, — пробормоталъ онъ обрывающимся голосомъ и приподнялся со стула. — Вы не знаете, что такое для меня музыка…
Не договоривъ, онъ всхлипнулъ и, закрывъ глаза рукой, выбѣжалъ вонъ.
— Ну, такъ! Я все вѣдь забываю, что онъ у насъ „Мимоза“, — со вздохомъ промолвилъ Иванъ Николаевичъ. — Что же, матушка, ступай ужъ, успокой нашего Недотрогу, а то онъ, чего добраго, совсѣмъ еще разнервничается.
И Евгенія Андреевна поспѣшила вслѣдъ за сыномъ въ его верхнее жилье. Застала она его здѣсь уже за роялемъ: обуревавшія его горькія чувства должны были излиться въ звукахъ.
„Это скорѣе всего его успокоитъ“, рѣшила Евгенія Андреевна и, незамѣченная, тихонько опять удалилась.
Но въ этотъ день никому изъ своихъ онъ уже не показывался на глаза. Когда прислуга пришла позвать его къ вечернему чаю, онъ велѣлъ принести ему чай наверхъ. Съ слѣдующаго утра жизнь его вошла опять въ обычную колею. Свой теплый халатъ на заячьемъ мѣху онъ замѣнялъ сюртукомъ или венгеркой со шнурами только тогда, когда приходилось спуститься внизъ къ общей трапезѣ. Для бѣглости пальцевъ онъ по цѣлымъ часамъ игралъ этюды Крамера, Мошелеса и Баха. Сочинилъ онъ и нѣсколько новыхъ пьесъ, но въ нихъ отражалось его угнетенное настроеніе, особенно въ одномъ квартетѣ (F-dur) для струнныхъ инструментовъ. Возобновилъ онъ также уроки музыки, уже совершенно правильные, съ своей любимицей Людмилой; обучалъ ее и исторіи, бесѣдуя съ нею попутно о всевозможныхъ предметахъ.
Родители, съ своей стороны, обращались съ нимъ теперь, какъ съ полноправнымъ членомъ семьи, и нерѣдко спрашивали его мнѣніе насчетъ разныхъ хозяйственныхъ распоряженій. Но отвѣтъ его былъ всегда одинъ и тотъ же:
— Дѣлайте, пожалуйста, какъ найдете лучшимъ: для меня все будетъ хорошо.
Состояніе здоровья его, между тѣмъ, все болѣе ухудшалось. Нервныя боли, при возвышенной температурѣ тѣла, а иногда и бредъ, мѣшали ему даже заниматься музыкой. Играя на роялѣ, онъ часто стоналъ отъ нервныхъ приступовъ, а когда муки становились нестерпимыми, онъ глоталъ пилюли, прописанныя ему еще въ Петербургѣ однимъ докторомъ-итальянцемъ. Временно пилюли эти, въ составъ которыхъ входилъ опіумъ, унимали его страданія, но еще сильнѣе подрывали его здоровье. Въ концѣ зимы озабоченный отецъ вызвалъ изъ Брянска (Орловской губерніи) полкового доктора Шпиндлера, который пользовался репутаціей хорошаго врача. Осмотрѣвъ больного, докторъ сдѣлалъ очень серіозную мину.
— У молодого человѣка цѣлая кадриль болѣзней, — объявилъ онъ. — Чтобы радикально отъ нихъ излѣчиться, ему слѣдовало бы провести года три въ теплыхъ краяхъ.
Мишель схватилъ его за обѣ руки.
— Какой вы милый, докторъ! Я столько читалъ объ Испаніи, моя давнишняя мечта — попасть въ эту чудную страну.
— Да кто говоритъ объ Испаніи? — не сдавался еще Иванъ Николаевичъ, которому крайне не хотѣлось отпускать больного сына куда-то за тридевять земель. — Есть у насъ, слава Богу, и въ Россіи мѣста съ теплымъ климатомъ: Крымъ…
— Да нѣтъ тамъ, къ сожалѣнію, европейскихъ удобствъ, — возразилъ докторъ.
— А въ Испаніи, по вашему, есть? Испанцы въ культурѣ много ли насъ опередили?
— Такъ пошлите его въ Италію, въ Неаполь.
— Душка-докторъ, позвольте прижать васъ къ сердцу! — воскликнулъ Мишель. — Италія — родина музыки; тамъ я живо поправлюсь…
— И вернешься къ намъ уже не скоморохомъ, а полишинелемъ! — съ горечью досказалъ отецъ.
— Папенька!
— Ну, ну, хорошо, не буду. Поѣзжай себѣ съ Богомъ.
Такъ-то, сейчасъ послѣ Пасхи, 25-го апрѣля 1830 г., насталъ часъ разлуки Мишеля со своими на цѣлые годы. Одна только Евгенія Андреевна съ нимъ еще не разлучалась, потому что рѣшилась проводить его до Смоленска, и одна бодрилась, тогда какъ у самого Мишеля и у всѣхъ остающихся на глазахъ были слезы, даже у Ивана Николаевича.
— Ну, будетъ, всласть напрощались! — сказалъ онъ, когда Мишель еще разъ перецѣловалъ всѣхъ и готовъ былъ, казалось, разрыдаться. — Смотри же, не забывай насъ и возвращайся поскорѣе.
— Хотя бы скоморохомъ? — спросилъ Мишель, черезъ силу улыбаясь.
— Какой ты злопамятный! Не всякое лыко въ строку.
Когда же Евгенія Андреевна съ Мишелемъ усѣлись въ карету и лошади тронулись, отецъ крикнулъ вслѣдъ сыну:
— Береги себя! Маменька! обними его еще за меня.
Та исполнила это тотчасъ: обняла сына и за мужа и за себя, а потомъ утѣшила еще ласковымъ словомъ:
— Нѣтъ пророка въ своемъ отечествѣ. И тебя, голубчикъ, однажды поймутъ, оцѣнятъ.
Такое время, дѣйствительно, настало; но Иванъ Николаевичъ до него не дожилъ: ему вообще не довелось уже увидѣть сына.
ГЛАВА ПЯТАЯ. Національная Cтруя. (1832–1834.)
Третій годъ уже Глинка проводилъ за-границей. Полѣчившись сначала въ Эмсѣ и Ахенѣ, онъ, частью въ дилижансѣ, частью „на долгихъ“, проѣхалъ въ Швейцарію, а оттуда, черезъ Симплонъ, перевалилъ въ Италію. Побывалъ онъ послѣдовательно въ Миланѣ, Генуѣ, Римѣ, Неаполѣ, а раннею весною 1832 г. снова очутился въ Миланѣ. Здѣсь же засталъ его полгода спустя петербургскій пріятель его, Ѳеофилъ Матвѣевичъ Толстой11.
По ту сторону Альпъ глубокая осень съ ея умѣренно-теплымъ, мягкимъ воздухомъ для пріѣзжихъ сѣверянъ едва ли не самое пріятное время года. Даже Глинка, столь чувствительный къ вечерней сырости и прохладѣ, просиживалъ теперь безъ всякаго опасенія съ петербургскимъ пріятелемъ цѣлые вечера на открытомъ балконѣ третьяго этажа „Albergo del Pazzo“ противъ знаменитаго собора. Было полнолуніе, и бѣломраморная громада съ безчисленными башенками и статуями представлялась чѣмъ-то сказочно-волшебнымъ. Въ глубинѣ на соборной площади гуляли съ своими кавалерами разряженныя молодыя миланки, и къ сидѣвшимъ на балконѣ двумъ русскимъ доносились ихъ звонкіе голоса и шуршанье шелковыхъ платьевъ. Но оба, точно ничего не слыша, были погружены въ созерцаніе возвышавшагося передъ ними и уходившаго въ небеса геніальнаго произведенія архитектуры12.
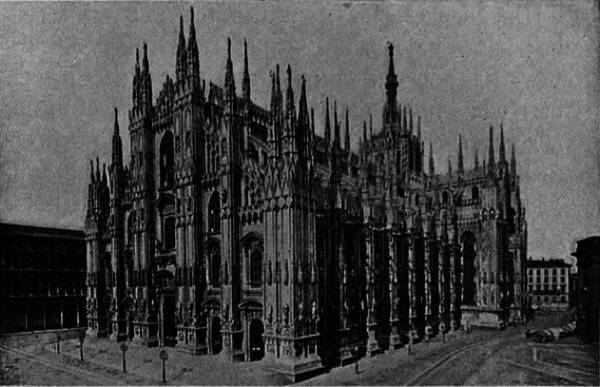
— Чѣмъ дольше вглядываешься въ эту красоту, тѣмъ болѣе проникаешься безотчетнымъ благоговѣйнымъ чувствомъ, — проговорилъ, наконецъ, Толстой: — это нѣчто сверхъестественное, особенно при этомъ таинственномъ освѣщеніи…
— Да, Италія! — согласился Глинка. — Сколько разъ, бывало, любовался я чудными красками и тѣнями южнаго солнца, южной луны, сколько разъ восклицалъ: „O dio! che tinte!“ А воздухъ-то какой? просто бархатный! Такъ бы и сочинилъ сейчасъ баркаролу…
— На какія слова?
— На что̀ слова? Развѣ мендельсоновскія „Lieder ohne Worte“ не говорятъ сердцу болѣе всякихъ словъ?
— Но какъ же ты изобразишь въ однихъ звукахъ, напримѣръ, луну?
— Все изображу: и луну, и склонившуюся съ балкона красавицу-итальянку съ черными, какъ смоль, волосами…
Толстой расхохотался.
— Любопытно бы послушать, какъ ты пропоешь безъ словъ черные, какъ смоль, волосы!
— Не говори пустяковъ! — серіозно замѣтилъ Глинка. — Черные волосы сами по себѣ; а вотъ душевное-то настроеніе, пробуждаемое такою картиной, — его можно цѣликомъ выразить музыкой.
— Гмъ… — промычалъ не совсѣмъ еще убѣжденный Толстой. — Иное дѣло передать какое-нибудь опредѣленное ощущеніе, хоть бы страха…
— Какого страха: пріятнаго или непріятнаго?
— Точно страхъ можетъ быть и пріятнымъ!
— Да вѣдь дѣтямъ же пріятно слушать страшныя сказки.
— То дѣтямъ!
— Есть и взрослые любители страха. Когда я изъ Швейцаріи переѣзжалъ Симплонъ, спутникомъ моимъ былъ молодой англичанинъ, ѣхавшій въ Корфу. Къ вершинѣ гора становилась все круче. Чтобы облегчить лошадей, мы съ нимъ вылѣзли изъ дилижанса и пошли пѣшкомъ. Онъ, какъ аккуратный человѣкъ, пошелъ не торопясь и отсталъ. Я давно уже былъ на вершинѣ, дотащился за мной и дилижансъ, а англичанина моего все нѣтъ, какъ нѣтъ.
„— Да не приключилось ли съ нимъ чего, храни Богъ? — говоритъ мнѣ кондукторъ. — Пойти поискать…
„— Пойдемъ, — говорю.
„Пошли мы, зовемъ его на всѣ голоса, — ни ползвука. Очевидно, погибъ.
„— Да вотъ же онъ! — кричитъ вдругъ кондукторъ.
„— Гдѣ?
„— А вонъ, на томъ утесѣ…
„И то вѣдь, на верхушкѣ отвѣснаго утеса сидитъ онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, спустивъ ноги надъ самою пропастью.
„— Что̀ вы тамъ дѣлаете, мосье? — окликнулъ его кондукторъ. — Вы рискуете свалиться въ пропасть.
„— Ага!
„— Да развѣ вамъ не страшно?
„— Страшно, но въ этомъ-то и le charme (прелесть)“.
— Оригиналъ! — усмѣхнулся Толстой. — Допустимъ, что жуткое чувство страха можетъ быть и пріятно…
— И что какъ пріятный, такъ и непріятный страхъ можно передать въ музыкальныхъ звукахъ? — досказалъ Глинка. — А коли такъ, то почему бы въ баркаролѣ не воплотить и волшебную красоту южной ночи со всѣми ея аксессуарами: луной, черноволосой итальянкой на балконѣ…
Въ справедливости этихъ словъ Толстой убѣдился вскорѣ на дѣлѣ. Нѣсколько дней спустя, уѣхавъ въ Неаполь, онъ получилъ тамъ отъ Глинки изъ Милана письмо, въ которомъ, между прочимъ, говорилось: „А помнишь нашъ разговоръ на балконѣ? Я стою на своемъ и непремѣнно передамъ звуками — если не самую картину, то впечатлѣніе…“
Благодаря этимъ строкамъ, припомнивъ испытанное впечатлѣніе, Толстой сочинилъ тогда же романсъ на имѣвшійся у него французскій текстъ, болѣе или менѣе передававшій мысль Глинки. Каково же было его удивленіе, когда потомъ, по возвращеніи своемъ въ Петербургъ, онъ услышалъ тамъ новую глинкинскую баркаролу („Тихо Брента протекала“), которая почти нота въ ноту совпадала съ его собственнымъ романсомъ, но еще живѣе воспроизводила поэтическое настроеніе ихъ обоихъ на балконѣ „Albergo del Pazzo“ въ Миланѣ.
Обратимся теперь, однако, снова къ нашимъ двумъ собесѣдникамъ на этомъ балконѣ.
На вопросы Толстого о Неаполѣ, куда онъ самъ на-дняхъ собирался, Глинка разсказалъ о своемъ восхожденіи въ снѣжную метель на Везувій, о засыпанныхъ вулканическимъ пепломъ городахъ Геркуланумѣ и Помпеѣ и объ извѣстномъ уже тогда молодомъ русскомъ живописцѣ Брюлловѣ, занятомъ этюдами къ громадной картинѣ „Послѣдній день Помпеи“.
— И все это я самъ тоже увижу! — воскликнулъ Толстой, предвкушая въ мысляхъ предстоящія ему новыя впечатлѣнія. — Но меня, признаться, еще болѣе интересуетъ музыкальный міръ. Ты сошелся вѣдь съ лучшими здѣшними композиторами: Беллини, Доницетти…
— Сошелся, но…
— Но опять разошелся?
— Не то, чтобы: они, какъ всѣ вообще итальянцы, — премилые люди. Но темпераменты у насъ разные, мы разнаго поля ягоды…
— Тѣмъ не менѣе, ты все-таки восхищаешься ихъ музыкой?
— Въ исполненіи Рубини, Пасты, Джульетты Гризи — да. Во время карнавала мы съ Штеричемъ13 сидѣли въ театрѣ della Scala въ ложѣ нашего посланника и отъ умиленія и восторга проливали обильный токъ слезъ. Потомъ уже я сообразилъ, что Рубини не въ мѣру злоупотребляетъ своими нѣжными sotto voce, а Гризи, чтобы смягчить какую-нибудь музыкальную фразу, мяукаетъ въ носъ кошечкой.
— Неблагодарный! Безъ нихъ ты все же врядъ ли сдѣлалъ бы такіе замѣчательные успѣхи въ музыкальной фразировкѣ на роялѣ.
— Нѣтъ, отъ нихъ-то я въ этомъ отношеніи позаимствовалъ всего менѣе.
— Такъ отъ кого же? Отъ твоихъ здѣшнихъ учителей?
— Тоже нѣтъ: Біанки, у котораго я бралъ уроки пѣнія, — просто шарлатанъ; а Базили, учившій меня композиціи, — пустой педантъ. Если я кому дѣйствительно обязанъ, такъ это второстепеннымъ пѣвцамъ и пѣвицамъ, любителямъ и любительницамъ: отъ нихъ я научился капризному и трудному искусству управлять голосомъ и ловко писать для пѣнія.
— А мнѣ думается, что всего болѣе способствовалъ тому твой собственный крупный талантъ! Скажи-ка, великъ ли за эти два года твой композиторскій багажъ?
— Похвастаться почти нечѣмъ, — отвѣчалъ со вздохомъ Глинка: — все больше варіаціи на чужія темы. Въ Неаполѣ же я вовсе не сочинялъ. Почему? спросишь ты. Да потому, во-первыхъ, что тамъ я постоянно недомогалъ, страдалъ безсонницей, жестокими нервными болями… Докучать тебѣ описаніемъ этой кары Божіей не стану.
— А во-вторыхъ?
— Во-вторыхъ (и это—главная причина), что я родился не итальянцемъ, а русскимъ.
— Ну, вотъ!
— Да, mio caro, итальянцы съ момента своего рожденія подъ благодатнымъ южнымъ солнцемъ, развиваются совершенно нормально, счастливѣйшимъ образомъ, а по латинской поговоркѣ in corpore sano mens sana (въ здоровомъ тѣлѣ здоровый духъ). Ощущеніе тѣлеснаго благосостоянія вызываетъ у нихъ и благодушное, жизнерадостное состояніе духа — „sentimento brillante“. Мы же, сѣверяне, чувствуемъ совсѣмъ иначе. То, что ихъ восхищаетъ, насъ или глубоко трогаетъ, или — еще чаще — оставляетъ холодными. Имъ нужны пылкія страсти, намъ — тихая грусть. Поэтому подлаживаться подъ ихъ sentimento brillante мнѣ, сѣверянину, да еще вѣчно больному, совсѣмъ не по нутру. А тутъ, иной разъ нѣтъ-нѣтъ, да такъ взгрустнется по нашей бѣдной, но милой, милой Руси-матушкѣ, что хоть караулъ кричи: „O, patria bellissima!“
— Вотъ это я понимаю, — сказалъ Толстой. — А я, знаешь ли, нынче за обѣдомъ уже думалъ, что ты совсѣмъ объитальянился.
— За обѣдомъ?
— Ну да: съ такимъ аппетитомъ ты уплеталъ не только „поленту“, но даже фрикасе изъ лягушекъ — бррръ! Вспомнишь только, такъ морозъ по кожѣ подираетъ!
— Да, fratello mio, это блюдо не „россейское“! — сказалъ Глинка и причмокнулъ — неизвѣстно, по поводу ли лягушекъ или слова „россейское“, потому что въ то время уже у него было пристрастіе къ особымъ словечкамъ. — Желудокъ глупъ, всякую мерзость перевариваетъ. Ну, а сердцу нужно свое, родное.
— Такъ почему же ты не испробуешь своихъ силъ на чисто-русскихъ темахъ?
— Ты, Ѳеофилъ, высказалъ то̀, что̀ давно уже копошится у меня въ глубинѣ груди и просится наружу. Своей національной музыки у насъ, русскихъ, собственно говоря, еще и нѣтъ. Написать настоящую русскую оперу — вотъ мечта моя.
— Браво! И сюжетъ у тебя уже найденъ?
— Есть сюжетецъ на цѣлыхъ пять актовъ. Не знаю только, насколько онъ сцениченъ…
— А вотъ разскажи, — вмѣстѣ и обсудимъ.
Глинка сталъ разсказывать. „Сюжетъ былъ вполнѣ національный съ сильно-патріотическимъ оттѣнкомъ и довольно мрачный“, удостовѣряетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Толстой, забывшій, однако, подробности. Для насъ сюжетъ этотъ не имѣетъ особеннаго интереса, такъ какъ онъ никогда не осуществился.
На третьемъ или четвертомъ актѣ Глинка вдругъ прервалъ свой разсказъ.
— Для этой сцены у меня готова и арія, — объявилъ онъ. — Вотъ, послушай.
И, войдя съ балкона въ неосвѣщенную еще лампой, но наполненную дымчатымъ луннымъ свѣтомъ комнату, онъ сѣлъ за рояль. Комната огласилась аріей, извѣстной теперь всякому русскому, слышавшему хоть разъ оперу „Жизнь за царя“, — аріей Вани: „Какъ мать убили“, которая тогда была, конечно, еще „пѣсней безъ словъ“.
— Это нѣчто совсѣмъ новое, свѣжее и въ то же время такое знакомое, родное! — воскликнулъ восхищенный Толстой. — Тема вѣдь чисто-русская, народная…
— А каковъ двойной контрапунктикъ? — говорилъ совершенно счастливый произведеннымъ впечатлѣніемъ Глинка, повторяя музыкальную фразу то лѣвою, то правою рукою. — Этихъ простыхъ, народныхъ мотивовъ у меня непочатый край. Покрой сарафана или кафтана останется тотъ же; но ужъ что касается до всякихъ ухищреній музыкальной премудрости: контрапунктовъ, ритмовъ, гармоній, такъ мое почтеніе, скупиться не станемъ!
Такая разработка своихъ произведеній доставляла ему, очевидно, глубокое удовлетвореніе, потому что написанныя имъ впослѣдствіи двѣ геніальныя оперы изобилуютъ „ухищреніями музыкальной премудрости“.
Десять дней, проведенные въ обществѣ Толстого, были для Глинки едва ли не самыми свѣтлыми за все время его пребыванія за границей. Зато съ отъѣздомъ пріятеля въ Неаполь, онъ еще сильнѣе почувствовалъ свое дѣйствительное одиночество среди милыхъ ему, но все-таки чуждыхъ итальянцевъ. На него напала угнетающая хандра. А тутъ отъ прописаннаго ему итальянскимъ неучемъ-докторомъ пластыря тѣлесныя страданія его дошли еще до галлюцинацій, до онѣмѣнія рукъ и ногъ. Временами ему было легче, и тогда его единственнымъ утѣшеніемъ было фортепьяно, за которымъ онъ забывался въ импровизаціяхъ. И — удивительное дѣло! — въ это-то самое время, отъ необычайнаго, должно-быть, напряженія нервовъ, его сиповатый, неопредѣленнаго тембра голосъ внезапно превратился въ звучный высокій теноръ, который продержался у него затѣмъ цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ.
Давно уже томила его тоска по родинѣ, по роднымъ. Когда же лѣтомъ 1833 г. до него дошла вѣсть о томъ, что одна изъ замужнихъ сестеръ его, Наталья Ивановна (по мужу Гедеонова) выѣхала съ мужемъ въ Берлинъ, — его неудержимо потянуло туда же. Проѣздомъ черезъ Вѣну онъ не преминулъ, разумѣется, слушать нѣсколько разъ оркестры гремѣвшихъ тогда своими вальсами Лайнера и Штрауса (отца), и вдохновился ими же на тему краковяка, который внесъ потомъ въ танцы своей оперы „Жизнь за царя“.
По совѣту вѣнскихъ врачей, онъ рѣшился испробовать въ близлежащемъ Баденѣ сѣрныя ванны. Но тѣ довели его опять до галлюцинацій и такого безпомощнаго состоянія, что по улицѣ его должны были водить за руку, какъ малаго ребенка. Во время одной-то изъ такихъ прогулокъ, бывшій съ нимъ служитель, видя его утомленіе, предложилъ ему зайти отдохнуть въ сосѣдній церковный домъ къ католическому патеру. Здѣсь, въ гостиной, оказалось фортепьяно. По неодолимой, привычкѣ, Глинка взялъ нѣсколько аккордовъ, а тамъ пододвинулъ себѣ стулъ и принялся импровизировать. Хватавшая за душу импровизація глубоко потрясла патера.
— Откуда въ ваши лѣта столько грусти? — замѣтилъ онъ молодому гостю.
— Да какъ же не грустить человѣку, — былъ отвѣтъ, — когда онъ приговоренъ къ смерти?
— Что вы говорите!
— Приговоренъ не судомъ, конечно, а врачами, но приговоренному отъ того не легче.
— А лѣчились ли вы когда-нибудь гомеопатіей? — спросилъ патеръ.
— Вы вѣрно шутите, святой отче? Послѣ всей той массы ядовитыхъ веществъ, въ которыя меня погружали и которыми меня пичкали, что̀ могутъ помочь мнѣ какія-то крупиночки, да еще разведенныя въ стаканѣ воды?
— Въ томъ-то и дѣло, сынъ мой, что такія нервныя натуры, какъ ваша, не выносятъ сильной отравы (потому что всякое почти лѣкарство, на самомъ дѣлѣ, ядъ); въ малой же, микроскопической дозѣ ядъ для нихъ цѣлебенъ.
— Да если я не вѣрю въ цѣлебную силу вашихъ крупинокъ…
— Не вѣрьте: онѣ и такъ помогутъ. Вы сами вѣдь считаете себя приговореннымъ къ смерти; такъ не все ли вамъ равно, отъ чего умереть — отъ аллопатіи или гомеопатіи? Я вамъ укажу хорошаго гомеопата въ Вѣнѣ.
Глинка пожалъ плечами и больше изъ деликатности взялъ данный ему патеромъ адресъ. По возвращеніи въ Вѣну, во время приступа возобновившихся болей, онъ вспомнилъ совѣтъ патера и отправился къ рекомендованному имъ доктору-гомеопату. И что же? Не далѣе, какъ черезъ день по пріемѣ гомеопатическаго средства, ему стало настолько легче, что онъ могъ двигаться уже безъ посторонней помощи.
Въ Берлинѣ онъ не замедлилъ обратиться къ одному изъ тамошнихъ гомеопатовъ. Здѣсь его здоровье и общее настроеніе духа еще болѣе поправилось, — чему, безъ сомнѣнія, способствовала и встрѣча съ сестрою и зятемъ. Съ особенной охотой и энергіей занялся онъ тутъ изученіемъ теоріи музыки подъ руководствомъ извѣстнаго преподавателя Зигфрида Дена, который собственноручно написалъ для него весь генералъ-басъ (науку гармоніи), контрапунктъ (науку мелодіи) и инструментовку.
„Дену я обязанъ болѣе всѣхъ моихъ maestro, — говорится въ посмертныхъ запискахъ Глинки: — онъ, будучи рецензентомъ музыкальной Лейпцигской газеты, привелъ въ порядокъ не только мои познанія, но и идеи объ искусствѣ вообще, и съ его лекцій я началъ работать не ощупью, а съ сознаніемъ“.
Занятія эти продолжались до апрѣля 1834 г., когда семейная катастрофа — смерть отца — заставила его, вмѣстѣ съ сестрой и зятемъ, немедля собраться въ Россію. Въ концѣ того же мѣсяца они были уже у матери въ Новоспасскомъ. Съ кончины Ивана Николаевича (3-го марта) протекло, между тѣмъ, безъ малаго два мѣсяца; а временемъ понемногу зарубцовываются и самыя жгучія раны. Вначалѣ неутѣшная Евгенія Андреевна нѣсколько уже свыклась съ мыслью о невозвратной своей потерѣ. Съ пріѣздомъ же старшаго и любимаго ея сына, всѣ заботы ея сосредоточились на немъ; а когда она увидѣла, какъ ему не терпится возвратиться въ Берлинъ къ Дену, она не стала уже его удерживать и сама проводила его въ Петербургъ, гдѣ ему надо было выправить себѣ заграничный паспортъ. Однако, заграничная поѣздка его на этотъ разъ не состоялась. Въ самый день прибытія своего въ Петербургъ онъ увидѣлъ впервые свою будущую жену, — и дальнѣйшая судьба его была рѣшена.
Остановился онъ съ матерью у дальняго родственника, начальника юнкерской школы, Стунѣева. Когда они, снявъ верхнее платье въ передней, вошли въ гостиную, имъ представилась такая картина: передъ простѣночнымъ зеркаломъ сидѣла молоденькая и прехорошенькая миніатюрнаго роста барышня съ распущенными волосами, а горничная дѣлала ей прическу. Барышня эта была шестнадцатилѣтняя свояченица Стунѣева, Марья Петровна или, какъ ее называли родные, Marie. Увидѣвъ въ зеркалѣ входящаго молодого человѣка, она такъ очаровательно зардѣлась и улыбнулась, съ такой естественной граціей готова была обратиться въ бѣгство, что впечатлительное сердце нашего артиста не шутя заёкало. Пока Евгенія Андреевна добывала для сына паспортъ, покупала прочную карету, чтобы ему, Боже упаси, не простудиться въ дорогѣ до Берлина, — въ пылкомъ воображеніи Мишеля рисовалась уже идиллическая семейная жизнь съ обворожившей его Марьей Петровной. Снарядивъ какъ слѣдуетъ сына, Евгенія Андреевна вернулась въ свое Новоспасское. Мишель же, устроившись по домашнему въ кабинетѣ Стунѣева, преспокойно остался на всю зиму въ Петербургѣ.
Благодаря гомеопатіи и строгой діэтѣ, здоровье его замѣтно окрѣпло; а новая сердечная привязанность, на которую, повидимому, отвѣчали взаимностью, поддерживала въ немъ поэтическій подъемъ духа. Сами собой зарождались въ головѣ у него новыя мелодіи съ русской окраской; оставалось только связать ихъ въ цѣлую народную оперу. Припомнилась ему тутъ читанная имъ еще въ дѣтствѣ повѣсть Жуковскаго „Марьина роща“, и онъ перечелъ ее вновь.
„А что же, сюжетъ какъ сюжетъ и, главное, народный. Но переработать его въ драматическую форму можетъ только опытная рука писателя; не попросить ли самого Жуковскаго?“
Задумано — сдѣлано. По субботамъ у Жуковскаго на его казенной квартирѣ въ Шепелевскомъ дворцѣ (часть нынѣшняго Эрмитажа, у Зимней канавки) собиралась столичная аристократія ума, преимущественно изъ литературнаго міра. Глинка еще съ перваго знакомства своего съ Жуковскимъ въ Павловскѣ (какъ нами уже упомянуто) имѣлъ доступъ въ этотъ избранный кружокъ. Самъ онъ почти не вмѣшивался въ оживленную, остроумную бесѣду господъ литераторовъ; зато, въ концѣ вечера, обыкновенно, по общей ихъ просьбѣ, услаждалъ ихъ слухъ своей артистической игрой.
Въ описываемый вечеръ, однако, никому изъ гостей Жуковскаго не было дѣла до нашего артиста, потому что Гоголь, несмотря на свою молодость (25 лѣтъ), составившій себѣ уже громкое литературное имя, читалъ имъ свой первый драматическій опытъ — „Женитьбу“. Да ка̀къ вѣдь читалъ! Не говоря уже о веселомъ по природѣ Пушкинѣ, заливавшемся заразительнымъ смѣхомъ, и солидный Плетневъ и меланхоликъ Одоевскій не переставали улыбаться. Когда, наконецъ, авторъ умолкъ и съ наивно-серіознымъ видомъ вопросительно оглянулся, его осыпали со всѣхъ сторонъ самыми непритворными похвалами.
— Вотъ это жизнь, какъ она есть! — говорилъ Пушкинъ съ блещущими глазами. — Вотъ какъ надо писать: правдиво, ярко, рельефно! Съ этого дня, господа, романтизмъ сданъ въ архивъ; съ Николая Васильевича Гоголя начинается новая эра нашей изящной словесности.
— Прозаической, — поправилъ его Жуковскій: — для поэзіи новую эру послѣ насъ, романтиковъ, давно уже началъ Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ своимъ „Онѣгинымъ“.

Пушкинъ порывисто обнялъ своего стараго друга-поэта.
— Одинъ ты, Василій Андреевичъ, глава нашихъ романтиковъ, стоишь попрежнему непоколебимымъ утесомъ среди литературнаго прилива и отлива.
— Заговаривай зубы!
— Нѣтъ, по совѣсти, Василій Андреевичъ. Ты — мой учитель въ поэзіи…
— Но ученикъ побѣдилъ учителя, и тому ничего не остается, какъ сложить оружіе.
Тутъ подошелъ Гоголь, чтобы проститься съ хозяиномъ. За нимъ стали расходиться и другіе гости. Проводивъ послѣдняго за дверь, Жуковскій возвратился въ гостиную, — какъ вдругъ передъ нимъ, какъ изъ земли, выросъ Глинка.
— Ахъ, Михаилъ Ивановичъ! вы еще здѣсь?
— Да, у меня, Василій Андреевичъ, къ вамъ великая просьба!
— Очень радъ, если чѣмъ могу быть полезнымъ. Слушаю.
Глинка началъ съ того, что у него еще въ Италіи зародилась мысль о русской національной оперѣ, что русскія темы ему удаются теперь лучше другихъ и что этихъ темъ набралось у него почти на цѣлую музыкальную драму…
— Недостаетъ лишь сюжета для такой драмы? — досказалъ Жуковскій.
— И сюжетъ уже есть — ваша „Марьина роща“. Но придать ей драматическую форму можетъ только самъ авторъ.
Жуковскій съ грустью улыбнулся.
— Кого, скажите, въ наше практическое время можетъ занять еще какое-то старинное преданіе!
— Но оно очень романтично и потому уже пригодно для оперы.
— А что̀ говорилъ сейчасъ вотъ Пушкинъ про романтизмъ? Что онъ сданъ въ архивъ. И Пушкинъ правъ, тысячу разъ правъ.
— Такъ не „Женитьбу“ же Гоголя перекладывать мнѣ на музыку!
— Этого я вамъ и не предлагаю. Пьеса Гоголя безподобна именно какъ комедія. Для музыкальной же драмы, кромѣ сценичности, требуется, и поэтическое, такъ сказать, музыкальное содержаніе. Этому требованію скорѣе отвѣчалъ бы, напримѣръ, пушкинскій „Онѣгинъ“ съ его чудными стихами.
— Поэма сама по себѣ прекрасна, что̀ говорить; но какая же въ ней національность? Герой ея — великосвѣтскій фатъ…
— А героиня, Татьяна, эта чисто-русская дѣвушка? А родители ея? А вся помѣщичья среда и крѣпостной бытъ?
— Нѣтъ, Василій Андреевичъ, мнѣ хотѣлось бы имѣть сюжетъ простонародный, патріотическій…
— Патріотическій? Гмъ… Дайте-ка подумать.
Раздумывая, Жуковскій прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ.
— Да чего ужъ лучше! — воскликнулъ онъ вдругъ: — патріотическій подвигъ простого мужика Ивана Сусанина, спасшаго отъ поляковъ перваго царя изъ рода Романовыхъ, Михаила Ѳеодоровича.
— Сюжетъ совсѣмъ подходящій, — согласился Глинка. — Но вѣдь у Кавоса14 есть уже опера „Иванъ Сусанинъ“. Увертюра ея очень даже хороша; красивы и нѣкоторые хоры, какъ напримѣръ: „Не шумите, вѣтры буйные…“
— А между тѣмъ, опера сколько лѣтъ уже сошла съ репертуара, — возразилъ въ свою очередь Жуковскій. — Вначалѣ она хотя и имѣла шумный успѣхъ, но благодаря именно патріотическому содержанію…
— И мелодичности!
— Допустимъ; но въ мелодіяхъ своихъ итальянецъ и подъ русскимъ армякомъ остался все тѣмъ же итальянцемъ.
— Либрето, Василій Андреевичъ, однако же, было написано настоящимъ русскимъ — княземъ Шаховскимъ?
— Да, но ка̀къ написано! — усмѣхнулся Жуковскій. — Немало, помнится, потѣшались мы тогда надъ аріей Сусанина:
Хорошъ тоже конецъ: Сусанинъ, вмѣсто того, чтобы умереть геройскою смертью, остается живъ-живехонекъ:
— Такая историческая ложь, конечно, непростительна. Но Кавосъ не взъѣстся на меня, если я воспользуюсь его сюжетомъ?
— Его сюжетомъ? Да развѣ онъ его самъ изобрѣлъ, а не взялъ просто изъ исторіи, которая составляетъ общее достояніе?
— Но все-таки сюжетъ имъ уже разработанъ…
— А вы его разработаете на свой ладъ. У Шекспира сколько драмъ на старые сюжеты! Пьесы его предшественниковъ давнымъ-давно канули въ Лету, а пьесы самого Шекспира даются повсюду и на всѣхъ языкахъ. То же можетъ случиться и съ Михаиломъ Глинкой, если онъ станетъ нашимъ музыкальнымъ Уильямомъ Шекспиромъ.
— „Если онъ имъ станетъ!“ Не говоря уже о размѣрѣ талантовъ, я имѣю опаснѣйшаго противника въ самомъ Кавосѣ, который не только еще живъ, но состоитъ и капельмейстеромъ русской оперы.
— Ну, его-то вамъ нечего опасаться: Катерино Альбертовичъ — милѣйшій, благороднѣйшій человѣкъ; интриговать противъ васъ онъ навѣрное не станетъ.
— Вы думаете?
— Увѣренъ въ томъ. Весь вопросъ только въ въ сюжетѣ: насколько онъ вамъ по душѣ.
— О, сюжетъ какъ на заказъ! Какъ драматично положеніе Сусанина среди поляковъ, которыхъ онъ завелъ въ дремучій лѣсъ! А контрастъ музыки русской и польской! Въ лагерѣ поляковъ могъ бы быть балъ съ музыкой, съ краковякомъ. Краковякъ у меня даже готовъ…
— Вотъ видите ли, — замѣтилъ съ улыбкой Жуковскій: — фантазія композитора уже закипѣла, разыгралась!
— Но композитору нуженъ и либретттистъ. Вы сами сейчасъ смѣялись надъ Шаховскимъ, который хоть и опытный драматургъ, но, не будучи самъ поэтомъ, не справился-таки съ либреттто для „Сусанина“. Вотъ если бы за это взялся настоящій поэтъ, Василій Андреевичъ Жуковскій…
— Гдѣ ужъ мнѣ! На старости-то лѣтъ…
— Попытались бы, по крайней мѣрѣ. На ваши слова у меня написано вѣдь уже немало романсовъ: стихъ у васъ такой звучный, такъ и просится на музыку.
— Развѣ что попытаться, — сдался добрякъ-поэтъ, который не могъ вообще отказать въ какой-либо просьбѣ. — Для пробы я напишу вамъ, пожалуй, стихи для какой-нибудь аріи. Дайте мнѣ только мелодію.
— Извольте; выбирайте сами.
И Глинка съ присущей ему виртуозностью и глубокимъ чувствомъ сыгралъ одну за другой нѣсколько изъ своихъ русскихъ темъ.
— Вотъ это, какъ разъ годилось бы для эпилога, — сказалъ Жуковскій, прослушавъ тему, предназначенную для тріо съ хоромъ: — оставшіеся послѣ Сусанина дочь, зять и пріемышъ-сирота горюютъ по убитомъ. Завтра стихи будутъ въ вашихъ рукахъ.
Дѣйствительно, на другой же день, дворцовый курьеръ привезъ Глинкѣ конвертъ съ обѣщанными стихами. Стихи эти были: „Ахъ, не мнѣ, бѣдному, вѣтру буйному“, вошедшіе затѣмъ дословно въ эпилогъ первой оперы Глинки.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. „Полжизни за либреттто!“
Глинкѣ, минуло уже тридцать лѣтъ. Въ этомъ возрастѣ всякій неженатый мужчина начинаетъ серіозно подумывать о женитьбѣ. И Глинка, какъ мы знаемъ, послѣ первой же встрѣчи съ молоденькой свояченицей Стунѣева, сталъ помышлять о своемъ собственномъ семейномъ очагѣ. У хозяйки дома, Софьи Петровны Стунѣевой, было пріятное контральто, и Глинка охотно взялся обучать ее пѣнію. Сестра ея, Марья Петровна, хотя и жила съ матерью, но по недѣлямъ гостила у Стунѣевыхъ. Видясь съ нею тутъ ежедневно, Глинка, шутя, предложилъ ей также пѣть.
— Да я и нотъ-то не знаю! — разсмѣялась, краснѣя, молодая дѣвушка.
— Я съ удовольствіемъ покажу ихъ вамъ. Позвольте только сперва испытать вашъ голосокъ. Я буду пѣть, а вы подтягивайте.
Первая проба вышла довольно сомнительной: Марья Петровна не попадала даже въ тонъ. Учитель, однако, не унывалъ, и со дня на день ученица дѣлала все бо̀льшіе успѣхи, пока не стала пѣть премило, — правда, одни только простые романсы.
Эти уроки еще болѣе сблизили молодыхъ людей и завершились помолвкой. Но со дня кончины отца жениха не истекло еще годового срока, а потому со свадьбой рѣшено было обождать до весны.
Настроеніе молодого композитора было, разумѣется, уже самое весеннее. Все существо его было, такъ сказать, проникнуто гармоніей, просившейся излиться въ стройныхъ звукахъ. Въ чаяніи получить вскорѣ отъ Жуковскаго обѣщанное либретто, онъ занялся увертюрой, которую другіе композиторы пишутъ обыкновенно подъ самый конецъ. Но запасъ темъ былъ у него уже такъ великъ, что оставалось только брать самое звучное. Писалъ онъ увертюру для фортепьяно на четыре руки, но тутъ же обозначалъ инструментовку и для цѣлаго оркестра. Жужжавшія у него въ ушахъ мелодіи въ такой мѣрѣ разжигали его воображеніе, что дѣйствующія лица ненаписанной еще оперы возставали передъ нимъ, какъ живыя, особенно ночью, когда въ окружающей темнотѣ и тишинѣ ничто не задерживало полета его фантазіи. Послѣ одной такой вдохновенной ночи у него къ утру точно какимъ-то волшебствомъ оказался въ головѣ планъ всей оперы, явленіе за явленіемъ, почти въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ она затѣмъ попала на сцену.
„А что, если Жуковскій, между тѣмъ, выработалъ совсѣмъ другой планъ? Надо предупредить…“
И часъ спустя онъ звонилъ уже въ колокольчикъ у дверей Жуковскаго.
— У себя Василій Андреевичъ?
— У себя-то у себя, — отвѣчалъ отворившій дверь камердинеръ, загораживая гостю входъ. — Да принимать никого не велѣли.
— Нездоровъ?
— Нѣтъ, слава Богу. Но собираются сейчасъ къ его высочеству.
— Къ наслѣднику? Но мнѣ, любезный, всего на минуточку.
— Все одно-съ, сударь. Не приказано. Пожалуйте въ другой разъ.
— Да понимаешь-ли, братецъ, что̀ мнѣ нужно видѣть его, что называется, до зарѣзу, по самонужнѣйшему дѣлу!
— Кто тамъ, Григорій? — послышался изъ внутреннихъ комнатъ знакомый мягкій голосъ.
— Это я, Василій Андреевичъ, — Глинка. Простите великодушно…
— А, музыкальный нашъ Шекспиръ! милости просимъ.
Изъ открытыхъ дверей кабинета черезъ гостиную навстрѣчу ему вышелъ самъ хозяинъ-поэтъ, одѣтый въ форменный вицъ-мундиръ и при всѣхъ орденахъ. Но доброе лицо его не выражало ни малѣйшаго неудовольствія, напротивъ того, привѣтливо улыбалось.
— Вѣрно, по поводу либретто?
— Да, Василій Андреевичъ. Вы, пожалуй, надъ нимъ уже много поработали…
— Увы! при всемъ желаніи, еще не удосужился.
— Ни одного куплета не сочинили?
— Ни одного. Пера въ руки не бралъ.
— Какъ я радъ!
— Вотъ те на!
— Дѣло въ томъ, Василій Андреевичъ, что нынче ночью меня точно свыше осѣнило: самъ собой какъ-то сложился весь планъ оперы. Вотъ я, сломя голову, и помчался къ вамъ…
— Чтобы облегчить мнѣ задачу? Съ благодарностью выслушаю ваши указанія. Только не сейчасъ: я спѣшу, какъ видите, къ моему великому князю.
— Такъ не позволите ли вы мнѣ здѣсь обождать васъ.
— Не взыщите, голубчикъ; но сегодня, да и всю эту недѣлю, я до того занятъ…
— Этакое вѣдь несчастье! Не найдется ли у васъ для меня теперь вотъ хоть четверти часа, десяти минутъ…
Въ голосѣ Глинки слышалось такое отчаянье, что Жуковскій сжалился.
— Вамъ всего десять минутъ? — сказалъ онъ и взглянулъ на часы. — Могу удѣлить вамъ, пожалуй, даже двадцать. Только не вдавайтесь въ излишнія подробности.
И, взявъ гостя подъ руку, онъ провелъ его въ кабинетъ къ дивану.
— Садитесь. Не прикажете ли трубочку?
Глинка отказался и скороговоркой, возможно короче, сталъ излагать свой, планъ. Жуковскій слушалъ его молча съ большимъ вниманіемъ, временами только одобрительно кивая головой.
— Ничего ни прибавить, ни убавить, — проговорилъ онъ, съ родительскою нѣжностью глядя въ разгорѣвшіеся отъ вдохновенія глаза молодого композитора. — Знаете ли, Михаилъ Ивановичъ, что вы не только музыкантъ, — вы и поэтъ.
— Поэтъ въ душѣ, я самъ это чувствую, — отвѣчалъ Глинка, немало польщенный такимъ отзывомъ знаменитаго поэта. — Но выразить то, что я чувствую, я могу только въ звукахъ, а не стихами. Мнѣ нужна помощь заправскаго поэта, какъ вы, — поэта Божіей милостью.
Межъ бровей старика-поэта врѣзалась глубокая складка.
— Радъ бы въ рай, да грѣхи не пускаютъ, — сказалъ онъ. — Когда-то еще у меня выберется для васъ свободный часокъ не часокъ, а недѣля, другая…
— Неужто-жъ такое либретто потребуетъ у васъ недѣли?
— А то какъ же? Вѣдь это, милый мой, не романсикъ какой-нибудь въ два-три куплетца, а цѣлая драма въ стихахъ, которые къ тому же должны быть еще пріурочены къ вашей музыкѣ, — задача куда нешуточная. А написать кое-какъ кое-что — не въ моихъ правилахъ, да и сами вы, я думаю, не сказали бы мнѣ спасиба.
Глинка въ полномъ уже отчаяніи схватился за голову.
— Но безъ либретто я какъ безъ рукъ! Полжизни я отдалъ бы за либретто!
— Какъ Ричардъ III полцарства за коня?15 Мнѣ самому, повѣрьте, крайне досадно. Поищемте вмѣстѣ другого либреттиста.
— Благодѣтель! отецъ родной! Вы лично вѣдь знаете всѣхъ нашихъ поэтовъ…
— Знаю и потому-то считаю нужнымъ теперь же предупредить васъ, что большинство изъ нихъ страдаетъ маніей величія (это, разумѣется, между нами). Какъ бы кто изъ нихъ ни чирикалъ, — и чижикъ, и зябликъ — всякъ мнитъ себя голосистымъ соловушкой, прямымъ потомкомъ Аполлона. А что такое либреттистъ? Послушный рабъ композитора, подчиняющійся всѣмъ его капризамъ. Вы, Мимоза Ивановичъ, относительно капризности, я полагаю, не составляете среди вашей братіи, музыкантовъ, блестящаго исключенія?
— Всѣ музыканты, Василій Андреевичъ, живутъ нервами, и если за мною установилась кличка Мимозы…
— То вы еще нервнѣе другихъ? Вотъ изволите видѣть. Поэты же тоже народъ очень впечатлительный, и чѣмъ поэтъ талантливѣе, тѣмъ тоньше у него нервы. Изъ сего вытекаетъ, что первоклассный поэтъ врядъ ли даже возьмется писать для васъ либретто; а если бы и взялся, то на первыхъ же порахъ вы сцѣпились бы другъ съ другомъ.
— Очень можетъ быть…
— Значитъ, для васъ гораздо вѣрнѣе сразу сговориться со стихотворцемъ второго ранга, понятно, настолько скромнымъ и разсудительнымъ, чтобы, по щучьему велѣнью, по вашему прошенію, онъ безпрекословно передѣлывалъ свои стихи.
— Но отдавать свое любимое музыкальное дѣтище въ руки такого зауряднаго стихотворныхъ дѣлъ мастера…
— Пребольно, прегорько, — вполнѣ согласенъ съ вами. Зато, по крайней мѣрѣ, вы будете гарантированы, что получите либретто, приспособленное къ вашей музыкѣ, къ вашему собственному плану.
Глинка глубоко вздохнулъ.
— Ну, что же дѣлать! — сказалъ онъ. — Изъ двухъ золъ выбираютъ меньшее. А у васъ, Василій Андреевичъ, есть уже такой баринъ на примѣтѣ?
— Есть. Лишь бы самъ онъ не заупрямился по своей баронской фанаберіи.
— Такъ онъ баронъ?
— Баронъ Розенъ, личный секретарь моего великаго князя. Иногда онъ бываетъ также у меня по субботамъ; вы, вѣроятно, съ нимъ уже встрѣчались.
— Какъ! этотъ долговязый, бѣлобрысый остзеецъ, примазанный, прилизанный?…
— Онъ самый. Стихи у него не ахти какіе, хотя самъ онъ считаетъ ихъ превосходными (авторская слабость!). Но и отъ чужихъ хорошихъ стиховъ онъ приходитъ въ самый искренній, какъ говорится — въ „телячій“ восторгъ, а это доказываетъ, что у него есть поэтическое чутье.
— Но мнѣ, простите, показалось, что онъ и говоритъ-то по-русски не совсѣмъ правильно.
— Есть грѣшокъ; но перомъ и стихомъ онъ порядочно владѣетъ.
— Странно!
— Объясняется это очень просто тѣмъ, что съ перомъ въ рукахъ онъ можетъ на досугѣ обдумать каждую фразу, каждое слово, и, какъ аккуратный нѣмецъ, отдѣлываетъ каждый стихъ такъ старательно, что и комаръ носу не подточитъ.
— Но если онъ такъ кичится своимъ баронствомъ и считаетъ свои стихи образцовыми, то захочетъ ли онъ подчиняться моимъ требованіямъ?
— Ну, относительно германизмовъ и другихъ погрѣшностей въ языкѣ упорствовать онъ, я думаю, не станетъ. Къ тому же онъ большой почитатель вашей музыки и приложитъ, безъ сомнѣнія, всѣ старанія, чтобы угодить вамъ.
Говоря такъ, Жуковскій справился снова съ своими часами и быстро приподнялся съ дивана.
— Простите, любезнѣйшій; прошло ровно двадцать минутъ.
— А какъ же съ Розеномъ?
— Я попрошу его къ себѣ на эту субботу; у меня и столкуетесь. Только сами-то не забудьте про субботу: у васъ вѣдь, я знаю, какъ у музыканта, въ головѣ вѣтеръ ходитъ.
— Гуляетъ-таки; но эту субботу навѣрно не пропущу.
Въ субботу Глинка, дѣйствительно, былъ у Жуковскаго однимъ изъ первыхъ. Розенъ, однако, оказалось, его еще опередилъ и съ горделивой осанкой поджидалъ въ дверяхъ гостиной. Глинка протянулъ ему руку, какъ старому знакомому.
— Вы уже здѣсь, баринъ?
Рослый остзеецъ съ недоумѣніемъ взглянулъ на маленькаго человѣчка, назвавшаго его не „барономъ“, а „бариномъ“; но, думая, что ослышался, учтиво наклонилъ къ нему свой стройный станъ и шаркнулъ ногой.
— Василій Андреевичъ сказывалъ мнѣ, что вы хотите… что я буду имѣть честь…
Не справившись съ начатой фразой, онъ запнулся. Выражаться по-русски ему, очевидно, было труднѣе, чѣмъ на родномъ ему языкѣ. Иностранный выговоръ его также нѣсколько рѣзалъ тонкій слухъ Глинки. Но нескрываемое удовольствіе, слышавшееся въ голосѣ барона и свѣтившееся въ его прямодушныхъ голубыхъ глазахъ, расположили столь же прямодушнаго Глинку въ его пользу.
— За кѣмъ изъ насъ будетъ больше чести — покажетъ будущее, — улыбнулся онъ въ отвѣтъ. — Но вы разрѣшите мнѣ, mein lieber Herr, сперва поздороваться съ другими и чайкомъ побаловаться?
— O, bitte, bitte, mein Herr! selbstvetständlich, само собою разумѣется…
Самому Глинкѣ, впрочемъ, не терпѣлось скорѣе сговориться съ своимъ либреттистомъ, и послѣ перваго же стакана чая онъ сидѣлъ уже съ нимъ въ укромномъ уголку у печки.
— Планъ либретто представляется мнѣ вотъ въ какомъ видѣ, — началъ онъ, понизивъ голосъ до шопота, чтобы не привлечь вниманія постороннихъ.
По мѣрѣ развитія стройнаго плана, какъ авторъ его, такъ и будущій исполнитель, все болѣе одушевлялись, разгорались.
— Famos! Ausgezeichnet! (Славно! превосходно!) — только поддакивалъ Розенъ, подпрыгивая на своемъ стулѣ.
Глинка же къ концу третьяго дѣйствія даже не усидѣлъ и, схвативъ своего слушателя за золотую, съ крупнымъ рубиномъ, булавку, которою былъ приколотъ его пышный атласный галстухъ, продолжалъ говорить стоя. Розенъ поневолѣ также приподнялся, но сдѣлалъ это такъ стремительно, что его рубиновая булавка осталась въ рукѣ Глинки. Послѣдній, однако, этого даже не замѣтилъ. Весь поглощенный своей будущей оперой, онъ все говорилъ-говорилъ, держа булавку на воздухѣ передъ собой двумя пальцами. Владѣлецъ деликатно отнялъ ее у него и водворилъ опять на прежнемъ мѣстѣ. Глинка и этого не замѣтилъ. На третьемъ дѣйствіи онъ въ конецъ запыхался и, чтобы собраться съ новыми силами, зашагалъ взадъ и впередъ по комнатѣ, заложивъ за жилетъ пальцы и закинувъ назадъ голову съ взъерошеннымъ хохолкомъ на лбу. Ему, очевидно, не было никакого дѣла до наполнявшихъ комнату гостей; но тѣ съ своей стороны не могли теперь не обратить вниманія на эксцентричнаго человѣчка и невольно слѣдили за нимъ глазами. Дойдя опять до стоявшаго у печки верстовымъ столбомъ остзейца, онъ поймалъ его за пуговицу (достать рукой до рубиновой булавки ему было уже неудобно, такъ какъ въ уровень съ нею приходился только его хохолокъ) и заговорилъ снова:
— Дѣйствіе четвертое — въ дремучемъ бору.
Когда онъ дошелъ въ своемъ планѣ до того момента, гдѣ загорается утренняя заря, Розенъ не могъ сдержать своего сочувствія:
— О, какъ мы воспоемъ ее, эту зарю!
— Только прошу, не длиннѣе моей аріи, — замѣтилъ Глинка.
— Ну, арію вы растянете по моимъ стихамъ…
— Извините, милый баринъ…
— Баронъ! — поправилъ Розенъ.
— Нѣтъ, я хотѣлъ сказать именно: „баринъ“. Это у меня такая же привычка выражаться — façon de parler, какъ у васъ, нѣмцевъ: „lieber Herr“.
— Но я все-таки просилъ бы не забывать…
— Что вы баронъ? Извольте, милый баринъ… виноватъ: баронъ. Такъ вы желали бы забрать меня въ кабалу, подчинить мою музыку вашему тексту? Въ оперѣ главное — музыка…
— А безъ текста опера — не опера! Вы дѣлайте свое дѣло, а я — мое.
Оба настолько возвысили голоса, что Жуковскій, какъ хозяинъ, счелъ нужнымъ вмѣшаться въ споръ:
— Вижу, господа, что у васъ дѣло въ полномъ ходу. Окончательно вы наладите его уже съ глазу на глазъ: присутствіе постороннихъ всегда стѣсняетъ. А теперь, Михаилъ Ивановичъ, позвольте обратиться къ вамъ съ просьбой отъ имени всѣхъ моихъ дорогихъ гостей: дайте и имъ услышать что-нибудь изъ вашей оперы.
— Да у меня нѣтъ еще и текста… — началъ отговариваться Глинка.
— Такъ сыграйте на фортепьяно! Или спойте одинъ изъ вашихъ прелестныхъ романсовъ! — раздались кругомъ голоса,
— Да что съ нимъ много разговаривать, — сказалъ Пушкинъ и, обхвативъ Глинку за плечи, усадилъ его за фортепьяно. — У богача голодающіе просятъ хлѣба, а ему и корочки жаль!
— Зачѣмъ корочку, коли есть цѣлый коровай нашего перваго хлѣбопека Александра Сергѣевича, — отшутился въ томъ же тонѣ Глинка и, послѣ блестящаго ритурнеля, затянулъ свою извѣстную серенаду на слова Пушкина:
Чистый теноръ, внезапно проявившійся у него въ послѣдніе мѣсяцы пребыванія въ Италіи, самъ по себѣ уже долженъ былъ плѣнять слушателей. Но — что̀ еще важнѣе — Глинка фразировалъ свои романсы какъ никто, придавая каждой фразѣ соотвѣтственное выраженіе. Поэтому его пѣніе заслужило отъ всѣхъ болѣе или менѣе шумныя одобренія; а Пушкинъ, стоявшій за стуломъ пѣвца, перегнулся черезъ его хохолокъ и чмокнулъ его въ лобъ.
— Никогда бы не подумалъ, — сказалъ онъ, — что мой хлѣбъ такъ вкусенъ.
— А почему? — подхватилъ Жуковскій. — Потому, что нашъ сладкогласный Орфей помазалъ его янтарнымъ медомъ. Не угостите ли вы насъ, Михаилъ Ивановичъ, и какимъ-нибудь сладкимъ пирожкомъ собственнаго производства?
— Однимъ могу, съ пылу горячимъ.
Какъ разъ наканунѣ имъ былъ написанъ нарочно для своей невѣсты романсъ „Только узналъ я тебя“. Еще подъ впечатлѣніемъ охватившаго его тогда чувства, онъ придалъ теперь своему голосу столько сердечной нѣжности, что когда замеръ послѣдній звукъ, прошло еще нѣсколько мгновеній общаго молчанія; никто не смѣлъ пошевельнуться, дохнуть.
Самъ Глинка до того взволновался отъ своего исполненія, что долженъ былъ встать и пройтись нѣсколько разъ по комнатѣ; а затѣмъ неожиданно сѣлъ опять за фортепьяно.
— Моя увертюра! — объявилъ онъ и заигралъ…
Но что за чудо? Онъ не только играетъ, но и поетъ, — поетъ, конечно, безъ словъ, но звучнымъ голосомъ своимъ подражаетъ всевозможнымъ инструментамъ, да такъ мастерски, что въ пѣніи его слышатся и трубы и флейты, даже литавры и барабанъ.
Изумленные слушатели только переглядывались, перешоптывались:
— Да это цѣлый оркестръ!
Розенъ же въ конецъ ошалѣлъ и выразилъ свой восторгъ однимъ возгласомъ:
— Donnerwetter!
Когда затѣмъ, на смѣну музыкальной части, хозяинъ попросилъ одного изъ поэтовъ прочесть какое-нибудь стихотвореніе, нетерпѣливый баронъ отвелъ Глинку въ сторону и заявилъ, что самъ отдается ему въ кабалу и готовъ переправлять свои стихи для него хоть по десяти разъ.
— Значитъ, и безъ словъ убѣдилъ васъ? — улыбнулся Глинка.
— Потому что вы музыкальный… какъ это говорится? Hexenmeister…
— Чародѣй? Пріятно слышать. Но видѣться намъ теперь придется частенько. Далеко ли вы живете, милый баринъ?
Розенъ, не протестуя уже противъ такого искаженія его родового титула, отвѣчалъ, что живетъ на Конной площади.
— Ну, а невѣста моя съ родительницей обитаетъ какъ разъ по сосѣдству — на Пескахъ. Стало-быть, по пути туда, я могу заходить къ вамъ.
— И мнѣ самому уже васъ не безпокоить?
— И меня и себя не безпокойте. И безъ того вѣдь успѣемъ надоѣсть другъ другу.
Но безпокоиться барону все-таки пришлось: прошелъ и день и другой, прошла недѣля и другая, а отъ Глинки не доходило до него ни слуху, ни духу.
Что же случилось?
А случилось вотъ что. Въ одномъ знакомомъ домѣ Глинка встрѣтился съ какимъ-то начинающимъ литераторомъ. На вопросъ послѣдняго, нашелъ ли онъ уже себѣ либреттиста, Глинка назвалъ барона Розена, но выразилъ при этомъ сомнѣніе относительно способности его писать русскіе стихи, да еще въ чисто-народномъ духѣ.
— И какъ это вы не попросили Нестора Кукольника? — замѣтилъ литераторъ. — Онъ у насъ теперь самый модный драматургъ. Его драма „Рука Всевышняго отечество спасла“ сколько времени даетъ полные сборы.
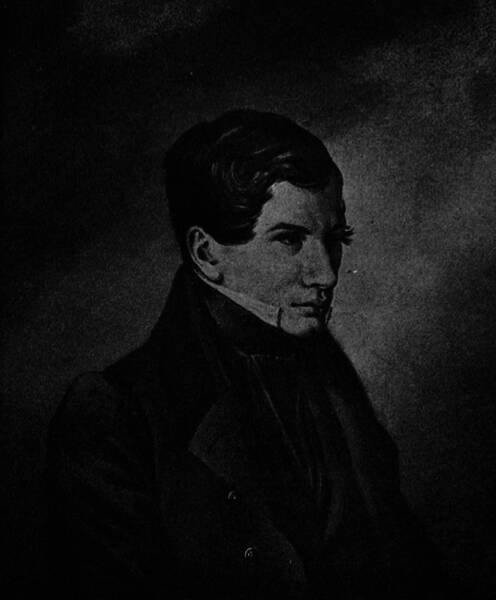
— У Жуковскаго Кукольникъ не бываетъ, и обратиться къ нему мнѣ, признаться, даже въ голову не приходило, — отвѣчалъ Глинка. — Впрочемъ, объ этой драмѣ его я слышалъ какъ-то презлую эпиграмму…
— Кто ее не знаетъ! — усмѣхнулся литераторъ:
— „Рука Всевышняго“ три чуда совершила:
Не въ бровь, а въ глазъ! Но вольно же было Полевому такъ рѣзко отозваться о патріотической пьесѣ: вотъ его „Телеграфъ“ и прихлопнули16. Кукольникъ же, повѣрьте, преобходительный человѣкъ; немножко зазнаётся съ нами, мелкотой, да какъ этакому орлу не зазнаваться? А вы сами почти такой же орелъ…
— Да я съ нимъ вовсе не знакомъ…
— Такъ я васъ познакомлю. Угодно?
— Очень вамъ признателенъ… Но мы условились уже съ барономъ Розеномъ…
— Бросьте вы этого нѣмца! Онъ всю оперу вамъ еще онѣмечитъ. Рыба ищетъ, гдѣ глубже, а человѣкъ, гдѣ лучше. Разъ только Несторъ Васильевичъ возьмется написать для васъ либретто, такъ ваше дѣло въ шляпѣ.
Соблазнъ былъ слишкомъ великъ, и нѣсколько дней спустя Глинка былъ уже введенъ въ кружокъ, гдѣ Кукольникъ долженъ былъ читать новую свою драму: „Джулія Мости“ изъ жизни итальянскихъ художниковъ.
Первое впечатлѣніе, произведенное Кукольникомъ на Глинку, было очень выгодное. Въ этомъ росломъ молодомъ человѣкѣ съ худощавымъ и блѣднымъ лицомъ, съ задумчивыми черными глазами, тотчасъ можно было признать „служителя музъ“; а та самонадѣянная торжественность, съ какою онъ произносилъ, какъ бы взвѣшивая, каждое слово, внушали такимъ прямымъ, непосредственнымъ натурамъ, какъ Глинка, невольное довѣріе къ его выдающемуся таланту.
Началось чтеніе. Въ противоположность своему школьному товарищу Гоголю, чтеніе котораго отличалось необычайною естественностью, Кукольникъ читалъ тѣмъ приподнятымъ тономъ, который еще на школьной скамьѣ (въ Нѣжинской гимназіи высшихъ наукъ) заслужилъ ему между товарищами прозвище „Возвышенный“. Но читалъ онъ съ неподдѣльнымъ жаромъ, и такъ какъ взятый имъ сразу патетическій тонъ отвѣчалъ высокопарному слогу и ходульному содержанію пьесы, то и слушатели дали увлечь себя. Всѣ они были русскіе, а потому отсутствіе въ этой итальянской драмѣ исторической правды едва ли кто-либо изъ нихъ замѣтилъ; звучный же стихъ и „умные“ монологи вызывали благоговѣйное умиленіе. Глинка, профанъ въ литературѣ, поддался общему обаянію.
За чтеніемъ слѣдовалъ ужинъ съ винами; при чемъ вниманіе всѣхъ попрежнему сосредоточивалось на Кукольникѣ, вдохновенно говорившемъ о высокомъ значеніи литературы. Кончился и ужинъ, но никто не думалъ еще вставать изъ-за стола. Подливая себѣ въ стаканъ изъ стоявшей передъ нимъ (уже не первой) бутылки краснаго вина, Кукольникъ продолжалъ разглагольствовать о замышляемыхъ имъ новыхъ драмахъ.
— Сказать ли вамъ, господа, что̀ меня единственно смущаетъ? — говорилъ онъ: — смущаетъ меня мысль, что наша русская публика не доросла еще до пониманія серіозныхъ произведеній. Мнѣ кажется, я брошу писать по-русски, а буду писать или по-итальянски, или по-французски! Мнѣ это очень прискорбно, могу сказать: до слезъ! (Голосъ его дрогнулъ, какъ отъ подступившихъ къ горлу слезъ). Я люблю Россію, какъ самый вѣрный сынъ ея. Моя „Рука“ — лучшій тому свидѣтель. Но что прикажете дѣлать? Придется все-таки, видно, сказать „vale“ родному русскому языку!
Присутствующіе, наэлектризованные его чтеніемъ и еще болѣе воодушевленные обильными „возліяніями“ за ужиномъ, стали единодушно умолять его, ради всего святого, не лишать Россіи славы имѣть такого поэта. Поэтъ смилостивился: выливъ изъ бутылки остатокъ вина, онъ опорожнилъ стаканъ до послѣдней капли и обвелъ окружающихъ увлаженнымъ, благодарнымъ взоромъ.
— Спасибо вамъ, друзья мои, спасибо, — не за меня самого, нѣтъ! спасибо за дорогое мнѣ искусство. Да! я буду писать по-русски, уже по одному тому, что нахожу такихъ русскихъ, какъ вы!
Поднявшись съ мѣста, онъ началъ обходить всѣхъ сидѣвшихъ съ нимъ за столомъ, чтобы торжественно обнять, расцѣловать каждаго.
Выжидая свою очередь, Глинка соображалъ про себя, какъ бы воспользоваться этимъ благопріятнымъ случаемъ для своей цѣли. Кукольникъ же, точно предчувствуя его намѣреніе, обратился къ нему особенно привѣтливо:
— Вы, Глинка, также вѣдь избранникъ Божій: вы любите и чтите свое искусство, какъ я — мое. Обнимаю васъ, какъ родного брата въ общей намъ святынѣ—искусствѣ!
И, заключивъ Глинку въ объятья, онъ облобызался съ нимъ трижды накрестъ.
— Позвольте же, Несторъ Васильевичъ, сейчасъ и поймать васъ на словѣ, — сказалъ Глинка:— будьте братъ родной: напишите для моей оперы либретто.
— Гмъ… Я по горло уже заваленъ литературными заказами… Ну, да назвался груздемъ — полѣзай въ кузовъ. Отказать новоявленному брату въ первой его просьбѣ я не могу, не смѣю! Такъ и быть, пришлите мнѣ планъ оперы.
— А вашъ адресъ?
Кукольникъ хлопнулъ себя рукой по лбу.
— Поэтъ — не отъ міра сего. Вѣдь завтра меня не будетъ уже въ Питерѣ.
— Куда же вы?
— Въ Бѣлокаменную.
— Въ Москву! И надолго?
— Да, право, впередъ не могу еще опредѣлить; смотря по тому, когда меня отпустятъ: меня, можно сказать, вездѣ клещами держатъ, рвутъ на части.
— Такъ позвольте выслать вамъ мой планъ въ Москву? Онъ у меня еще даже не написанъ.
— Такъ напишите его скорѣе и присылайте. Но разъ мы съ вами вступаемъ въ такой духовнобратскій союзъ, необходимо скрѣпить его брудершафтомъ. Хозяинъ дома не откажетъ намъ въ бутылкѣ добраго вина.
Бутылка не замедлила появиться, и композиторъ съ новымъ своимъ либреттистомъ выпили, по всѣмъ правиламъ, на „ты“.
Такимъ-то образомъ, не давая пока ничего знать барону Розену, Глинка въ два дня набросалъ довольно подробный планъ трехъ первыхъ дѣйствій своей оперы и отослалъ его Кукольнику въ Москву17.
Вслѣдъ затѣмъ къ нему неожиданно ворвался самъ Розенъ.
— Прошу прощенья, Михаилъ Ивановичъ… Я хотѣлъ только узнать о вашемъ здоровьи…
— М-да, мнѣ не совсѣмъ здоровилось… — замялся Глинка.
— А теперь поправились? Gott sei gelobt! (Слава Богу!) Стало-быть, можно сейчасъ же начать…
— Не сегодня, баронъ.
— Вамъ недосугъ?
— Недосугъ, да… и вообще, знаете, не то настроеніе.
— Понимаю, о, понимаю! И у меня не всегда то настроеніе. Но у васъ есть вѣдь уже готовыя мелодіи?
— Темы, хотите вы сказать?
— Ну да, ну да…
— Темы-то имѣются.
— И сцены для нихъ тоже?
— Кое-какія намѣчены.
— Da sehen sie mal! (Изволите видѣть!) Вотъ для одной такой-то сцены и сыграйте мнѣ тему; я занотую себѣ тактъ, а стихи сочиню уже у себя на дому.
„Сказать ему про Кукольника, или нѣтъ? — разсуждалъ самъ съ собою Глинка. — Вѣдь съ Кукольникомъ, пожалуй, дѣло и не съладится, а этого барина, между тѣмъ, упустишь. Лучше синица въ рукѣ, чѣмъ журавль въ небѣ“.
И, объяснивъ Розену ситуацію, для которой предназначена имъ одна изъ его музыкальныхъ темъ, онъ сыгралъ ему эту тему, а Розенъ поспѣшилъ „занотовать“ ее себѣ въ записную книжку.
— Ночь не просплю, а представлю вамъ къ утру стихи! — обѣщалъ ретивый поэтъ — и сдержалъ свое слово.
Стихи оказались вовсе недурными и ловко приспособленными къ музыкѣ; такъ что Глинка ограничился только незначительной перестановкой и замѣной словъ, а затѣмъ, по усиленной просьбѣ Розена, снабдилъ его еще нѣсколькими новыми темами.
Нѣкоторое время спустя Кукольникъ прислалъ изъ Москвы образчикъ одной сцены съ монологомъ. Но монологъ, помимо его напыщенности, оказался непомѣрно длиннымъ и по стихосложенію вовсе не согласованнымъ съ музыкой Глинки. Очевидно, столковаться съ либреттистомъ заочно, да еще съ такимъ безапелляціоннымъ, какъ Кукольникъ, было невозможно. И Глинка написалъ ему вѣжливый, но рѣшительный отказъ.
Такъ-то честь написать стихотворный текстъ для первой національной русской оперы выпала на долю нѣмца, барона Розена.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Медовые мѣсяцы жизни и творчества. (1835.)
Глинкѣ не пришлось раскаяться: хотя поэтическое дарованіе Розена было отъ природы не изъ перворазрядныхъ, но чудная музыка самого Глинки и благодарный сюжетъ его музыкальной драмы вдохновляли либреттиста; онъ работалъ съ искреннимъ одушевленіемъ, можно сказать: въ потѣ лица. Болѣе всего цѣнилъ въ немъ Глинка ту нѣмецкую выдержку и щепетильную аккуратность, съ какими онъ подлаживался подъ данную ему мелодію.
— Молодецъ онъ у меня, ей-Богу! — хвалилъ его заглазно Глинка Жуковскому: — закажешь ему столько-то стиховъ, такого-то размѣра, двухъ-трехъ-сложнаго и даже небывалаго: придешь черезъ день — глядь, уже fix und fertig fein accurat.
— Какъ и подобаетъ стихотворныхъ дѣлъ мастеру, да еще изъ нѣмцевъ, — говорилъ Жуковскій, а потомъ съ свойственною ему благодушною шутливостью разсказывалъ другимъ, что у Розена загодя уже наготовлены стихи всевозможныхъ размѣровъ и разложены по разнымъ карманамъ; скажетъ ему Глинка, что требуется ему, молъ, счетомъ столько-то строкъ и такого-то фасона, — Розенъ хвать въ подходящій карманъ и подаетъ:
— Hier, mein Herr! Пожалуйте.
Иногда, впрочемъ, когда Глинка позволялъ себѣ относиться слишкомъ уже строго къ языку стиховъ, уязвленное авторское самолюбіе либреттиста возмущалось. Розенъ начиналъ кипятиться и съ непоколебимымъ упрямствомъ отстаивалъ каждое слово.
Ни за что, напримѣръ, не хотѣлъ онъ передѣлать два стиха:
хотя Глинка и доказывалъ ему неумѣстность сопоставленія библейскаго „грядущая“ съ простонароднымъ „женка“.
— Ничего-то вы не смыслите, — говорилъ Розенъ: — это верхъ поэзіи.
— Можетъ-быть, отдѣльно взятыя, это и перлы, но вмѣстѣ, согласитесь…
— Ни за что и никогда не соглашусь. Вы — сами не поэтъ и, стало-быть, не судья. Передѣлать — значитъ испортить. Dixi!
И Глинкѣ ничего не оставалось, какъ покориться. Зато въ теченіе двухъ мѣсяцевъ (марта и апрѣля 1835 г.) либретто для двухъ первыхъ актовъ было уже въ его рукахъ.
Самъ онъ все болѣе и болѣе втягивался въ свой композиторскій трудъ. Никуда его нельзя было уже заманить, кромѣ дома невѣсты. Если же его, случалось, навѣщалъ кто-нибудь изъ его пріятелей, которыхъ онъ прежде принималъ съ чисто-русскимъ радушіемъ, то видъ у него былъ всегда такой разсѣянный, отвѣчалъ онъ такъ невпопадъ, что тѣ долго не засиживались и оставляли его затѣмъ въ покоѣ. Одинъ только Ѳеофилъ Толстой, живѣе всѣхъ интересовавшійся новымъ твореніемъ своего друга, заходилъ къ нему попрежнему часто, но, заставая его за композиторской работой, не развлекалъ его разговоромъ, пока самъ Глинка не заговаривалъ — съ нимъ. Украдкой черезъ плечо друга заглядывая въ возникавшую подъ его перомъ партитуру, Толстой проникался все большимъ уваженіемъ къ его творческому таланту.
„Я понялъ, — говорится по этому поводу въ его воспоминаніяхъ, — какъ ничтожна безхарактерная космополитическая музыка, не имѣющая твердой родной почвы подъ собою. Я понялъ, что для выраженія во всей полнотѣ глубокаго чувства недостаточно пріятной, ласкающей слухъ мелодіи; что декламація, интересъ и разнообразіе гармоніи и ритма составляютъ, такъ сказать, плоть и кровь серіознаго музыкальнаго произведенія“.
Въ концѣ апрѣля состоялась свадьба Глинки, а въ концѣ мая молодые были уже въ деревнѣ — въ Новоспасскомъ. Любимой сестры своей Людмилы Глинка тамъ уже не засталъ, такъ какъ за мѣсяцъ передъ тѣмъ (въ тотъ самый день, когда вѣнчался ея братъ въ Петербургѣ) она повѣнчалась съ сосѣднимъ помѣщикомъ Василіемъ Илларіоновичемъ Шестаковымъ. Но Евгенія Андреевна встрѣтила сына и невѣстку съ распростёртыми объятьями и на радостяхъ сняла, въ первый разъ по кончинѣ мужа, свой вдовій трауръ. Ей доставляло, казалось, не меньшее удовольствіе, какъ самому Мишелю, водить его красавицу-жену по обширному цвѣточному саду, разстилавшемуся подъ балкономъ дома.
— И все это вѣдь — дѣло рукъ покойнаго папеньки (царство ему небесное!), — говорила она, утирая платкомъ глаза. — Онъ жилъ, дышалъ только своими цвѣтами…
— Да, Мишель какъ-то разсказывалъ уже мнѣ объ этомъ, — отозвалась Марья Петровна, срывая на ходу самые пышные цвѣты для букета. — Какая вѣдь роскошь! Въ нашихъ петербургскихъ цвѣточныхъ магазинахъ, пожалуй, и за деньги такихъ не достать.
— Гдѣ ужъ вашему Петербургу! Во время послѣдней болѣзни покойный все тосковалъ по своимъ цвѣтамъ, — продолжала изливать свое наболѣвшее сердце бѣдная, вдова, — Успокоился онъ только тогда, когда мы всю спальню уставили ему оранжерейными растеніями…
Но невѣстка уже не слушала ея, потому что подъ пологимъ скатомъ показался на протекавшей внизу Деснѣ ручной паромъ, устроенный для сообщенія съ лежавшимъ посреди рѣки островкомъ.
— Ахъ, это паромъ? — обрадовалась она. — Я никогда еще не ѣздила на паромѣ!
— Можешь хоть сейчасъ испытать это удовольствіе, — предложилъ Мишель.
— А что тамъ, на острову?
— Есть тамъ бесѣдка, обвитая цвѣтами, въ которой угощаютъ гостей фруктами, мороженымъ…
— Мороженымъ! Я обожаю мороженое!
— А что, маменька, — вполголоса отнесся сынъ къ матери, — не угостите ли вы насъ сегодня тѣмъ же?
— Боюсь я, дорогой мой, что мороженое такъ скоро не поспѣетъ, — отвѣчала та виноватымъ тономъ. — Къ завтраму я непремѣнно закажу…
— О, до завтраго я охотно подожду! — вмѣшалась Марья Петровна. — Сегодня, вмѣсто того, вы покажете мнѣ, можетъ быть, оранжереи? Тамъ вѣдь тоже цвѣты…
шутливо замѣтилъ Мишель. — Она у меня, маменька, надо вамъ знать, еще большій знатокъ фруктовъ, чѣмъ цвѣтовъ.
— Чѣмъ богата, тѣмъ и рада, — сказала Евгенія Андреевна. — Хотя теперь еще и май мѣсяцъ, но персики Venus уже созрѣли; это лучшій нашъ сортъ. Къ осени же мы просто не знаемъ, куда дѣвать всю массу персиковъ, абрикосовъ, ананасовъ… Мы и варимъ-то, и сушимъ, и маринуемъ, снабжаемъ и всѣхъ сосѣдей…
Попавъ въ оранжереи, Марья Петровна не дала долго упрашивать себя отвѣдать хваленыхъ персиковъ Venus, оказавшихся величиною съ большой апельсинъ, и молодой супругъ не могъ наглядѣться, съ какимъ аппетитомъ она своими бѣлыми зубками впивалась въ сочный плодъ.
Подъ вечеръ того же дня устроили для нея катанье на рѣкѣ съ музыкой. Въ одну шлюпку усѣлись господа, въ другую, поменьше, крѣпостные музыканты, — и надъ свѣтлою гладью рѣки понеслись стройные звуки духовыхъ инструментовъ. То была простая народная пѣсня, но она такъ гармонировала съ окружающей идиллической картиной, съ идиллическимъ расположеніемъ духа самого Глинки, что онъ тотчасъ сталъ подтягивать; за нимъ подхватила и сидѣвшая рядомъ съ нимъ молодая жена. Свѣжая, какъ только-что распустившійся бутонъ, она, ластясь, прислонилась головкой къ плечу мужа и такъ мило вторила ему своимъ небольшимъ, но чистымъ сопрано (въ простыхъ мелодіяхъ она не детонировала), что Евгенія Андреевна не могла отвести отъ нея глазъ, а когда кончилась пѣсня, замѣтила:
— Какъ я довольна твоимъ выборомъ, Мишель! Мари и по росту и по всему такъ къ тебѣ подходитъ…
процитировалъ Мишель слышанные недавно отъ Пушкина новѣйшіе его стихи. — Я, маменька, самъ не постигаю, какъ я могъ жить до сихъ поръ бобылемъ! Жизнь моя теперь — одна симфонія.
— Онъ и по пути сюда въ каретѣ сочинилъ цѣлую симфонію! — добавила Марья Петровна, съ усмѣшкой взглядывая на мужа.
— Не симфонію, душенька, а хоръ въ 5/4. Завтра же перепишу его на разные голоса.
— Для меня главное, Мишель, — сказала Евгенія Андреевна, — что ты счастливъ…
— И хотѣлъ бы видѣть всѣхъ вокругъ себя счастливыми! Знаете ли что, маменька: не задать ли намъ опять меньшой братіи маленькій праздникъ?
— Дѣлай, какъ знаешь, мой милый… Мишель твой въ конецъ избалуетъ нашихъ крѣпостныхъ! — отнеслась Евгенія Андреевна къ невѣсткѣ: — никого-то никогда не побранитъ, не только не прибьетъ, заговариваетъ съ каждымъ просто и ласково, какъ съ своимъ братомъ, точно они такіе же, какъ мы…
— А развѣ они, маменька, отъ природы не такіе же люди какъ люди? — возразилъ сынъ. — Посмотрѣли бы вы на простой народъ за границей…
— То за границей! Ихъ тамъ и грамотѣ обучаютъ. У насъ же народъ темный, дикій. Какихъ имъ еще удовольствій? Выстроилъ же ты для нихъ на дворѣ качели…
— Что качели! Толи дѣло — угощеніе съ плясомъ.
— Ну, хорошо, хорошо. По крайней мѣрѣ, послѣ того ты трое сутокъ всегда веселъ и доволенъ.
И вотъ, въ тотъ же вечеръ на барскомъ дворѣ собралась вся деревенская молодежь на „угощеніе съ плясомъ“, и, глядя на веселящихся, самъ Глинка наслаждался едва ли не болѣе всѣхъ.
Такое свѣтлое настроеніе продержалось у него на этотъ разъ не трое сутокъ, а цѣлое лѣто. Общій подъемъ духа отзывался, понятно, и на его творчествѣ. Хотя онъ попрежнему основался (вмѣстѣ съ женою) въ верхнемъ жильѣ, но большую часть дня проводилъ уже внизу, въ большомъ залѣ, гдѣ находился прекрасный рояль Тишнера. Залъ этотъ былъ проходной; дверь на балконъ была постоянно открыта, но это его теперь ничуть не стѣсняло. Изъ сада теплымъ лѣтнимъ воздухомъ навѣвало къ нему ароматъ цвѣтовъ; вокругъ него ходили, болтали, смѣялись, а вдохновеніе его какъ-будто отъ этого только окрылялось. По цѣлымъ часамъ перо его непрерывно нанизывало на бумагу ноты за нотами, и партитура росла страница за страницей. По временамъ лишь, онъ подбѣгалъ къ роялю, чтобы провѣрить написанное. При этомъ — что особенно замѣчательно — писалъ онъ почти вовсе безъ помарокъ; настолько отчетливо, безошибочно слышалось ему участіе каждаго отдѣльнаго инструмента въ оркестрѣ.

Такъ три лѣтніе мѣсяца, проведенные имъ съ женою въ деревнѣ у своихъ, были для него, въ полномъ смыслѣ слова, медовыми мѣсяцами жизни и творчества. Съ возвращеніемъ въ началѣ осени въ Петербургъ, къ этому меду сталъ примѣшиваться деготь, — сперва капля по каплѣ, а потомъ и цѣлыми ложками.
— Эй, Мишель, не бери тещи въ домъ! — предостерегалъ его Стунѣевъ, — Она, братецъ, бѣдовая.
Но Мари просила его о томъ такъ настойчиво и умильно: она вѣдь такъ привыкла жить съ мамашей… У молодого мужа не достало духу наотрѣзъ отказать въ ея просьбѣ, и теща перебралась къ нимъ со всѣмъ своимъ скарбомъ, со всѣми; своими замашками и порядками. Впрочемъ, погруженный въ свою оперу, Глинка первое время не замѣчалъ, да и не хотѣлъ замѣчать, что̀ происходило около него. За свою партитуру онъ садился съ самаго утра и не вставалъ изъ-за нея до тѣхъ поръ, пока не упишетъ шести страницъ мелкаго письма. Вечеромъ онъ хотя и не работалъ, но за чайнымъ столомъ не вмѣшивался въ общую бесѣду, а носился мыслями въ своемъ собственномъ отвлеченномъ мірѣ — въ мірѣ звуковъ и фантазіи. Не видѣлъ онъ даже, что молодая жена, косясь на него, надуваетъ губки, а то утираетъ и слезы.
— О чемъ вы это плачете, Марья Петровна? — участливо спросилъ ее какъ-то одинъ знакомый.
— Да какъ же не плакать: я такая несчастная…
— Вы — несчастная?
— Ну да! Мишель меня не любитъ!
— Что вы говорите, Марья Петровна! Побойтесь Бога! Да васъ никто никогда еще такъ не любилъ, какъ онъ, да и не будетъ любить.
— Нѣтъ, нѣтъ, онъ мнѣ измѣнилъ!
— Ну, это, простите, неправда!
— Измѣнилъ, измѣнилъ!
— Для кого? Скажите, пожалуйста.
— Извѣстно, для кого: для этой противной оперы; онъ ею одной только и живетъ и бредитъ, а про меня совсѣмъ забылъ.
Знакомый расхохотался; по неволѣ улыбнулась и Марья Петровна. Неудовольствіе ея, по правдѣ сказать, имѣло свои основанія: мужъ не только не думалъ вывозить ее въ свѣтъ, а забывалъ по цѣлымъ часамъ даже о ея существованіи; но основной причиной тому была все-таки она сама. Подобно тому, какъ у жены Пушкина не было природнаго поэтическаго чутья, чтобы цѣнить всю красоту стиховъ ея геніальнаго мужа, точно такъ же и у жены геніальнаго Глинки недоставало музыкальнаго развитія, чтобы постигать его художественныя настроенія. Однажды съ симфоническаго вечера у графа Віельгорскаго онъ возвратился въ такомъ нервно-возбужденномъ состояніи, что Марья Петровна серіозно переполошилась.
— Что съ тобою, Мишель? — спросила она. — Ты самъ не свой.
Привела же его въ такой экстазъ 7-я симфонія. Бетговена, безподобно исполненная четырьмя первыми скрипками. Но отъ избытка чувствъ онъ могъ произнести всего одно слово:
— Бетговенъ!
— Бетговенъ? — переспросила она съ такимъ видомъ, точно старалась припомнить фамилію, которую когда-то слышала. — Да что тебѣ этотъ господинъ сдѣлалъ? Мало ли какіе есть грубіяны! Не принимай такъ близко къ сердцу.
Бѣдняжка, оказалось, не имѣла даже общаго понятія о величайшемъ міровомъ композиторѣ! Могъ ли послѣ этого мужъ ея дѣлиться съ нею своими музыкальными восторгами и планами?
Но эта первая горечь въ меду семейной жизни и творчества смягчалась, по крайней мѣрѣ, искреннимъ сочувствіемъ знатоковъ дѣла. Великимъ постомъ 1836 года въ домѣ князя Юсупова состоялась оркестровая репетиція перваго дѣйствія новой оперы; а вслѣдъ затѣмъ у графа Віельгорскаго и вокальная репетиція, при чемъ отдѣльныя партіи пѣлись первыми артистами императорской оперы: басомъ Петровымъ, теноромъ Леоновымъ, контральтисткой Воробьевой и другими. Тѣ же артисты сходились потомъ для спѣвки съ аккомпанементомъ квартета и на квартиру къ Глинкѣ. Вполнѣ доволенъ, однако, былъ онъ одною лишь Воробьевой. Первая встрѣча ихъ состоялась въ домѣ оперной примадонны Степановой. Сама Воробьева впослѣдствіи часто вспоминала объ этой встрѣчѣ.

— Ѣду къ Степановой, — разсказывала, она, — жду чего-то необыкновеннаго, думаю встрѣтить что-то гордое, величественное; воображеніе-то у меня очень разыгралось. Вхожу — и вижу господина очень маленькаго, худенькаго, черненькаго; лицо блѣдное; волосы темные, прямые; сѣрые, маленькіе глаза, — только въ нихъ мелькаютъ искорки. Я такъ и опѣшила: такая противоположность съ тѣмъ, что я ожидала, совсѣмъ меня озадачила, и я едва овладѣла собой, чтобы скрыть мое изумленіе. Послѣ обычныхъ представленій, Глинка сѣлъ за рояль и пропѣлъ романсъ Антониды: „Не о томъ скорблю, подруженьки“, и этимъ съ перваго раза совсѣмъ меня покорилъ… Владѣлъ онъ голосомъ чудесно, и я тутъ же подумала: „какимъ бы онъ могъ быть безподобнымъ учителемъ!“
Но вслѣдъ затѣмъ, вступивъ въ разговоръ съ прославленной контральтисткой, Глинка ее снова и еще болѣе озадачилъ:
— Я долженъ откровенно признаться вамъ, m-lle Воробьева, что знаю о вашемъ пѣніи только по наслышкѣ. Вы удивлены, возмущены, не такъ ли? Но наша русская опера пробавляется теперь одной итальянщиной, а я, надо сказать вамъ, итальянщины не жалую и потому съ пріѣзда моего ни разу не заглядывалъ въ оперу. Отъ всѣхъ, однако жъ, я слышу, что у васъ настоящее контральто и, вдобавокъ, бездна чувства. Такъ вотъ я принесъ вамъ контральтовую пѣсенку, но прошу объ одномъ: спойте ее мнѣ безъ всякаго чувства.
— Я охотно исполню ваше желаніе, Михаилъ Ивановичъ, — отвѣчала молодая пѣвица. — Но на сценѣ я привыкла отдавать себѣ всегда ясный отчетъ, почему я пою какую-либо вещь такъ, а не иначе. Не будете ли вы такъ добры объяснить мнѣ сперва, зачѣмъ мнѣ пѣть безъ чувства?
— А вотъ зачѣмъ, милая барышня: пѣсенку эту поетъ въ моей оперѣ мальчикъ-сирота, живущій у старика Сусанина; сидитъ онъ въ избѣ одинъ-одинешенекъ за какой-нибудь работой и напѣваетъ про себя пѣсенку. Словамъ пѣсенки онъ не придаетъ особеннаго значенія и болѣе занятъ своей работой. Понимаете?
— Понимаю.
— Такъ будьте любезны.
И она спѣла его пѣсенку „безъ всякаго чувства“.
— Такъ, Михаилъ Ивановичъ?
— Такъ, барышня моя.
— Вы, значитъ, довольны? Ну, а я сама недовольна; безъ чувства, по-моему, не можетъ быть настоящаго пѣнія.
И къ слѣдующей репетиціи она подготовилась по-своему, „съ чувствомъ“, и привела Глинку въ полное восхищеніе.
— Это рѣдкая пѣвица! — говорилъ онъ послѣ ея ухода. — Такіе голоса появляются на сценѣ вѣками. Надо ее беречь, какъ драгоцѣнность! А она вотъ, въ дождь, въ слякоть, должна плестись домой на открытыхъ извозчичьихъ дрожкахъ; ну, долго ли ей простудить свое соловьиное горлышко! Хороша ваша дирекція, нечего сказать! Такой пѣвицѣ надо бы назначить не грошовое жалованье, а министерское, чтобы она имѣла полный комфортъ. О, варвары, душегубцы!
Пришла опять весна; петербуржцы стали разъѣзжаться по дачамъ. Переселилась на дачу въ Петергофъ и Марья Петровна съ мамашей. Но самому Глинкѣ нельзя было тронуться изъ города: надо было ему еще добиться постановки своей оперы на императорскую сцену и, вмѣстѣ съ тѣмъ, окончательно ее обработать, примѣняясь къ сценѣ. Такимъ образомъ, медовая полоса творчества у него пока еще не совсѣмъ прекратилась.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. „Жизнь за царя.“ (1836.)
Слухи о замѣчательной новой оперѣ цѣлую зиму уже ходили въ столичномъ обществѣ; но къ слухамъ этимъ, какъ часто бываетъ, примѣшивалось немало и разныхъ сплетенъ, неблагопріятныхъ для композитора. Директоръ императорскихъ театровъ, Александръ Михайловичъ Гедеоновъ, тѣмъ охотнѣе придавалъ вѣру этимъ сплетнямъ, что самъ былъ завзятымъ итальяноманомъ. Когда Жуковскій и графъ Віельгорскій, пользовавшіеся большимъ вліяніемъ въ придворныхъ сферахъ, стали хлопотать о постановкѣ оперы Глинки на императорской сценѣ, Гедеоновъ уклонился отъ прямого отвѣта, чтобы не портить добрыхъ отношеній съ протекторами Глинки; но не замедлилъ передать партитуру новой оперы на просмотръ капельмейстеру русской оперы Кавосу, вполнѣ увѣренный, что тотъ ее забракуетъ и, такимъ образомъ, возьметъ на себя и всю отвѣтственность.
Каково же было изумленіе Гедеонова, когда Кавосъ доложилъ ему, что опера молодого композитора необыкновенно хороша и заслуживаетъ самой тщательной постановки.
— Да у насъ и денегъ на это нѣтъ! — возопилъ Гедеоновъ. — На Рождествѣ еще постановка мейерберовскаго „Роберта“ обошлась намъ въ 60 тысячъ; но зато вѣдь то и Мейерберъ!
— Такъ позвольте увѣрить васъ, г-нъ директоръ, — возразилъ Кавосъ, — что по музыкальности и талантливости опера Глинки ничуть не уступаетъ оперѣ Мейербера; а кромѣ того, за успѣхъ ея ручается и сюжетъ; сюжетъ чисто-русскій, національный.
Гедеоновъ развелъ руками.
— Я васъ рѣшительно не понимаю, мосье Кавосъ! Какъ вы можете еще отстаивать композитора, который укралъ у васъ сюжетъ?
— Сюжетъ — историческій и составлялъ общее достояніе; но, какъ коренной русскій, мосье Глинка разработалъ его гораздо лучше меня, иностранца.
— Вы это говорите совершенно серіозно? Вы сами находите, что его опера лучше вашей?
— Да что же дѣлать, если это такъ?
— Но повторяю вамъ, что въ кассѣ у насъ денегъ нѣтъ…
— До осени найдутся. Да и вскорѣ опера окупится полными сборами.
— А что станется съ вашимъ собственнымъ „Сусанинымъ“?
— Онъ и то уже не давался нѣсколько сезоновъ; а теперь его придется сдать окончательно въ архивъ. Опера Глинки, увидите, займетъ первое мѣсто въ нашемъ репертуарѣ.
Гедеонову все еще не совсѣмъ вѣрилось; но долѣе упорствовать было трудно.
— Такъ, по-вашему, мосье Кавосъ, ее придется все-таки поставить?
— Непремѣнно, во что бы то ни стало. Не давъ ей ходу, мы выказали бы себя круглыми профанами.
Противъ. послѣдняго довода не приходилось уже болѣе возражать.
Съ переѣздомъ жены и тещи на дачу, Глинка пріютился на лѣтнее время, у Кукольника. Тотъ занималъ общую квартиру съ извѣстнымъ докторомъ Пеликаномъ (впослѣдствіи директоромъ медицинскаго департамента); но на лѣто Пеликанъ укатилъ за границу, и Кукольникъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи цѣлый бель-этажъ. На другое же утро послѣ вышеприведеннаго разговора Гедеонова съ Кавосомъ, Кукольникъ съ Глинкою сидѣли за завтракомъ, когда въ передней раздался звонокъ. Оказалось, что Глинку желалъ видѣть Неваховичъ, секретарь директора театровъ.
— Ура! — гаркнулъ Кукольникъ и выбѣжалъ къ гостю въ переднюю. — Опера, значитъ, принята?
— Принята, — отвѣчалъ Неваховичъ.
— Милости просимъ, въ такомъ случаѣ, безъ церемоній. Бутылку вдовы Клико! — приказалъ Кукольникъ слугѣ.
Когда шампанское запѣнилось въ бокалахъ, первый тостъ онъ предложилъ за Кавоса.
— Да, Михаилъ Ивановичъ, — сказалъ Неваховичъ, — если вы кому обязаны въ томъ, что увидите свою оперу на сценѣ, такъ именно нашему милѣйшему Катерино Альбертовичу.
— Онъ, стало-быть, вовсе не интриговалъ противъ меня?
— О, нѣтъ! Онъ просто распинался за васъ; для него нѣтъ вѣдь ничего выше своего искусства.
— Вотъ видишь ли, Мишель, что я тебѣ говорилъ? — замѣтилъ Кукольникъ. — И какой же гонораръ онъ выторговалъ для Михаила Ивановича у вашего патрона?
— Вотъ это единственный щекотливый пунктъ, — замялся директорскій секретарь. — Надо вамъ знать, господа, что постановка „Роберта“ крайне истощила театральную кассу…
— Но мою оперу все-таки обставятъ, надѣюсь, прилично? — спросилъ Глинка.
— На это-то, кажется, средствъ еще хватитъ.
— Больше мнѣ ничего и не нужно!
— Какъ больше ничего не нужно? — вскинулся Кукольникъ. — Изъ-за чего же ты работалъ? ради прекрасныхъ глазъ г-на директора театровъ?
— Простите, Несторъ Васильевичъ, — формальнымъ уже тономъ прервалъ его посланецъ директора. — Я имѣю теперь дѣло не съ вами, а съ Михаиломъ Ивановичемъ, и уполномоченъ войти въ соглашеніе съ нимъ подъ однимъ лишь условіемъ: чтобы онъ отказался отъ всякаго вознагражденія.
— За сколько представленій?
— Вообще.
— Т.-е. навсегда?
— Да, навсегда.
— Но это разбой, денной грабежъ!
— Я не смѣю этого слышать, — еще сдержаннѣе проговорилъ Неваховичъ и обратился уже прямо къ Глинкѣ: — я присланъ моимъ начальствомъ лично къ вамъ, Михаилъ Ивановичъ. У меня съ собой и письменное условіе.
Съ этими словами онъ досталъ изъ своего портфеля бумагу.
— Это, значитъ, надо сейчасъ подписать? — спросилъ Глинка.
— Да, благоволите.
— Такъ я попрошу васъ въ кабинетъ.
Оба направились въ кабинетъ.
— Ты, братъ, этого не подпишешь! — вмѣшался опять Кукольникъ, не отстававшій отъ нихъ ни на шагъ.
Точно не слыша протеста, Неваховичъ развернулъ на письменномъ столѣ бумагу, обмакнулъ перо въ чернила и протянулъ его Глинкѣ:
— Пожалуйте.
Кукольникъ хотѣлъ помѣшать пріятелю принять перо, но тотъ отстранилъ его рукою.
— Ну, полно, Несторъ! Я не торгую своимъ вдохновеніемъ…
— И дуракъ! Ты не сердись, дружище. Ты, безспорно, великій талантъ, но въ житейскихъ дѣлахъ младенецъ и великій дуракъ!
— Какъ и слѣдуетъ быть безспорному таланту, — отозвался Глинка и разчеркнулся подъ условіемъ. — Не о хлѣбѣ единомъ живъ человѣкъ. То, что̀ звучало во мнѣ дни и ночи, услышитъ весь Петербургъ, а тамъ, можетъ-быть, и вся Россія; такъ мнѣ ли, скажи, торговаться изъ-за какихъ-то грошей? Вотъ и въ эту самую минуту мнѣ не даетъ покою тема, слышанная отъ лужскаго извозчика.
— Да вѣдь она у тебя уже разработана?
— Да, я вставилъ ее въ сцену передъ приходомъ жениха: „Что̀ гадать о свадьбѣ“… Но Віельгорскій посовѣтовалъ мнѣ напомнить объ ней еще разъ въ сценѣ Сусанина съ поляками въ лѣсу. Нынче ночью во снѣ мнѣ это, кажется, удалось. Вотъ послушай-ка.
И, пройдя въ гостиную, Глинка усѣлся за рояль и запѣлъ:
А теперь примѣчай-ка, какова прогрессія темы?
Вновь развитую имъ за ночь „прогрессію“ онъ передалъ такъ мастерски и увлекательно, что Кукольникъ, знавшій также толкъ въ музыкѣ, былъ растроганъ и замахалъ Неваховичу рукой:
— Чего же вы ждете? Чтобы онъ уступилъ вамъ даромъ и всѣ свои будущія творенія? Ступайте, ступайте.
Вначалѣ Глинка намѣревался назвать свою оперу, по примѣру Кавоса, „Иванъ Сусанинъ“; потомъ, для отличія, придумалъ названіе „Смерть за царя“. Но, по докладѣ о томъ Гедеоновымъ императору Николаю Павловичу, опера, по желанію государя, была окончательно переименована въ „Жизнь за царя“.
Большой театръ, на которомъ должна была итти опера Глинки, въ 1836 г. капитально перестраивался и могъ быть открытъ не ранѣе ноября мѣсяца. Поэтому уже съ конца лѣта, когда только начали съѣзжаться въ Петербургъ оперные пѣвцы, Глинка собиралъ ихъ для спѣвки у себя на дому или, точнѣе сказать, на квартирѣ Кукольника. Кромѣ оперныхъ пѣвцовъ, на этихъ спѣвкахъ присутствовали обыкновенно и общіе пріятели Кукольника и Глинки: Ѳеофилъ Толстой, врачъ театральной дирекціи Гейденрейхъ и художникъ Брюлловъ, съ которымъ Глинка сошелся еще въ Неаполѣ. Каждая спѣвка заканчивалась обильнымъ ужиномъ съ пуншемъ. Въ одну-то изъ такихъ спѣвокъ Глинка, подъ веселый говоръ и звонъ стакановъ, сочинилъ извѣстное тріо съ хоромъ; „Ахъ, не мнѣ бѣдному, вѣтру буйному“.
„Невозможно изобразить словами, — говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ Ѳ. Толстой, — какое громадное, подавляющее, такъ сказать, впечатлѣніе произвела на присутствующихъ эта задушевная музыка, эти родные, какъ бы знакомые, присущіе всѣмъ и каждому изъ насъ звуки, но облеченные, изукрашенные всѣми прелестями гармоніи и контрапункта. Въ буквальномъ смыслѣ слова, мы плакали, какъ дѣти, и поздравляли другъ друга съ зачатіемъ новой зари для отечественнаго искусства“.
Съ возвращеніемъ жены и тещи въ сентябрѣ мѣсяцѣ съ дачи, Глинка поселился опять вмѣстѣ съ ними, и спѣвки продолжались уже на его собственной квартирѣ. Только разучиваніе хоровъ и вывѣрка оркестра происходили въ театрѣ подъ стукъ молотковъ сотни обойщиковъ, обивавшихъ бархатомъ ложи и прибивавшихъ канделябры. При этомъ Глинка лично убѣдился, какъ старикъ Кавосъ въ потѣ лица выбивался изъ силъ, чтобы обезпечить успѣхъ оперѣ своего молодого соперника. Сами музыканты, впрочемъ, послѣ набившей имъ оскомину „итальянщины“, играли съ рѣдкимъ одушевленіемъ. Исполнивъ разъ пиччикато на струнныхъ инструментахъ (въ польскомъ и въ хорѣ C-dur), передающее игру на балалайкахъ, они пришли въ такой восторгъ, что всѣмъ оркестромъ захлопали въ ладоши. Глинка былъ тронутъ этимъ болѣе, чѣмъ одобреніемъ всѣхъ своихъ великосвѣтскихъ знакомыхъ.
Весь интересъ жизни Глинки сосредоточивался теперь на его оперѣ. На репетиціяхъ онъ съ особеннымъ вниманіемъ слѣдилъ за фразировкой, за каждой нотой, и замѣчанія его безъ всякихъ возраженій принимались артистами. По словамъ Воробьевой, „онъ чрезвычайно ясно и кратко объяснялъ, чего онъ желаетъ отъ исполнителей; говорить онъ былъ большой мастеръ и въ двухъ-трехъ словахъ выразитъ, что онъ хочетъ, а артисты, какъ народъ бывалый на сценѣ, ловили налету его замѣчанія“.
Передъ одной изъ послѣднихъ репетицій теноръ Леоновъ захворалъ, но записку о томъ прислалъ въ театръ только къ началу репетиціи, когда всѣ прочіе артисты были уже въ сборѣ.
— Ну, ничего, — сказалъ Глинка: — я самъ спою его партію.
Всѣ взоры съ любопытствомъ устремились на самонадѣяннаго маэстро. Но самому ему стало какъ-будто не совсѣмъ уже по себѣ: онъ забѣгалъ по сценѣ, ежился, потиралъ руки.
— Михаилъ Ивановичъ! вашъ выходъ.
Откашлянулся нашъ Михаилъ Ивановичъ, откинулъ рукой со лба хохолокъ и быстрыми шагами, какъ ни въ чемъ не бывало, двинулся къ рампѣ. Первая фраза Сабинина: „Радость безмѣрная…“ была извѣстна всѣмъ и каждому. Новый Сабининъ такъ и началъ:
— „Ра…“
Но этимъ первымъ, слогомъ онъ точно поперхнулся: изъ устъ его не вылетѣло болѣе ни одного звука. Было это такъ неожиданно, что даже музыканты въ оркестрѣ перестали играть; у артистовъ же, успѣвшихъ уже полюбить молодого композитора, любопытство смѣнилось безпокойствомъ, и всѣ участливо обступили его.
— Что это съ вами, Михаилъ Ивановичъ?
— Не могу… — пробормоталъ онъ, весь поблѣднѣвъ. — Оробѣлъ.
— Полноте, Михаилъ Ивановичъ. Насъ-то вамъ чего робѣть: свои люди.
— Ей-ей, не могу, господа… Вотъ посмотрите: и руки похолодѣли, и сердце замерло… Никакъ не ожидалъ вѣдь, что такъ страшно пѣть на подмосткахъ!
Напрасно первый басъ Петровъ увѣрялъ, что и у него самого бѣгали мурашки по тѣлу при первомъ его дебютѣ въ Петербургѣ18: присутствіе духа покинуло уже Глинку.
Ничего не оставалось, какъ продолжать репетицію безъ Сабинина. Это былъ первый и послѣдній дебютъ Глинки на сценѣ.
Немало хлопотъ было ему также съ танцами для оперы. Ставилъ ихъ балетмейстеръ Титюсъ, безталанный, но очень самодовольный и упрямый, такъ какъ ему покровительствовалъ самъ Гедеоновъ. Озабочивали Глинку и декораціи; но тутъ нашелъ онъ большую поддержку въ Жуковскомъ: Старикъ-поэтъ, обладавшій тонкимъ изящнымъ вкусомъ, нарочно ѣздилъ съ нимъ въ мастерскую машиниста и декоратора Роллера и давалъ тому подробныя указанія, какъ поставить эффектнѣе ту или другую сцену. Особенныя старанія приложили они къ эпилогу въ Кремлѣ, гдѣ картонныя фигуры на заднемъ планѣ до полной иллюзіи дополняли народную толпу, ликующую на авансценѣ.
Наконецъ, ремонтъ Большого театра былъ оконченъ. Открытіе его должно было состояться въ пятницу, 27-го ноября 1836 г., и для перваго представленія была объявлена опера Глинки. Съ какимъ нетерпѣніемъ вѣдь, бывало, самъ онъ ожидалъ этого знаменательнаго для него дня! Казалось, онъ никогда его не дождется. А теперь, когда не оставалось въ томъ уже никакихъ сомнѣній, онъ вдругъ упалъ духомъ, какъ бы въ предчувствіи неудачи. Ко дню генеральной пробы въ Большомъ театрѣ съ декораціями, въ костюмахъ, при полномъ освѣщеніи, ему стало такъ дурно, что онъ вынужденъ былъ остаться дома. Ободрила его немного присланная ему послѣ пробы княземъ Одоевскимъ записка о томъ, что театръ былъ полонъ и что опера всѣмъ понравилась.
Такъ наступилъ и вечеръ 27-го ноября. Проводивъ жену и тещу до своей ложи во второмъ ярусѣ, Глинка спустился за кулисы, чтобы убѣдиться, все ли тамъ въ порядкѣ. Порядокъ ничѣмъ не былъ нарушенъ; но у всѣхъ артистовъ былъ какой-то неувѣренный, оторопѣлый видъ, а Воробьева прямо-таки ему созналась, что она труситъ, какъ дѣвочка.
— Ну, да это ничего, Михаилъ Ивановичъ, это у меня всегда въ новой роли, — поспѣшила она успокоить Глинку, который отъ первыхъ словъ ея измѣнился въ лицѣ. — Не мы, такъ сама опера васъ вывезетъ. Глядите веселѣе!
Легко сказать! Скрѣпя сердце, онъ поплелся назадъ въ свою ложу. Сидѣвшая, вмѣстѣ съ матерью, у барьера ложи Марья Петровна, совсѣмъ, казалось, не тревожилась за участь мужниной оперы: она разглядывала въ бинокль новую блестящую отдѣлку театра и любезно улыбалась и кивала головой многочисленнымъ знакомымъ въ другихъ ложахъ.
Царская фамилія должна была присутствовать при открытіи театра, а потому до ея прибытія спектакль не начинался. Напряженіе нервовъ у Глинки достигло крайней степени. Усѣвшись позади своихъ дамъ, онъ поминутно срывался съ мѣста, опять садился, вертѣлся на своемъ стулѣ и снова вскакивалъ.
— Что это, право, за мученье съ вами, Мишель! — замѣтила ему теща. — Какой вы непосѣда!
Она точно не понимала, отчего онъ такъ волнуется; а онъ уже задыхался, то и дѣло хватался за сердце, которое у него то учащенно билось, то совершенно переставало биться.
Весь театръ давно уже наполнился сверкающими мундирами и звѣздами придворныхъ чиновъ и роскошными туалетами ихъ женъ и дочерей; царской фамиліи все еще не было.
„А вдругъ что-нибудь задержало государя, — мелькнуло въ головѣ Глинки, — и спектакль такъ и не состоится?“
На лбу у него выступилъ холодный потъ.
Но нѣтъ. Кавосъ въ оркестрѣ махнулъ своей волшебной палочкой, и грянулъ народный гимнъ. Всѣ зрители въ ложахъ и партерѣ, какъ одинъ человѣкъ, разомъ привстали съ поклономъ въ сторону боковой императорской ложи. Глинка глубоко перевелъ духъ, точно у него камень съ груди скатился.
„Слава Тебѣ, Господи!“
Однажды, на одной изъ репетицій, ему случилось уже говорить съ императоромъ Николаемъ Павловичемъ, желавшимъ еще до спектакля лично убѣдиться въ достоинствѣ оперы. Тогда государь обошелся съ нимъ очень милостиво, спросилъ его: „доволенъ ли онъ артистами?“ и, на утвердительный отвѣтъ Глинки, передалъ тутъ же его слова самимъ артистамъ.
Изъ глубины своей ложи Глинка не могъ теперь хорошенько разглядѣть всѣхъ, сидѣвшихъ въ царской ложѣ; но классическій профиль Николая I былъ ему отчетливо виденъ. Сегодня черты государя показались ему гораздо строже.
„Вотъ кто мой судья и отъ кого зависитъ мой приговоръ…“
Гимнъ смолкнулъ, и театральная зала огласилась увертюрой.
„Ужели это моя опера? Теперь хода ея ничѣмъ уже не остановишь: будь, что будетъ!“
Въ настоящее время на всемъ необъятномъ пространствѣ Россіи врядъ ли найдется хоть одинъ человѣкъ съ развитымъ музыкальнымъ слухомъ, кому не нравилась бы эта поистинѣ классическая увертюра. Въ 1836 году даже всѣ „знатоки“-театралы увлекались легкой, фіоритурной музыкой итальянской школы, и болѣе глубокая, болѣе серіозная и притомъ русская музыка Глинки съ непривычки казалась имъ слишкомъ тяжеловѣсной, не въ мѣру простонародной. Вслѣдствіе этого его чудная увертюра была награждена только жидкими хлопками нѣсколькихъ его друзей.
Когда взвился занавѣсъ, взоры всѣхъ зрителей критически обратились на сцену. Обстановка перваго дѣйствія не поражала чѣмъ-либо невиданнымъ; но отъ безподобнаго хора съ балалайками-пиччикато и тріо „Не томи, родимый“, ледяная кора безмолвія, оковывавшая до тѣхъ поръ зрительную залу, растаяла; изъ партера, а затѣмъ и изъ ложъ раздались дружныя, продолжительныя рукоплесканія.
„Какъ-то примутъ второе дѣйствіе — балъ у поляковъ? И польскій и мазурка и краковякъ, кажется, очень удались… Но, Боже милостивый! что бы это значило? Гробовое молчаніе. Вотъ и конецъ танцамъ, и даже друзья палецъ о палецъ не ударятъ“…
Едва опустился занавѣсъ, Глинка, самъ не свой, выбѣжалъ изъ ложи, при чемъ съ такой силой хлопнулъ дверью, что жена и теща обѣ вздрогнули и оглянулись.
— Куда это онъ, маменька? Вѣрно, опять за кулисы! Какъ бы онъ тамъ не начудесилъ…
— Такого сумасброднаго мужчины, ma chère, на все станетъ.
Но опасенія ихъ на этотъ разъ были напрасны. Самъ не зная какъ, Глинка, дѣйствительно, очутился за кулисами, но здѣсь столкнулся лицомъ къ лицу съ сыномъ капельмейстера Кавоса.
— А, Иванъ Катериновичъ! Вы лучше всякаго другого знаете мнѣніе вашего отца. Скажите откровенно, каковы мои танцы: хороши они или нѣтъ?
— Ваши танцы? — переспросилъ молодой Кавосъ. — Танцы, простите, не ваши, а мосье Титюса, бездарнѣйшаго изъ балетмейстеровъ, и надо отдать ему справедливость, поставилъ онъ ихъ отвратительно! Музыка же ваша къ танцамъ прелестна…
— Вы хотите позолотить мнѣ горькую пилюлю!
— Нисколько. Наша публика (Богъ ей судья!) въ балетѣ не слушаетъ уже музыки, а во всѣ глаза глядитъ на танцующихъ; когда же танцы ниже всякой критики, то какъ же, скажите, апплодировать? Вдобавокъ, на сценѣ въ этомъ дѣйствіи одни поляки; а русскіе такъ недолюбливаютъ поляковъ, что относятся враждебно даже къ русскимъ актерамъ, изображающимъ поляковъ.
— Хотѣлъ бы вамъ вѣрить, Иванъ Катериновичъ…
— Смѣло вѣрьте. Вотъ погодите, въ третьемъ дѣйствіи должна выступить любимица публики, Воробьева: она своимъ пѣніемъ сразу всѣхъ очаруетъ.
Предсказаніе молодого Кавоса оправдалось. Начиная съ пѣсенки сироты Вани, заслужившей единодушное одобреніе отъ партера до верховъ, зрители, какъ завороженные, вызывали артистовъ и за дуэтъ и за квартетъ и за всю сцену съ поляками. Въ четвертомъ дѣйствіи Петровъ-Сусанинъ превзошелъ, можно сказать, самого себя. Имъ привыкли уже восхищаться въ роли Бертрама въ „Робертѣ“; въ роли же русскаго крестьянина-патріота, онъ, вышедшій самъ изъ народной среды, былъ еще лучше, и арія его „Ты взойдешь, моя заря“ плѣнила, казалось, даже враговъ Глинки. Нѣсколько опять охладилъ это впечатлѣніе слишкомъ реальный конецъ дѣйствія, гдѣ заведенные Сусанинымъ въ лѣсную глушь поляки убивали его на сценѣ (чего, какъ будетъ объяснено ниже, не повторялось уже на слѣдующихъ представленіяхъ). Зато въ эпилогѣ трогательная арія Воробьевой: „Ахъ, не мнѣ, бѣдному“, и торжественный финалъ „Славься“ съ колокольнымъ перезвономъ окончательно покорили слушателей. Стѣны театра, казалось, дрожали отъ восторженныхъ криковъ:
— Композитора! Глинку!
— Ну, что же, Мишель, покажитесь имъ! — сказала теща, отодвигаясь съ своимъ стуломъ въ сторону, чтобы пропустить его впередъ.
Смущенный и счастливый, Глинка подошелъ къ барьеру ложи. Весь партеръ внизу, обернувшись къ нему лицомъ и поднявъ на воздухъ руки, неистово билъ въ ладоши, а снизу и изъ ложъ кругомъ и съ верховъ несся одинъ общій, несмолкающій не крикъ уже, а ревъ:
— Браво! браво! браво!
Растроганный композиторъ отвѣшивалъ на всѣ стороны несчетные поклоны.
Тутъ тронулъ его кто-то сзади за плечо.
— Мосье Глинка! его величество требуетъ васъ къ себѣ.
Оглянувшись, онъ увидѣлъ передъ собой блестящаго флигель-адъютанта въ аксельбантахъ.
— Государь?
— Да; пожалуйте сейчасъ за мной.
На ногахъ у него точно крылья выросли. Не успѣлъ онъ притти въ себя, какъ былъ уже въ царской ложѣ передъ самимъ государемъ.

Пишущему настоящія строки вспоминается по этому поводу одинъ моментъ изъ его собственнаго ранняго дѣтства. Было то въ концѣ сороковыхъ годовъ прошлаго вѣка на музыкѣ въ Павловскѣ. Императорская фамилія бо̀льшую часть лѣта проводила въ Царскомъ Селѣ и иногда пріѣзжала оттуда послушать музыку Гунгля въ саду павловскаго вокзала. Въ памятный мнѣ вечеръ оркестръ игралъ какъ разъ увертюру „Жизни за царя“, когда въ окружающей публикѣ пронесся шопотъ:
— Государь! государь!
Толпившіеся около оркестра разступились, и царская коляска шагомъ подъѣхала къ самой эстрадѣ. За увертюрой слѣдовала какая-то другая пьеса, — какая — рѣшительно не помню, да едва ли и кто изъ остальной публики потомъ помнилъ: никому не было уже до музыки. Всѣ эти тысячи людей стояли кругомъ въ почтительномъ молчаніи, мужчины — съ обнаженными головами, и не сводили глазъ съ государя. Его величественная осанка, классически-правильныя и необычайно-выразительныя въ своей благородной строгости черты лица приковывали общее вниманіе. Мною, мальчуганомъ, овладѣло никогда еще неиспытанное чувство благоговѣйнаго страха; я не смѣлъ шевельнуться, дохнуть. И вдругъ… вдругъ, точно отъ электрическаго тока, я весь затрепеталъ: государь обвелъ вокругъ себя огненнымъ взоромъ, и взоръ этотъ, скользнувъ также по мнѣ, словно ожегъ меня. Когда кончилась пьеса, царскій экипажъ медленно двинулся далѣе и скрылся за цвѣточными клумбами, которыми тогда была еще обсажена площадка передъ эстрадой. Но весь вечеръ потомъ я находился подъ вліяніемъ того жгучаго взгляда и не могъ одолѣть наполнявшаго меня жуткаго чувства.
Глинкѣ въ 1836 г. была уже 32 года; представлялся онъ императору Николаю Павловичу не въ первый разъ. Тѣмъ не менѣе, когда онъ предсталъ теперь передъ государемъ, то испыталъ, видно, подобный же внутренній трепетъ; въ отвѣтъ на милостивое царское спасибо у него не нашлось даже словъ.
— Одно вотъ только нехорошо у тебя, — продолжалъ государь: — зачѣмъ Сусанина убиваютъ на глазахъ у зрителей? Актеры, что̀ изображали поляковъ, накинулись на бѣднаго Петрова съ такою яростью, что онъ долженъ былъ отбиваться отъ нихъ, какъ отъ настоящихъ разбойниковъ; даже рубашку на немъ изорвали! Нехорошо, безобразно!
— И самому мнѣ, ваше величество, было крайне досадно, — отвѣчалъ Глинка, собравшійся, между тѣмъ, съ духомъ. — По моей программѣ, въ тотъ самый мигъ, когда поляки нападаютъ на Сусанина, занавѣсъ долженъ опуститься…
— Однако жъ, не опустился! Развѣ не было у васъ генеральной пробы?
— Была-съ; но я-то, ваше величество, по нездоровью не могъ быть на этой пробѣ, и потому не подозрѣвалъ, что такъ распорядятся безъ меня. Совершенно достаточно, что про смерть Сусанина говорится въ эпилогѣ.
— Ну, вотъ. Такъ, значитъ, на слѣдующихъ представленіяхъ Петровъ можетъ быть спокоенъ за свою рубашку? — съ улыбкой замѣтилъ государь. — А теперь подойди-ка ближе: государыня желаетъ также поговорить съ тобой.
Отвѣтивъ на нѣсколько ласковыхъ вопросовъ императрицы Александры Ѳеодоровны, а затѣмъ и бывшихъ въ ложѣ вмѣстѣ съ родителями царскихъ дѣтей, Глинка возвратился къ женѣ и тещѣ въ самомъ радужномъ настроеніи. Настроеніе это сообщилось и имъ, когда нѣсколько времени спустя изъ Кабинета Его Величества былъ присланъ вещественный знакъ царской милости — великолѣпный брилліантовый перстень, стоимостью въ 4 тысячи рублей ассигнаціями, и Мишель, не прекословя, уступилъ брилліанты Мари; а вслѣдъ затѣмъ (1 января 1837 г.) Мишель, по Высочайшему повелѣнію, былъ назначенъ капельмейстеромъ придворной пѣвческой капеллы, на мѣсто скончавшагося Львова (композитора народнаго гимна).
Тѣмъ временемъ и Кукольникъ, съ своей стороны, озаботился доставить своему непрактическому другу нѣкоторую денежную выгоду отъ его оперы, продавъ ее его именемъ въ собственность владѣльцу нотнаго магазина Снѣгиреву.
Для слѣдующихъ спектаклей Глинка передѣлалъ, конечно, четвертое дѣйствіе оперы такъ, что убійство Сусанина происходитъ за сценой; кромѣ того, руководствуясь совѣтами Кавоса, опытнаго по части постановки оперъ, онъ сдѣлалъ въ нѣкоторыхъ сценахъ, для ускоренія дѣйствія, и кое-какія сокращенія. Въ такомъ видѣ опера производила еще бо̀льшее впечатлѣніе, и успѣхъ ея росъ съ каждымъ представленіемъ: всему Петербургу хотѣлось послушать эту чисто-русскую музыку, столь непохожую на излюбленную тогдашними меломанами „итальянщину“.
Впрочемъ, наиболѣе ярые итальяноманы не думали еще сдаваться и отрицали всякія достоинства оперы русскаго композитора. Въ антрактахъ, собравшись кучкой въ партерѣ, они во всеуслышаніе глумились надъ новой „musique de cocher“ (кучерской музыкой), а геніальную музыкальную драму называли „чѣмъ тебя я огорчила съ барабанами“. Съ ихъ же голоса напечаталъ въ своей „Сѣверной Пчелѣ“ двѣ бранныя статьи противъ Глинки Булгаринъ. Кукольникъ, пріятель Булгарина, оправдывалъ его тѣмъ, что въ музыкѣ онъ полный невѣжда; самъ Глинка раздѣлялъ презрѣніе всѣхъ истинныхъ любителей изящной словесности къ Булгарину за его слѣпую вражду къ Пушкину; тѣмъ не менѣе, самолюбіе нашего „Мимозы“ не могло не страдать отъ этихъ грубыхъ, незаслуженныхъ уколовъ. Но онъ вскорѣ утѣшился восторженными отзывами многочисленныхъ любителей его музыки, къ числу которыхъ принадлежали и поэты кружка Жуковскаго и Пушкина. Они указывали ему на недавній (въ апрѣлѣ 1836 г.) примѣръ гоголевскаго „Ревизора“, встрѣченнаго враждебно за его самородное, „русское“ направленіе; а князь Одоевскій, проводя параллель между поверхностною музыкою Беллини и глубокою Глинки, говорилъ, что публика наша, „обеллинившись“, теперь, понятно, „взбеленилась“. На обѣдѣ же, данномъ А. В. Всеволожскимъ въ честь Глинки (13 декабря 1836 г.), Пушкинъ, князь Вяземскій, Жуковскій и графъ Віельгорскій сочинили сообща слѣдующій шутливый „canon à l’unisson“ (канонъ въ одинъ голосъ):
Кн. Вяземскій: „За прекрасную новинку Славить будетъ гласъ молвы Нашего Орфея-Глинку — Отъ Неглинной, отъ Неглинной — до Невы!“
Жуковскій: „Въ честь столь славныя новинки Грянь, труба и барабанъ! Выпьемъ за здоровье Глинки — Мы глинтвейну, глинтвейну — стаканъ!“
Гр. Віельгорскій: „Слушая сію новинку, Зависть, злобой омрачась, Пусть скрежещетъ, но ужъ Глинку Затоптать, топтать, топтать не можетъ въ грязь!“
Пушкинъ: „Пой въ восторгѣ русскій хоръ, Вышла новая новинка. Веселися, Русь! нашъ Глинка — Ужъ не глинка, ужъ не глинка, а фарфоръ!“
Здѣсь же, на обѣдѣ, эта шутка была положена на музыку княземъ, Одоевскимъ и самимъ Глинкой, а два дня спустя была уже напечатана съ нотами.
„Жизнь за царя“, между тѣмъ, сдѣлалась дѣйствительно любимою новинкой петербуржцевъ, такъ что сама дирекція императорскихъ театровъ не задумалась новый оперный сезонъ (осенью 1837 г.) открыть опять оперою Глинки.

На 18-е октября былъ назначенъ бенефисъ перваго баса, Петрова; но онъ еще не рѣшился, что̀ поставить въ свой бенефисъ. Тутъ вышедшая лѣтомъ за него замужъ контральтистка Воробьева подала ему мысль:
— А что, если бъ попросить Михаила Ивановича прибавить новую сцену для Вани?
— И о такомъ добавленіи впередъ объявить въ афишахъ? — подхватилъ обрадованный мужъ.
— Разумѣется, да жирнымъ шрифтомъ. А я спѣла бы для твоего бенефиса такъ, какъ никогда!
— Умница ты моя! Но надо еще придумать подходящую сцену…
— Я уже придумала: въ третьемъ дѣйствіи Сусанинъ, т.-е. ты, посылаешь меня, Ваню, на барскій дворъ.
— Ну?
— Такъ вотъ, я и прибѣгу къ барскому двору и стану стучаться въ ворота: „Отоприте! отопри-те!“
— А что вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, для Михаила Ивановича ничего не значитъ сочинить такую арію. Вотъ только, какъ насчетъ текста…
— А текстъ напишетъ Кукольникъ; вѣдь ты же съ нимъ на „ты“. Поѣзжай-ка, право, сейчасъ же къ нему, спроси, можно ли вообще сдѣлать что-нибудь изъ такой сцены.
Кукольника Петровъ засталъ, по счастью, дома. Выслушалъ его тотъ, глубокомысленно поникнувъ головой, и не проронилъ ни слова.
— Ну, что же, Несторъ Васильевичъ? — спросилъ бенефиціантъ, обезпокоенный его упорнымъ молчаніемъ. — Что̀ скажешь?
— Что̀ скажу? Гмъ… Сцена-то сама по себѣ довольно драматична; но…
— Но тебѣ каждый часъ дорогъ? Да вѣдь это для моего бенефиса! Ты понимаешь, что для нашего брата, артиста, значитъ этакій бенефисъ.
— Какъ не понять, душа моя…
— Такъ неужто жъ у тебя не найдется для пріятеля часика времени? Вѣдь ты среди нашихъ драматурговъ, можно сказать, король…
— Вотъ что, Осипъ Аѳанасьевичъ, — произнесъ польщенный „король драматурговъ“, благосклонно кладя руку на плечо артиста. — Приходи-ка опять вечеркомъ: будетъ у меня и Миша; вмѣстѣ и обсудимъ.
Петровъ едва могъ дождаться вечера. Въ 8-мъ часу онъ былъ уже у Кукольника. Глинка сидѣлъ за роялемъ и „фантазировалъ“; самъ Кукольникъ съ развѣвающимися фалдами бухарскаго халата широко шагалъ изъ угла въ уголъ и, въ тактъ махая рукой, какъ капельмейстерскимъ жезломъ, бормоталъ себѣ что-то подъ носъ. При входѣ Петрова онъ приподнялъ на воздухъ указательный перстъ и внушительно повелъ глазами въ сторону Глинки:
— Т-с-с-с!
— Неужели это уже новая арія для Вани? — догадался Петровъ.
Кукольникъ важно кивнулъ головой.
— А текстъ, Несторъ Васильевичъ?
— Текстъ нарождается подъ музыку, какъ цвѣты въ золотыхъ лучахъ солнца.
Хотя разговоръ этотъ велся вполголоса, однако, не ускользнулъ отъ чуткаго слуха Глинки.
— Здравствуй, Осипъ Аѳанасьевичъ. Какъ видишь, работаемъ для тебя во всю.
— Спасибо, родимые! Но я помѣшалъ вамъ… Не лучше ли мнѣ уйти?
— Пожалуй, что и лучше, — откровенно отвѣчалъ Глинка. — Фантазія у меня только-что разыгралась…
— Такъ я уйду. Дай Богъ вамъ обоимъ!
И пѣвецъ поспѣшилъ убраться во-свояси. На другое утро, часовъ въ девять, едва онъ вышелъ изъ спальни въ гостиную, какъ засталъ уже тамъ ранняго гостя — Глинку. По веселому его виду и по свертку въ его рукахъ, Петровъ сразу догадался, зачѣмъ тотъ пожаловалъ.
— Уже готово, Михаилъ Ивановичъ?
— Въ наилучшемъ видѣ. А что милая женочка твоя — почивать еще изволитъ?
— Проснуться-то она проснулась, но нѣжится въ постели.
— Ай-ай!
Подойдя къ спальнѣ, Глинка постучалъ въ дверь пальцемъ.
— Стыдно вамъ, барынька, валяться! Я подарочекъ вамъ принесъ.
— Это вы, Михаилъ Ивановичъ? — донесся изъ спальни голосъ молодой пѣвицы. — Какой подарокъ? Неужто мою новую арію?
— Вотъ именно. Вставайте-ка поскорѣе.
— Сейчасъ, Михаилъ Ивановичъ, сію минуту.
Въ ожиданіи ея, Глинка сыгралъ ея мужу свое новое произведеніе на роялѣ.
— Чудо что такое! — обратился Петровъ къ входящей женѣ. — Смотри-ка, Анюта, что онъ сочинилъ для тебя.
— Не одинъ, а вмѣстѣ съ Несторомъ, — поправилъ его Глинка. — Это у меня еще черновая, — продолжалъ онъ, перелистывая ноты. — Но, какъ видите, все на лицо: и речитативъ, и анданте, и аллегро.
Воробьева-Петрова не могла притти въ себя отъ изумленія.
— Да когда вы успѣли?
— Вчера у Нестора.
— Но вѣдь вчера же только объ этомъ и рѣчь зашла! Вы, Михаилъ Ивановичъ, просто колдунъ!
— А вотъ сейчасъ узна̀емъ, колдунъ или нѣтъ. Безъ вашего содѣйствія все мое колдовство ни къ чему не послужитъ.
Проба сошла какъ нельзя лучше. Черезъ нѣсколько дней оркестру Большого театра была сдана на выучку и полная оркестровка; а въ бенефисъ Петрова, 18-го октября, опера пошла уже съ добавочной сценой, вызвавшей цѣлую бурю восторговъ. Съ тѣхъ поръ арія Вани у воротъ барскаго двора сдѣлалась одной изъ самыхъ выигрышныхъ для контральто.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Свои и „братія“.
Красивою внѣшностью природа не побаловала Глинки. Всего привлекательнѣе были у него глаза: въ нихъ свѣтился живой умъ, а во время исполненія имъ своихъ собственныхъ пьесъ, загорался и огонь внезапнаго вдохновенія. Но такова обаятельная сила музыкальнаго генія: гдѣ бы онъ ни появлялся, — въ великосвѣтскомъ ли салонѣ или въ пріятельскомъ кружкѣ, за кулисами театра или въ театральной школѣ, гдѣ онъ, по предложенію Гедеонова, сталъ давать уроки пѣнія, — какъ къ волшебной магнитной горѣ желѣзо, къ нему влекло неудержимо всѣ сердца: женскія и мужскія, молодыя и старыя.
Само собою разумѣется, что, кромѣ окружавшаго его уже ореола композитора, много способствовала тому и неподражаемая передача имъ своихъ композицій въ пѣніи и на роялѣ. Прославившійся впослѣдствіи другой русскій композиторъ, Сѣровъ, въ то время еще совсѣмъ молодой человѣкъ, удостовѣряетъ, что „кто не слыхалъ романсовъ Глинки, спѣтыхъ имъ самимъ, тотъ не знаетъ этихъ романсовъ“.
Однажды Глинка пѣлъ при Сѣровѣ романсъ въ два куплета. По нотамъ второй куплетъ былъ совсѣмъ тождественъ съ первымъ. Между тѣмъ, въ пѣніи музыка обоихъ куплетовъ звучала совершенно различно. Когда Сѣровъ спросилъ Глинку, въ чемъ тутъ дѣло; тотъ далъ ему такую разгадку: — Дѣло, баринъ, очень простое само по себѣ: въ музыкѣ, особенно въ вокальной, рессурсы выразительности безконечны. — Одно и то же слово можно произнести на тысячу ладовъ, не перемѣняя даже интонаціи, ноты въ голосѣ, а перемѣняя только акцентъ, придавая устамъ то улыбку, то серіозное, строгое выраженіе. Учителя пѣнія обыкновенно не обращаютъ на это никакого вниманія, но истинные пѣвцы, довольно рѣдкіе, всегда хорошо знаютъ всѣ эти рессурсы.
Аккомпанируя своему мастерскому пѣнію, Глинка не менѣе блестяще импровизировалъ: „въ каждомъ ритурнелѣ, — говоритъ Сѣровъ, — онъ дѣлалъ маленькія перемѣны, то прибавляя орнаментикъ, триллеръ, будто флейты или скрипки, то вплетая простые аккорды въ изгибы мимолетнаго, граціознаго контрапункта…“
Можно ли послѣ этого удивляться, что поклонникамъ и поклонницамъ его не было числа!
Какъ же, однако, относились къ такимъ его успѣхамъ домашніе? — Какъ маленькія дѣти, приглядѣвшіяся къ птичьему полету. Вынесенный впервые на вольный воздухъ, ребенокъ при видѣ пролетающихъ надъ нимъ птицъ радостно ликуетъ, тянется къ нимъ ручонками; но, видя затѣмъ тѣхъ же птицъ каждый день, онъ перестаетъ уже обращать на нихъ вниманіе. Слыша одну и ту же артистическую игру изо дня въ день и не будучи сами музыкальными, обѣ, какъ жена, такъ и теща, смотрѣли на великаго композитора и виртуоза, какъ на простого смертнаго, замѣчая въ немъ только присущіе ему человѣческіе слабости и недостатки. Все значеніе его для нихъ сводилось къ тому, что онъ добывалъ имъ средства для приличнаго существованія: почти всѣ свои деньги (7,000 руб. асс., присылаемые ему изъ деревни, 2,500 руб. асс. годового жалованья и получаемый отъ продажи своихъ сочиненій гонораръ) онъ сдавалъ безконтрольно на руки женѣ, предоставивъ въ ея полное распоряженіе и стоявшую у него на конюшнѣ четверку лошадей съ каретой; самъ онъ съ мелочью въ карманѣ ѣздилъ только на извозчикахъ или бѣгалъ пѣшкомъ. Возвратившись изъ командировки въ Малороссію для набора пѣвчихъ въ придворную пѣвческую капеллу, онъ всю полученную за то въ награду сумму, 1,500 руб. асс., точно такъ же вручилъ женѣ, не оставивъ себѣ ни копейки. Марья Петровна находила это вполнѣ естественнымъ. Заведя у себя журфиксы — четверги, она разрѣшила мужу приглашать на нихъ и своихъ личныхъ знакомыхъ изъ оперной труппы, потому что тѣ своимъ пѣніемъ развлекали ея собственныхъ гостей. Но какъ смѣлъ онъ самъ-то своимъ пѣніемъ, своей игрой приводить всѣхъ въ такой восторгъ, какъ смѣлъ дѣлаться центромъ ея журфиксовъ, такъ что на нее, Марью Петровну, почти не обращали и вниманія! Этого нельзя было уже ему простить.
Вся обыденная жизнь наша слагается изъ мелочныхъ обстоятельствъ. Будучи описаны перомъ, они кажутся ничтожными, незаслуживающими вниманія, а будучи пережиты, гонятъ кровь горячей волной по жиламъ и бьютъ чувствительно по нервамъ. При всей добротѣ своей, Глинка былъ очень нервенъ; а Марья Петровна послѣ перенесенной ею тяжелой болѣзни (воспаленія легкихъ) была не только очень раздражительна, но и капризна. Сама нерасчетливо бросая сотни рублей на разныя прихоти и наряды, она, напримѣръ, укоряла мужа въ томъ, что онъ тратитъ „цѣлые рубли“ на нотную бумагу. Мать всегда брала сторону дочери, хотя бы та была неправа, и тѣмъ, какъ говорится, подливала еще масла въ огонь. О первой серіозной размолвкѣ своей съ женой и тещей Глинка откровенно повѣствуетъ такимъ образомъ:
„Однажды, въ началѣ весны, еще не оправясь, вздумалось Марьѣ Петровнѣ навѣстить сестру свою. Время было скверное, страшно свирѣпствовалъ жестокій сѣверный вѣтеръ. Я упрашивалъ жену не ѣздить по причинѣ дурной погоды; но она рѣшительно заупрямилась и приказала запрягать лошадей. Видя, что увѣщанія мои были тщетны, я принужденъ былъ употребить власть и повелительнымъ тономъ приказалъ кучеру отнюдь не смѣть запрягать. Марья Петровна начала, горько плакать, а теща въ гнѣвѣ разразилась бурнымъ потокомъ упрековъ, при чемъ гнѣвъ ея возрасталъ болѣе и болѣе, такъ что трудно было разобрать ея ломанный русскій языкъ, а слышно было шипѣніе, подобное шипѣнію самовара. Наконецъ, барыни успокоились, но огорченіе глубоко запало мнѣ въ сердце.
„Эти сцены начали повторяться и всегда изъ пустяковъ. Въ такихъ случаяхъ слышно было самоварообразное шипѣніе тещи и всхлипыванье жены; я же взялъ за правило хранить глубокое молчаніе, мѣрнымъ шагомъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ и на каждомъ поворотѣ, упираясь на правую ногу, тщательно обрисовывать носкомъ лѣвой полукругъ, что несказанно бѣсило тещу, отчего, однако же, она скорѣе умолкала. Тогда я обращался къ ней съ вопросомъ: все ли она высказала? Натурально, она снова приходила въ бѣшенство, но не надолго: усталость замыкала ей уста; а я надѣвалъ медленно перчатки, бралъ шляпу и, учтиво раскланявшись съ моими дамами, отправлялся къ моимъ пріятелямъ, гдѣ оставался иногда по нѣсколько дней…“
Кто же были эти пріятели Глинки? — Первое мѣсто между ними занималъ попрежнему Несторъ Кукольникъ, жившій (въ домѣ Мерца въ Фонарномъ переулкѣ) вмѣстѣ съ братомъ своимъ Платономъ. Платонъ Кукольникъ, взявшій на себя всю хозяйственную часть, имѣлъ свою отдѣльную спальню; братъ же его Несторъ помѣщался въ самой большой комнатѣ, служившей ему и гостиной и кабинетомъ и спальней. Спалъ онъ здѣсь, однако, не на кровати, а на клеенчатомъ диванѣ въ глубокомъ альковѣ. Диванъ былъ такой непомѣрной длины, что, кромѣ хозяина, на немъ могъ помѣщаться и гостившій у него Глинка, а нерѣдко и еще кто-нибудь изъ засидѣвшихся послѣ ужина гостей.
Среди этихъ гостей самымъ желаннымъ для Кукольника и Глинки былъ Карлъ Брюлловъ, успѣвшій уже составить себѣ имя по всей Европѣ картиной „Послѣдній день Помпеи“. Связывали этихъ трехъ представителей разныхъ изящныхъ искусствъ: поэзіи, музыки и живописи, какъ ихъ общія артистическія наклонности, такъ и одинаково „широкая“ натура. Эта троица составляла ядро тѣснаго пріятельскаго кружка, прозваннаго „братіей“, аккуратно собиравшагося у Кукольника по средамъ на вечеринки съ ужиномъ.
Бывали тамъ и не постоянные гости, какъ напримѣръ, молодой художникъ-маринистъ Иванъ Константиновичъ Айвазовскій или, какъ называлъ онъ себя еще тогда, Гайвазовскій, за которымъ мы теперь и послѣдуемъ на одну изъ такихъ вечеринокъ.

Сбросивъ въ передней плащъ, Айвазовскій вступилъ въ гостиную, наполненную уже гостями. Разбились они на нѣсколько группъ, но отъ ходившихъ въ воздухѣ волнъ табачнаго дыма едва можно было различить отдѣльныя лица. Со всѣхъ сторонъ гудѣлъ смѣшанный говоръ; но весь хаосъ голосовъ покрывался зычнымъ голосомъ самого хозяина:
— Покойный Пушкинъ, не спорю, былъ огромный талантъ; гармонія его стиха изумительна (слава ему во вѣки вѣковъ и царство Небесное!), но, какъ мыслитель, онъ легковѣсенъ и неглубокъ. По правдѣ сказать, онъ не создалъ ничего значительнаго…
— Вѣрно, Несторъ Васильевичъ, справедливо, подписываю обѣими руками! — подхватилъ вкрадчивый голосъ съ легкимъ польскимъ акцентомъ. — Продолжайте, продолжайте.
— Вотъ, если Богу угодно будетъ продлить мои дни, — продолжалъ Кукольникъ, — то я создамъ что-нибудь прочное, дѣйствительно достойное, что дастъ, быть-можетъ, совершенно другое направленіе нашей литературѣ…
Есть люди, которые, достигнувъ въ жизни быстраго успѣха, не въ мѣру возносятся надъ другими, совсѣмъ искренно считаютъ себя міровыми геніями и высказываютъ свои мнѣнія такимъ тономъ, будто изрекаютъ непреложныя истины. Кукольникъ былъ изъ числа такихъ самозванныхъ оракуловъ, и нашъ юный художникъ одинъ изъ довѣрчивыхъ его почитателей.
Когда Айвазовскій подошелъ къ ораторствующему хозяину поздороваться, тотъ встрѣтилъ его съ радушіемъ покровителя, обнялъ и чмокнулъ его въ обѣ щеки.
— Что такъ поздно, милый другъ? Вотъ, господа, рекомендую вамъ тоже талантъ, еще молодой, но подающій самыя смѣлыя надежды. Въ „Художественной газетѣ“, надѣюсь, вы всѣ читали уже мой отзывъ о двухъ картинахъ Гайвазовскаго на послѣдней выставкѣ: „Пароходъ, идущій въ Кронштадтъ“ и „Голландскій корабль въ открытомъ морѣ“?
— Конечно, читали! Кто же, Несторъ Васильевичъ, не читаетъ вашихъ статей? — раздался кругомъ хоръ голосовъ.
— А самъ ты, Иванъ Константиновичъ, тоже читалъ?
— Еще бы… — отвѣчалъ смущенный общимъ вниманіемъ Айвазовскій. — Я глубоко вамъ благодаренъ; но вы, Несторъ Васильевичъ, черезчуръ меня расхвалили, поставивъ чуть ли не выше моего профессора Таннёра, а я только перенялъ его манеру.
— Да какъ вѣдь, братецъ, перенялъ, какъ перенялъ! Французъ этотъ высказалъ уже все, что̀ могъ, и дальше ни шагу; ты же начинаешь съ того, на чемъ онъ кончилъ. Вотъ погоди, какъ пошлетъ тебя еще Академія въ Италію19…
— Это — моя завѣтная мечта…
— Но осуществимая. Когда же она осуществится, ты, полагаю, не забудешь, что тому, главнымъ образомъ, содѣйствовалъ нѣкій Несторъ Кукольникъ…
— И нѣкій Ѳаддей Булгаринъ, смѣю думать, и нѣкій Ѳаддей Булгаринъ! — добавилъ прежній вкрадчивый, съ польскимъ акцентомъ, голосъ. — Позвольте, почтеннѣйшій, и мнѣ прижать васъ къ сердцу.
Не успѣлъ Айвазовскій притти въ себя, какъ былъ „прижатъ къ сердцу“ круглолицымъ, гладковыбритымъ господиномъ.
„Да, вѣдь это онъ самъ и есть!“ сообразилъ Айвазовскій, видѣвшій Булгарина какъ-то и прежде.
Выпущенный имъ изъ объятій, онъ выразилъ ему также свою признательность за сочувственную статью въ „Сѣверной Пчелѣ“.
— Очень радъ, молодой человѣкъ, очень радъ!
Въ порывѣ внезапнаго благорасположенія, Булгаринъ схватилъ теперь обѣ руки его своими мягкими, потными руками, точно затѣмъ, чтобы не дать ему убѣжать, и продолжалъ скороговоркой, съ брызгами слюны:
— Да-съ, почтеннѣйшій, таланты всегда находятъ надлежащую оцѣнку у нашего брата, журналиста-разночинца. Полюбите меня, не слушайте моихъ враговъ, аристократовъ литературы…
Хотя Айвазовскій, какъ художникъ, и мало интересовался вопросами литературы, но все-таки не разъ слышалъ про два враждебныхъ литературныхъ лагеря: аристократическій и разночинный. Изъ писателей-аристократовъ, однако, онъ лично никого не зналъ; глава же писателей-разночинцевъ, Кукольникъ, былъ съ нимъ очень милъ; какъ же было ему не относиться съ симпатіей и ко всему его кружку, къ которому принадлежалъ и такой художникъ, какъ Брюлловъ? Но о Булгаринѣ вся знакомая Айвазовскому молодежь отзывалась всегда съ брезгливостью, съ презрѣніемъ, какъ о двоедушной личности, чуть ли не доносчикѣ. И вотъ этотъ самый господинъ жметъ ему руки своими слизистыми руками, извергаетъ на него своими нечистыми устами слюнныя брызги… Пробормотавъ какое-то извиненіе, Айвазовскій насильно высвободилъ свои руки и поскорѣе отошелъ на противоположный конецъ комнаты.
Здѣсь чувство гадливости смѣнилось въ немъ сразу чувствомъ благоговѣйной пріязни: онъ увидѣлъ передъ собой своего непритворнаго доброжелателя, „дѣдушку“ Крылова. Не вмѣшиваясь въ журнальныя распри двухъ литературныхъ партій, маститый баснописецъ бывалъ какъ на субботахъ Жуковскаго, такъ и на средахъ Кукольника; но и тамъ и здѣсь онъ участвовалъ болѣе въ качествѣ молчаливаго наблюдателя. Зато, когда Жуковскій разсказалъ ему разъ о преслѣдованіяхъ, которымъ подвергался нашъ начинающій маринистъ отъ своего профессора-француза, почуявшаго въ ученикѣ опаснаго соперника, тяжелый на подъемъ Крыловъ стряхнулъ съ себя лѣнь, нарочно съѣздилъ въ Академію Художествъ, велѣлъ вызвать къ себѣ Айвазовскаго, поцѣловалъ его въ лобъ и обласкалъ, ободрилъ. Сегодня тучный старецъ, угнѣздившись въ глубокомъ креслѣ, молча поводилъ только своими заплывшими жиромъ глазами по шумѣвшимъ кругомъ собесѣдникамъ и прихлебывалъ остывшій чай изъ стоявшаго на столикѣ около него стакана. Завидѣвъ же подходящаго къ нему Айвазовскаго, онъ широко улыбнулся и привѣтливо протянулъ ему свою мясистую руку.
— Здорово, мой милый, здорово! Ну, что, французъ больше не обижаетъ?
— Не обижаетъ, Иванъ Андреевичъ.
— Руки коротки? Знать, недаромъ говорилъ я тебѣ, чтобы не горевалъ. А теперь отъ отповѣди Нестора Васильевича ему, поди, еще пуще не поздоровится.
— Мнѣ, признаться, это не совсѣмъ-то пріятно, — сказалъ Айвазовскій: — отъ Таннера я все-таки многому научился… А что, Иванъ Андреевичъ, — перемѣнилъ онъ разговоръ: — Карла Павловича и Михаила Ивановича, видно, нѣтъ здѣсь?
— Чтобы два тріумвира отсутствовали на собраніи тріумвирата? Что ты, батюшка! Они временно лишь спасаются въ пустынѣ отъ мірской суеты. Вонъ, слышишь?
Изъ-за притворенной двери въ сосѣднюю горницу, дѣйствительно, долетали звуки фортепьяно.
— Такъ я пойду къ нимъ, Иванъ Андреевичъ, — сказалъ Айвазовскій.
— Ступай, батюшка, ступай.
Въ небольшой, но уютной угловой комнаткѣ сидѣлъ за инструментомъ Глинка и „фантазировалъ“. Блѣдное лицо его, обрамленное черными бакенбардами, было обращено вверхъ, но вѣки его были сомкнуты, а пальцы, точно безъ его вѣдома, сами собой бѣгали по клавишамъ, едва ихъ касаясь и извлекая изъ струнъ грустно-таинственные звуки.
Слушателей пока было всего двое: молоденькій брюнетъ-юнкеръ егерскаго полка, князь Кастріото-Скандербекъ, и Брюлловъ. Первый изъ нихъ, страстный поклонникъ музыки Глинки, сидѣлъ облокотившись на край фортепьяно и припавъ щекой на руку. Весь обратившись въ слухъ, онъ, казалось, даже не замѣтилъ вошедшаго. Второй подносилъ только-что къ губамъ полный стаканъ краснаго вина. Въ отвѣтъ на поклонъ Айвазовскаго онъ слегка кивнулъ своей прекрасной головой Аполлона Бельведерскаго и протянулъ ему свой стаканъ.
Айвазовскій молчаливымъ жестомъ сожалѣнія показалъ, что не пьетъ вина. Брюлловъ неодобрительно покачалъ головой и самъ отпилъ полстакана; послѣ чего изъ стоявшей тутъ же бутылки долилъ его вновь, точно такъ же, какъ и стаканъ Глинки.
— Ему-то вы зачѣмъ подливаете, Карлъ Павловичъ? — укорилъ его тихонько Айвазовскій. — Вы знаете вѣдь, какъ вино ему вредно!
— Поправить это недолго, — шопотомъ же отозвался Брюлловъ, и залпомъ осушивъ свой стаканъ, онъ перелилъ въ него все содержимое изъ стакана Глинки.
— А я на-дняхъ опять любовался въ Академіи вашимъ „Послѣднимъ днемъ Помпеи“20, — говорилъ между тѣмъ Айвазовскій. — И знаете ли, Карлъ Павловичъ, что мнѣ пришло при этомъ въ голову?…
— Т-с-с-с! — процѣдилъ Брюлловъ, указывая глазами на Глинку и прикладывая къ губамъ палецъ. Онъ взялъ своего молодого сотоварища по палитрѣ подъ руку и отвелъ его къ диванчику въ углу. — Здѣсь мы ему не помѣшаемъ. Такъ что же вы хотѣли сказать мнѣ насчетъ моей „Помпеи“?
— Что написать ее могъ только человѣкъ очень сердечный.
— Изъ чего вы это заключили?
— Изъ того, что на вашей картинѣ въ минуту всеобщей гибели, когда каждому, казалось бы, только и думать бы спастись самому, всѣ гибнущіе, напротивъ того, заботятся о спасеніи дорогихъ имъ людей…
— Вы, Гайвазовскій, первый поняли мою мысль, поняли потому, что въ душѣ вы такой же художникъ. Да развѣ я не правъ? Развѣ любовь въ разныхъ ея видахъ не есть высшая двигательная сила въ человѣческой жизни?
— Вотъ именно. Можетъ быть, любовь же побудила васъ написать эту картину?
Брюлловъ отвѣтилъ не сразу; когда же заговорилъ, въ голосѣ его прорывалась затаенная скорбь.
— Вы угадали, — сказалъ онъ: — любовь невозвратная, безутѣшная! Такъ какъ дѣло пошло на откровенность, то я, такъ и быть, разскажу ужъ вамъ. Мой горькій опытъ можетъ послужить вамъ разъ на пользу… Какъ сейчасъ, помню тотъ злополучный вечеръ. Было то въ Римѣ. Съ нѣсколькими пріятелями я ужиналъ въ ресторанѣ, когда мнѣ подали письмо. Я взглянулъ на адресъ, узналъ почеркъ и сунулъ письмо въ карманъ.
„— Что же ты не прочитаешь? — замѣтилъ мнѣ одинъ изъ пріятелей.
„— Поспѣю! — отвѣчалъ я и налилъ себѣ опять вина.
„— Но, можетъ быть, это что-нибудь важное, спѣшное…
„— Ну да! Я и безъ того знаю, что мнѣ пишутъ, и испортилъ бы себѣ только весь вечеръ“.
— Вы, значитъ, такъ и не вскрыли письма? — спросилъ Айвазовскій.
— Такъ и не вскрылъ; а возвратясь домой далеко за полночь, рѣшительно забылъ про письмо. На другое утро я всталъ довольно поздно, и тутъ уже отъ хозяйки, принесшей мнѣ кофе, узналъ самую свѣжую городскую новость: на разсвѣтѣ какая-то молодая синьора, иностранка, наняла веттурино (извозчика) на plazza di Spagna (испанской площади) и велѣла везти себя къ ponte Mobo на Тибрѣ. Здѣсь, на мосту, она съ нимъ разсчиталась. Не успѣлъ онъ еще отъѣхать, какъ синьора сорвала съ себя шаль, шляпку и черезъ перила бросилась сама въ рѣку. Веттурино кликнулъ тотчасъ полицейскаго; но пока тотъ досталъ лодку, пока отыскали несчастную и вытащили изъ воды, она оказалась уже безъ признаковъ жизни… Такъ разсказывала мнѣ хозяйка; я же, слушая, замиралъ отъ ужаснаго предчувствія.

„— А фамилію этой синьоры вамъ не называли? — спросилъ я.
„— Какъ же, — отвѣчала хозяйка: — фамилія французская. Сразу только не припомнишь: Де..’ Де…
„— Не Демуленъ ли?
„— Вотъ, вотъ, Демуленъ. А вы, синьоръ, ее знали?
„Мнѣ ли было ея не знать! Вчерашнее письмо было вѣдь отъ этой самой Демуленъ. Я схватилъ письмо изъ кармана, пробѣжалъ его, — и сомнѣній для меня уже не оставалось. Избалованный вообще дамами, я, каюсь, былъ передъ нею, дѣйствительно, кругомъ виноватъ. Она писала мнѣ, что если немедленно не получитъ отъ меня рѣшительнаго отвѣта, то покончитъ съ собою. И вотъ, покончила“…
Брюлловъ на минуту замолкъ и закрылъ себѣ глаза рукою. Потрясенный его разсказомъ, Айвазовскій не смѣлъ нарушить молчанія. Глубоко переведя духъ, Брюлловъ продолжалъ:
— Я легкомысленъ, какъ большинство нашей художественной братіи, но не бездушенъ. Для поступка моего въ законахъ не положено никакого наказанія; но передъ самимъ собой я считалъ себя безспорно преступнымъ. Нигдѣ не находилъ я себѣ мѣста и готовъ былъ, кажется, сойти съ ума. По счастью, въ то самое время находилась въ Римѣ, проѣздомъ въ Неаполь, наша землячка, графиня Самойлова. Она сжалилась надо мной и предложила мнѣ, чтобы развлечься, сопровождать ее въ Неаполь. Здѣсь, почти насильно, заставили меня пойти въ театръ San Carlo, гдѣ давалась опера Пачини „L’ultimo giorno di Pompei“ („Послѣдній день Помпеи“). Не столько музыка оперы, сколько ея трагическое содержаніе произвело на меня глубокое впечатлѣніе. Мнѣ захотѣлось непремѣнно побывать въ самой Помпеѣ. На другой же день я былъ уже тамъ. Бродилъ я, какъ потерянный, по вымершимъ улицамъ, межъ покинутыхъ развалинъ этого города смерти, и мнѣ пуще еще взгрустнулось по той, которая изъ любви ко мнѣ разсталась съ жизнью. „Любовь, взаимная привязанность людей другъ къ другу, — говорилъ я себѣ, — все-таки наивысшее изъ земныхъ благъ! А сколько ихъ, такихъ любящихъ сердецъ, погребено было здѣсь подъ горячимъ пепломъ Везувія!“ И въ воображеніи моемъ нарисовалась картина погибающей Помпеи, — какъ среди общаго смятенія сыновья спасаютъ старика-отца, мать — ребенка, женихъ — невѣсту… Вотъ картина, достойная кисти художника! И вернувшись въ Неаполь, я не медля принялся за эскизы къ новой большой картинѣ „Послѣдній день Помпеи“. Только когда она была совсѣмъ окончена, я вздохнулъ съ облегченьемъ; сердечная рана моя закрылась: я былъ помилованъ.
Увлеченный своимъ собственнымъ разсказомъ, Брюлловъ постепенно возвышалъ голосъ. Глинка, непривыкшій къ тому, чтобы во время его игры разговаривали, недоумѣвая обернулся.
— Ба-ба-ба! Гайвазовскій! — сказалъ онъ. — Васъ-то мнѣ и нужно. Пожалуйте-ка сюда.
Тотъ подошелъ и спросилъ, чѣмъ можетъ служить.
— Тѣмъ же, чѣмъ и прежде, — отвѣчалъ Глинка. — Ваши два татарскіе напѣва пригодились мнѣ отлично для „Лезгинки“. Теперь же одна барынька покою мнѣ не даетъ: сочини и для нее тоже что-нибудь восточное! Такъ вотъ, милый юноша, поройтесь въ вашей памяти: можетъ, что-нибудь еще отыщется.
Приложивъ ко лбу руку, Айвазовскій сталъ припоминать.
— Развѣ вотъ это, — сказалъ онъ: — тоже изъ татарскихъ мелодій.
И онъ замурлыкалъ про себя что-то заунывно-тягучее.
— Громче, голубчикъ, громче! — поощрялъ его Глинка и нервно покосился въ сторону гостиной, откуда несся сумбуръ голосовъ. — Экъ ихъ расшумѣлись!
Князь Кастріото вскочилъ со стула, чтобы притворить дверь плотнѣе.
— Спасибо, князь! — поблагодарилъ его Глинка. — Ну-съ, милый Гайвазъ, продолжайте.
Пѣнію Айвазовскій ни у кого не учился; но, обладая музыкальнымъ слухомъ и свѣжимъ голосомъ, онъ пропѣлъ свою татарскую мелодію вѣрно и чисто. Глинка одобрительно кивалъ въ тактъ и попросилъ повторить. Прослушавъ вторично, онъ самъ ударилъ по клавишамъ, и изъ-подъ пальцевъ его полилась та же мелодія съ такою полнотою звуковъ, съ такимъ совершенствомъ исполненія, точно то была концертная пьеса, заученная по нотамъ. Доигравъ, онъ запѣлъ, запѣлъ безъ словъ, но съ полнымъ аккомпанементомъ. Въ пѣніи мелодія хотя и оставалась та же, но получила свою особую окраску: до того она была прочувствована, до того хватала за душу. Оба художника застыли на мѣстѣ, какъ очарованные, а у меломана-юнкера изъ глазъ бѣжали по щекамъ слезы.
Когда прозвучалъ послѣдній аккордъ, Глинка обвелъ своихъ слушателей восторженнымъ взоромъ.
— Вотъ это такъ пѣсня! Нѣтъ, этой прелести я той барынькѣ не отдамъ, шалишь!
— Куда жъ вы ее пристроите? — спросилъ Айвазовскій.
— Куда? Приберегу для новой оперы. Такого andante ни за какія деньги не купишь.
Въ свое время эта татарская пѣсня, дѣйствительно, попала въ сцену Ратмира въ третьемъ дѣйствіи оперы „Русланъ и Людмила“.
Разговоръ былъ прерванъ Несторомъ Кукольникомъ, просунувшимъ голову въ дверь.
— Что̀ у васъ тутъ за секреты, господа? — спросилъ онъ. — Видно, Миша опять въ ударѣ.
— Да, братъ, — весело отвѣчалъ Глинка. — Чую, что нынче у меня si бемоль будетъ.
Это значило, что онъ чувствуетъ себя настолько въ голосѣ, чтобы взять высокое si бемоль.
— То-то у тебя искры изъ очей, дымъ изъ ушей, паръ изъ ноздрей, — сказалъ Кукольникъ. — Но твоя очередь еще впереди. Теперь почтеннѣйшая публика требуетъ господъ живописцевъ. Пожалуйте, господа, отнесся онъ къ „живописцамъ“ и подхватилъ обоихъ подъ руки. — Степанову одному не управиться.
Николай Александровичъ Степановъ, талантливый карикатуристъ (впослѣдствіи одинъ изъ редакторовъ юмористическаго журнала „Искра“), собралъ уже вокругъ себя въ гостиной цѣлую группу зрителей. При входѣ Брюллова и Айвазовскаго, тѣ разступились, чтобы дать имъ мѣсто за однимъ столомъ со Степановымъ, гдѣ были уже разложены для нихъ рисовальныя принадлежности. Брюлловъ, по примѣру Степанова, принялся за юмористическую жанровую картинку, въ которой дѣйствующими лицами являлись нѣкоторые изъ присутствующихъ гостей. По мѣрѣ выясненія замысла рисовальщика, кругомъ раздавались шутливыя замѣчанія, взрывы смѣха, а по окончаніи какого-нибудь рисунка къ нему протягивалось разомъ нѣсколько рукъ. Айвазовскій, какъ маринистъ, не посягалъ на лавры карикатуриста. Сюжетомъ его была „морская буря“; но рисовалъ онъ необыкновенно увѣренно и быстро. Картинка у него вышла такъ хороша, что на нее также нашлось нѣсколько охотниковъ, и онъ тотчасъ долженъ былъ приняться за другую.
— Вы учились рисованію, вѣрно, съ самаго дѣтства? — спросилъ его одинъ изъ зрителей.
— Нѣтъ, — отвѣчалъ Айвазовскій, — началъ я безъ учителя…
— А въ двадцать лѣтъ составилъ себѣ уже имя! — подхватилъ Брюлловъ.
— Отчасти благодаря, конечно, связямъ и протекціи? — замѣтилъ опять кто-то.
— То-то, что у него не было сперва ни того, ни другого. Но, какъ крупный самородокъ, онъ самъ пробилъ себѣ дорогу. Разскажи-ка имъ, Иванъ Константиновичъ, въ назиданіе, какъ самородки выходятъ въ люди.
Скромный молодой художникъ смутился и сталъ отнѣкиваться. Но любопытство окружающихъ было уже возбуждено; къ нему пристали съ просьбами со всѣхъ сторонъ, и онъ долженъ былъ уступить.
— Разсказывать, собственно, нечего, — началъ онъ: — все сдѣлалось какъ-то само собой. Родился я въ Крыму, въ Ѳеодосіи, гдѣ отецъ мой прежде занимался торговлей; но, во время чумы 1812 года, онъ совершенно разорился и занялся тогда мелкими тяжебными дѣлами. Жили мы бѣдно; но меня съ братьями отецъ посылалъ все-таки въ уѣздное училище. Въ свободные часы я игралъ самоучкой на скрипкѣ и рисовалъ какъ Богъ на душу положитъ. Градоначальникомъ въ Ѳеодосіи былъ въ то время Александръ Ивановичъ Казначеевъ, мой благодѣтель (иначе его назвать не могу!). Въ первый разъ онъ замѣтилъ меня, когда проѣзжалъ какъ-то берегомъ моря мимо нашего дома. Я сидѣлъ на окнѣ и пиликалъ на скрипкѣ. Увидавъ градоначальника, я испугался и спряталъ скрипку за спину. Онъ же улыбнулся и похвалилъ меня:
„— Смотри, какой искусникъ! Продолжай, продолжай.
„И поѣхалъ далѣе. Могъ ли я думать, что это первый шагъ къ моему счастью! Второй шагъ былъ рисунокъ углемъ, который я сдѣлалъ на наружной стѣнѣ нашего дома. Нарисовалъ я солдата во весь ростъ и, должно-быть, довольно изрядно, потому что передъ домомъ постоянно толпился народъ. Остановился посмотрѣть и проходившій мимо городской архитекторъ Кохъ, съ которымъ мы были знакомы. Вдругъ онъ входитъ къ намъ въ домъ и велитъ позвать меня.
„— Не твоя ли ужъ это работа?
„— Моя, — говорю.
„— У тебя вѣрный глазъ и ловкая рука. Изъ тебя можетъ выдти если не архитекторъ, то художникъ. Но тебѣ первымъ дѣломъ надо знать перспективу и архитектурныя детали. Хочешь, я поучу тебя?
„Какъ было мнѣ не хотѣть! И какъ же я у него потомъ старался! Преуспѣвалъ я, должно-быть, довольно быстро, потому что, немного погодя, мой учитель взялъ у меня всѣ мои рисунки, чтобы показать ихъ самому градоначальнику. Тотъ вспомнилъ тогда обо мнѣ.
„— Да вѣдь это почти ребенокъ? — сказалъ онъ. — Сколько ему можетъ быть лѣтъ?
„— Двѣнадцать, — отвѣчалъ Кохъ.
„— Надо съ нимъ ближе познакомиться. Приведите-ка его ко мнѣ.
„На другой же день Кохъ привелъ меня къ нему вмѣстѣ съ моимъ отцомъ. Отецъ струхнулъ, кажется, еще больше меня: вѣдь то былъ правитель города, въ рукахъ котораго была судьба всѣхъ горожанъ! Но Казначеевъ обошелся съ нами просто и ласково; подарилъ мнѣ ящикъ съ акварельными красками и нѣсколько листовъ хорошей рисовальной бумаги; потомъ вызвалъ еще ко мнѣ своего маленькаго сына. Съ этого дня я сталъ вхожъ въ ихъ домъ. Годъ спустя Казначеевъ былъ назначенъ губернаторомъ, переѣхалъ въ Симферополь и взялъ меня съ собой. Въ Симферополѣ я вмѣстѣ съ молодымъ Казначеевымъ бывалъ въ домѣ Наталіи Ѳедоровны Нарышкиной. Ей также понравились мои рисунки, она повезла ихъ въ Петербургъ — и, по Высочайшему повелѣнію, я былъ зачисленъ въ Академію Художествъ пансіонеромъ Кабинета его величества. Вотъ и все“.
— А исторія твоя въ Академіи съ Таннёромъ? — замѣтилъ Брюлловъ.
— Объ ней, Карлъ Павловичъ, лучше не вспоминать, — уклонился Айвазовскій. — Таннёръ былъ все-таки моимъ учителемъ…
— Не учителемъ, а мучителемъ! Представьте себѣ, господа: вмѣсто того, чтобы посвятить такого талантливаго ученика, въ тайны своего искусства, этотъ эгоистъ заставлялъ его растирать ему краски или снимать копіи съ видовъ Петербурга, которые ему, Таннёру, могли со временемъ пригодиться для его собственныхъ картинъ.
— Мало того, — подхватилъ Кукольникъ: — Таннёръ, сколько я знаю, запретилъ ему даже участвовать въ общемъ конкурсѣ академистовъ.
— Но это возмутительно! Неужели это правда? — раздались кругомъ голоса.
— Сущая правда, — подтвердилъ Брюлловъ, когда Айвазовскій замедлилъ отвѣтомъ. — И съ этакимъ-то субъектомъ ты, Иванъ Константиновичъ, деликатничаешь! Выкладывай безъ околичностей, какъ тебѣ все-таки удалось попасть на конкурсъ.
— Мысль къ тому подалъ мнѣ мой новый покровитель, Алексѣй Николаевичъ Оленинъ21 (дай Богъ ему здоровья!). По его совѣту, я сказался больнымъ, чтобы имѣть время написать дома картину для осенней выставки. Мой „Этюдъ воздуха надъ моремъ“ поспѣлъ какъ разъ къ выставкѣ, и Таннеръ узналъ о моемъ участіи въ конкурсѣ только тогда, когда конференція Академіи присудила мнѣ первую, серебряную медаль.
— Воображаю бѣшенство Таннёра! — воскликнулъ одинъ изъ слушателей.
— О! онъ меня просто возненавидѣлъ. Передъ моимъ небольшимъ этюдомъ собиралось публики даже болѣе, чѣмъ передъ его собственными полотнами. Онъ полетѣлъ въ Царское Село съ жалобою къ самому государю, что я, его ученикъ, имѣлъ дерзость выставить свою картину безъ его вѣдома. Не зная подробностей, государь, понятно, разгнѣвался, и моя картина была снята съ выставки.
— Но тутъ заступился за тебя Зауервейдъ, — подхватилъ Брюлловъ. — Вы всѣ, господа, восхищались батальными картинами профессора Зауервейда. Но чего вы, можетъ-быть, не знаете: Зауервейдъ даетъ при дворѣ уроки рисованія великимъ князьямъ и княжнамъ, и даже самъ государь иногда пишетъ масляными красками по указаніямъ Зауервейда. Поэтому-то у Зауервейда и достало смѣлости замолвить слово за нашего Ивана Константиновича. Прости, голубчикъ, что прервалъ тебя.
— Выставка закрылась, — принялся опять Айвазовскій за свой разсказъ, — и о моей картинѣ не было уже помину. Картинамъ же Таннёра въ Зимнемъ дворцѣ была отведена цѣлая зала. Однажды, проходя по этой залѣ вмѣстѣ съ Зауервейдомъ, государь остановился передъ одной картиной, чтобы указать на неправильность рисунка человѣческихъ фигуръ на кораблѣ.
„— Впрочемъ, это вѣдь не по его части, — сказалъ государь: — какъ маринистъ, Таннёръ безподобенъ, и у насъ равнаго ему до сихъ поръ нѣтъ.
„— Простите, ваше величество, — возразилъ Зауервейдъ, — но между нашими молодыми художниками есть одинъ, который ему едва ли уступитъ.
„— Кто же это такой? — спросилъ государь.
„Зауервейдъ назвалъ меня. Государь насупился, готовъ былъ вспылить.
„— Не хочу объ немъ и слышать! Это строптивый ученикъ…
„— Ваше величество, — заговорилъ тутъ Зауервейдъ, — о Гайвазовскомъ вы слышали только отъ профессора Таннёра. Другіе же профессора судятъ объ немъ совсѣмъ иначе. Позвольте доложить вамъ, какъ было дѣло?
„— Говори.
„Выслушавъ докладъ, государь улыбнулся и спросилъ Зауервейда, чего онъ раньше-то молчалъ.
„— Въ бурю, ваше величество, — отвѣчалъ Зауервейдъ, — маленькимъ лодочкамъ не безопасно подходить къ линейному кораблю, да еще стопушечному, Въ штиль — иное дѣло.
„Государь разсмѣялся:
„— Ты вѣчно съ своими прибаутками! Гдѣ же теперь та картина Гайвазовскаго, что сняли съ выставки?
„— Въ Академіи, ваше величество.
„— Такъ завтра же ты представишь мнѣ ее.
„На другой же день моя картина была въ Зимнемъ дворцѣ; а еще черезъ день мнѣ было объявлено, что государю угодно было пожаловать мнѣ тысячу рублей и что лѣтомъ я буду сопровождать великаго князя Константина Николаевича въ его первомъ практическомъ плаваніи по Финскому заливу“…
— И съ этого плаванія ты поплылъ по житейскому морю уже своимъ собственнымъ курсомъ на всѣхъ парусахъ! — досказалъ Брюлловъ. — Такъ вотъ вамъ, господа, простая, но поучительная исторія художника-самородка. При его усердіи я не сомнѣваюсь, что онъ напишетъ еще не одну сотню, а то и тысячу картинъ во славу себѣ и русскому искусству![22]
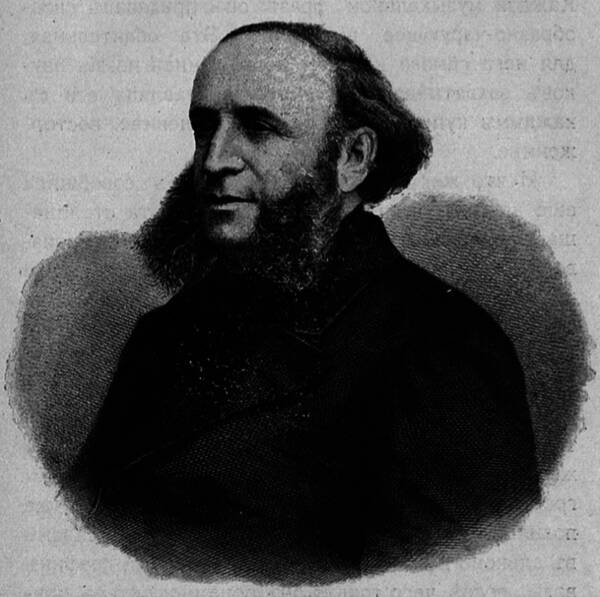
— Гостей, однако, баснями не кормятъ, — замѣтилъ тутъ Кукольникъ. — Что это нынче, братъ Платонъ такъ замѣшкался! Пойти самому на кухню…
Но надобности въ томъ уже не было: братъ его Платонъ Васильевичъ появился въ это самое время въ дверяхъ и пригласилъ гостей въ столовую закусить „чѣмъ Богъ послалъ“.
Закуска оказалась, дѣйствительно, безъ особыхъ затѣй, ужинъ также всего изъ двухъ домашнихъ блюдъ. Зато въ напиткахъ не было недостатка, оба хозяина усердно подливали, и вскорѣ за столомъ царило такое общее оживленіе, что трудно было разслышать себя самого. Громче всѣхъ по обыкновенію разглагольствовалъ Несторъ Кукольникъ, сворачивавшій со всякой темы въ концѣ концовъ на свою собственную персону.
Былъ уже второй часъ ночи, когда кто-то вспомнилъ, что „пора и честь знать“. Всѣ съ шумомъ поднялись съ мѣстъ и начали прощаться съ радушными хозяевами. Двинулся къ нимъ было и Айвазовскій; но Брюлловъ дернулъ его за рукавъ.
— Постой! Дай имъ уйти.
— А что такое? — удивился Айвазовскій.
— Теперь-то только и пойдетъ настоящая потѣха.
Потѣха и то пошла немалая. Кромѣ самого Брюллова и Айвазовскаго, остался только тѣсный кружокъ друзей-пріятелей Нестора Кукольника, въ томъ числѣ Глинка и самый вѣрный поклонникъ его, молодой князь Кастріото-Скандербекъ. Несторъ Кукольникъ заговорилъ было о задуманной имъ серіи повѣстей изъ эпохи Петра Великаго; но слушать его не нашлось уже охотниковъ. Шутъ и потѣшникъ „братіи“, нѣкто Яненко, болѣе извѣстный у друзей подъ прозвищемъ „Пьяненко“, затянулъ круговую пѣсню: „Чарочки по столику похаживаютъ“, и „братія“ дружно подхватила. Когда дошли до стиха „Думаю, подумаю, итти ли за него“, весельчакъ-запѣвало подкрался сзади къ князю-юнкеру и такъ неожиданно защелкалъ языкомъ надъ самымъ его ухомъ скрипичнымъ пиччикато, что нервный юноша чуть не свалился со стула.
— Такого пиччикато и мнѣ не сыграть! — разсмѣялся Глинка.
— А я сыграю! — крикнулъ Платонъ Кукольникъ и выбѣжалъ, чтобы минуту спустя возвратиться со скрипкой.
Для скрипача-диллетанта онъ игралъ довольно бойко и выдѣлывалъ пиччикато очень недурно. Но дѣло было не столько въ игрѣ, сколько въ сопровождавшихъ ее уморительныхъ гримасахъ.
Дальнѣйшихъ подобныхъ выходокъ развеселой „братіи“ мы не станемъ уже описывать.
„Надо правду сказать (говорится въ воспоминаніяхъ одного изъ посѣтителей вечеринокъ братьевъ Кукольниковъ), что шутки тонкой, требующей вкуса и остроумія, на этихъ вечерахъ, бывало, не услышишь. Зато безпрестанно раздавались забавныя пошлости, заставлявшія хохотать до упаду“.
Изъ всѣхъ присутствовавшихъ на описываемой вечеринкѣ одинъ лишь Айвазовскій не прикасался къ своему стакану. Естественно, что ему стало, наконецъ, не по себѣ, и онъ рѣшился удалиться.
— До финала ни съ мѣста! — крикнулъ ему Несторъ Кукольникъ. — А финалъ — это si бемоль нашего Орфея. Ну-ка, Миша, за фортепьяно, — а то, вишь, порядочные люди уже сбѣгаютъ.
Глинка не заставилъ просить себя. Еще на ходу въ угловую комнатку, гдѣ стояло фортепьяно, онъ скинулъ съ себя сюртукъ и послѣ короткой прелюдіи запѣлъ свой собственный романсъ: „Я помню чудное мгновенье…“ Какъ предсказывалъ онъ уже въ началѣ вечера, онъ былъ въ ударѣ. Каждой музыкальной фразѣ онъ придавалъ своеобразно-чарующее выраженіе. Эта обаятельная, для него самого какъ бы неожиданная поэзія звуковъ захватывала его всего, заставляла его съ каждымъ куплетомъ пѣть все задушевнѣе, восторженнѣе.
И что же? та же поэзія звуковъ совершила еще другое, не меньшее чудо: вся эта столпившаяся около пѣвца неумѣренная компанія, производившая передъ тѣмъ на Айвазовскаго такое отталкивающее впечатлѣніе, словно пришла въ себя и преобразилась. Всѣ слушали съ тѣмъ же затаеннымъ дыханьемъ, какъ и самъ Айвазовскій. Когда же Глинка взялъ свое неподражаемое si бемоль, изъ глазъ его самого брызнули слезы, всѣ были тронуты до слезъ, до глубины души; слабонервный же Кастріото-Скандербекъ, какъ стоялъ, такъ и грохнулся безъ чувствъ на полъ. Его тутъ же подняли, отнесли въ гостиную, уложили на диванъ въ альковѣ и вылили ему на голову цѣлый графинъ воды, послѣ чего только онъ понемногу сталъ приходить опять въ себя.
Айвазовскій воспользовался общей суматохой, чтобы ускользнуть въ переднюю. Но, спускаясь по лѣстницѣ и затѣмъ всю дорогу до дому, онъ безотчетно напѣвалъ про себя:
— „Я помню чудное мгновенье…“
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. „Русланъ и Дюдмила“. (1842.)
Артистическая натура Глинки, безпечная и нервная, не выносила какихъ бы то ни было оковъ. Поэтому и казенная служба, налагающая извѣстныя обязанности, стала ему вскорѣ въ тягость. Какое удовольствіе вѣдь доставляли ему вначалѣ уроки въ театральной школѣ!
„Время, проведенное мною съ этими милыми полудѣтьми, полукокетками, принадлежитъ, можетъ-быть, къ самому лучшему въ моей жизни, — говоритъ онъ самъ въ своихъ „Запискахъ“: — Иногда я игралъ и пѣлъ… Воспитанницы жадно слушали меня; даже малолѣтнія дѣвочки высыпали къ дверямъ и, не переводя дыханія, слушали мое пѣніе“.
Для лучшей своей ученицы, контральтистки, онъ сочинилъ несравненный романсъ „Сомнѣніе“ на слова Кукольника (для контральто, арфы и скрипки), до настоящаго времени трогающій молодыя и старыя сердца точно такъ же, какъ и болѣе полувѣка назадъ.
Началъ Глинка свои занятія въ театральной школѣ въ концѣ лѣта 1837 года; но уже на масленой недѣлѣ слѣдующаго, 1838 года, повздоривъ съ директоромъ Гедеоновымъ, онъ отказался ходить на уроки.
То же повторилось у него и съ придворной пѣвческой капеллой. Какъ радовали его сперва успѣхи учениковъ! Съ какимъ усердіемъ набиралъ онъ пѣвчихъ въ Малороссіи и какого заслужилъ за то царскаго вниманія! Государь, прослушавъ новыхъ пѣвчихъ, шутливо поклонился Глинкѣ въ поясъ, а потомъ, встрѣтивъ его на репетиціи въ Большомъ театрѣ, обнялъ его правой рукой и, разговаривая, прошелся съ нимъ такъ взадъ и впередъ по сценѣ. Вслѣдъ затѣмъ, Глинкѣ была назначена крупная денежная награда и предложено присутствовать на литургіи въ церкви Аничковскаго дворца и на большихъ и малыхъ выходахъ въ Зимнемъ дворцѣ; потомъ ему присылались иногда и приглашенія на вечера императрицы, гдѣ онъ долженъ былъ играть и пѣть. Все это возвышало его въ глазахъ столичнаго общества и не могло не льстить его самолюбію.
Но служебныя занятія въ пѣвческой капеллѣ отрывали его постоянно отъ его музыкальнаго творчества. Какъ это обстоятельство, такъ и повторявшіяся бурныя домашнія сцены до того, наконецъ, разстроили его нервы, что онъ цѣлый мѣсяцъ не ходилъ на службу, а затѣмъ подалъ въ отставку. Увольненіе его состоялось въ декабрѣ 1839 года.
Тѣмъ временемъ у него произошелъ и полный разрывъ съ женою, завершившійся (два года спустя) формальнымъ разводомъ.
Не связанный теперь ни служебными, ни семейными обязанностями, онъ могъ, казалось бы, посвятить себя всецѣло своему композиторскому труду. Но для этого ему недоставало пока необходимой свѣжести, бодрости духа. Творчеству его точно были подрѣзаны крылья. Живя кочевникомъ то у братьевъ Кукольниковъ, то у карикатуриста Степанова, онъ въ теченіе цѣлой зимы и лѣта сочинилъ только нѣсколько романсовъ, преимущественно на слова Нестора Кукольника. Только осенью 1840 г., проведенной имъ въ деревнѣ у матери, въ немъ проснулась опять охота къ работѣ. Какая же то была работа?
Еще въ концѣ 1836 г., вслѣдъ за постановкой „Жизни за царя“, извѣстный комикъ-драматургъ князь Шаховской замѣтилъ какъ-то Глинкѣ, что послѣ такой тяжелой, потрясающей драмы ему слѣдовало бы, для разнообразія, взяться за какой-нибудь легонькій, веселенькій сюжетецъ.
— Да гдѣ его возьмешь-то? — возразилъ Глинка. — И превыспренній мой баронъ Розенъ врядъ ли справится съ веселыми стихами.
— А на что вамъ Розенъ, когда есть Пушкинъ?
— Ну, Пушкинъ не станетъ писать опернаго либретто.
— Заново, пожалуй, не станетъ. Но если ему пришлось бы только передѣлать для оперы свою собственную поэму…
— Какую?
— „Руслана и Людмилу“. Сюжетъ игривый, стихи звучные. Петровъ былъ бы образцовымъ Русланомъ… —
— А Петрова? Роль Людмилы не подходила бы для контральто.
— Нѣтъ; но для контральто была бы не менѣе выигрышная роль — чародѣя Черномора.
Глинка усмѣхнулся.
— Она поблагодаритъ васъ за такую роль! Молодой, красивой женщинѣ играть противнаго стараго карлика…
— Ну, такъ молодого хазарскаго хана Ратмира. Право, Михаилъ Ивановичъ, подумайте надъ этимъ. Я серіозно вамъ говорю. Сюжетъ такой же фантастическій, но еще болѣе эффектный, какъ сюжетъ „Волшебной флейты“ Моцарта; а вы чѣмъ не нашъ Моцартъ?
Мысль полюбилась Глинкѣ. Вскорѣ послѣ того встрѣтясь на одной изъ субботъ Жуковскаго съ Пушкинымъ, онъ осторожно навелъ разговоръ на его юношескую поэму.
— Ну, это — проба пера, — сказалъ Пушкинъ. — Теперь я иное бы выпустилъ, иное бы и вовсе передѣлалъ.
— Что̀ же именно? — сталъ допытываться Глинка. — Вы не знаете, Александръ Сергѣевичъ, какъ это для меня важно…
— Чѣмъ важно?
— Потомъ вамъ скажу.
Но это „потомъ“ никогда не наступило. Кто-то прервалъ ихъ разговоръ; возобновить его въ тотъ же вечеръ Глинкѣ такъ и не довелось; а нѣсколько дней спустя (29 января 1837 г.) самого Пушкина уже не стало.
Тѣмъ не менѣе, мысль объ обращеніи пушкинской поэмы въ оперу уже не покидала Глинки. Первый планъ для будущей оперы набросалъ для него въ веселый часъ пріятель его, драматургъ Бахтуринъ. Этотъ набросокъ послужилъ Глинкѣ канвою для выработки своего собственнаго плана, гдѣ имъ были намѣчены отдѣльныя партіи для пѣвцовъ изъ имѣвшагося уже у него богатаго запаса темъ. Изъ числа этихъ темъ персидскій маршъ („Ложится въ полѣ мракъ ночной“) и маршъ Черномора были исполнены впервые во время поѣздки Глинки въ 1838 г. за пѣвчими въ Малороссію, гдѣ онъ гостилъ у помѣщика Тарновскаго. Особенно удался маршъ Черномора, благодаря одному любителю-музыканту, Палагину, мастерски подражавшему на рюмкахъ звону колокольчиковъ. Здѣсь же, у Тарновскаго, при помощи своего пансіоннаго товарища Ма̀рковича, Глинка приспособилъ стихи Пушкина къ „балладѣ Финна“, записанной имъ ранѣе, во время поѣздки на Иматру. Но приняться серіозно за разработку оперы онъ, какъ уже упомянуто, такъ и не собрался до осени 1840 г. Въ три недѣли, проведенныя имъ тогда въ родномъ Новоспасскомъ и затѣмъ у сестры своей Гедеоновой, была написана Интродукція къ „Руслану“. На обратномъ пути въ Петербургъ онъ простудился и залихорадилъ. Но, благодаря именно лихорадкѣ, фантазія его еще болѣе воспламенилась, и въ одну ночь (съ 14-го на 15-е сентября), во время ѣзды въ тряскомъ экипажѣ, создался весь Финалъ „Руслана“, изъ котораго потомъ развилась и увертюра.
Несмотря на свое постоянное недомоганіе, Глинка продолжалъ работать надъ „Русланомъ“ и въ Петербургѣ. Но, живя здѣсь опять съ Несторомъ Кукольникомъ, онъ не могъ отказать послѣднему въ его просьбѣ написать музыку для его новой трагедіи „Князь Холмскій“. Въ шесть недѣль онъ сочинилъ для нея увертюру, антракты, пѣсню („Ходитъ вѣтеръ у воротъ“) и романсъ. Музыка, какъ всегда, была хороша, но сама трагедія была неудачна, и послѣ третьяго представленія ее сняли навсегда съ репертуара.
А тутъ, въ началѣ зимы, новая простуда окончательно свалила Глинку съ ногъ: у него открылась горячка. Выздоровленіе шло медленно. По возстановленіи силъ, онъ принялся снова за „Руслана“, но постоянно отвлекался отъ этой крупной работы мелкими, уступая просьбамъ разныхъ лицъ сочинить то романсъ, то хоръ, то тарантеллу. За одинъ хоръ, написанный имъ для выпускныхъ воспитанницъ Екатерининскаго института, ему былъ пожалованъ государынею брилліантовый перстень, который, впрочемъ, онъ не замедлилъ отослать своей матери въ деревню.
Такъ наступила опять осень (1841 г.). Оправясь, наконецъ, отъ послѣдствій горячки, онъ могъ заняться своей оперой съ новыми силами.
Успѣху работы много способствовала и новая житейская обстановка. Онъ нанялъ себѣ отдѣльную квартирку въ одномъ домѣ съ замужней сестрой своей, Елизаветой Ивановной Флери, у которой и столовался. Квартирка была крохотная — въ двѣ комнатки, но спокойная, уютная. Порхавшія и чирикавшія у него на окнѣ за сѣткою пташки не отвлекали его отъ дѣла, а оживляли его одиночество. Обезпечивъ себя у сестры столомъ, онъ всѣ остальныя заботы о своемъ земномъ существованіи предоставилъ своему вѣрному старому дядькѣ Якову Ульянычу, которому сдалъ на руки и свою кассу. Тотъ выдавалъ ему, сколько требовалось, на извозчиковъ и на другіе мелочные расходы, а когда касса истощалась, объявлялъ:
— Ну, Михайло Иванычъ, деньги всѣ вышли. Извольте-ка отписать маменькѣ въ деревню.
Работой барина Ульянычъ чрезвычайно гордился, потому что самъ былъ изъ крѣпостныхъ музыкантовъ, зналъ ноты и иногда даже переписывалъ ихъ для барина. Въ разговорѣ съ другими онъ отождествлялъ себя съ бариномъ, говоря: „наше Новоспасское“, „наша маменька“, „наши сестры“ и точно также: „наша опера“. Съ утра, бывало, Глинка засядетъ за письменный столъ, покрытый весь большими нотными листами, и по часамъ, не отрываясь, пишетъ-пишетъ; вдругъ вскочитъ и, мурлыча что-то себѣ подъ носъ, зашагаетъ изъ угла въ уголъ; наклонится надъ столомъ, чтобы записать нѣсколько тактовъ, потомъ подойдетъ къ роялю, возьметъ аккордъ, другой, — и опять къ перу. А старикъ Ульянычъ неслышно входитъ и выходитъ, прибирая комнату и съ благоговѣніемъ поглядывая на барина, витающаго въ своемъ мірѣ звуковъ. Но всякому долготерпѣнію есть конецъ. Ульянычъ же — большой любитель городскихъ сплетенъ, не прочь и самъ поболтать. Войдетъ онъ опять на цыпочкахъ, постоитъ-постоитъ и промолвитъ:
— А знаете ли вы, Михайло Иванычъ, какую нонече новость по городу распустили?
Глинка въ отвѣтъ рукой махнетъ.
— Послѣ, братецъ, разскажешь. Не до того…
— Да нездорово, сударь, столько часовъ подъ рядъ на одномъ мѣстѣ сидѣть, право, нехорошо! Хошь бы къ кому съ визитомъ поѣхали, по улицѣ, что ли, прогулялись, чистымъ воздухомъ подышали…
— Поспѣю.
— Но вѣдь уже вечерѣетъ.
— Да не сегодня, братецъ, а когда оперу свою кончу.
— Ну! Это, стало, черезъ годъ еще, черезъ два.
— Нѣтъ, раньше, гораздо раньше. Отъ такой работы, братецъ, просто не оторвешься. Ты не повѣришь, что это за наслажденіе! Ну, ступай, сдѣлай милость, ступай.
Музыка оперы на слова пушкинской поэмы, дѣйствительно, быстро двигалась къ концу. Не то съ либретто. Общій планъ оперы, правда, былъ уже на лицо. Но когда Глинка взялся самъ за либретто, то, какъ онъ ни бился, ничего путнаго у него не выходило. Для этого требовалась болѣе опытная рука. Тогда онъ обратился къ Кукольнику, Но тотъ былъ занятъ своей собственной драмой „Эвелина де Вальероль“ и писать единолично все либретто „Руслана“ наотрѣзъ отказался. Для ускоренія дѣла пришлось привлечь къ участію еще двухъ сотрудниковъ: Мишу Гедеонова (сына директора театровъ) и нѣкоего Ширкова, такъ что въ общей сложности къ тексту оперы приложили руку не менѣе, какъ семь человѣкъ: Пушкинъ, Глинка, Бахтуринъ, Марковичъ, Кукольникъ, Гедеоновъ и Ширковъ. Какъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ, оправдалась опять старинная поговорка: „у семи нянекъ дитя безъ глазу“. Несмотря на многіе прекрасные стихи Пушкина, несмотря на первоначальный, довольно стройный планъ самого Глинки22, либретто вышло безсвязное и нескладное.
Но почему Глинка далъ другимъ исказить свой планъ? — Не будучи самъ ни драматургомъ, ни вообще писателемъ, онъ въ простотѣ душевной вполнѣ довѣрился литературному вкусу своего друга-драматурга Кукольника и, главнымъ образомъ, заботился о музыкѣ. А тутъ, весною 1842 г., пріѣхалъ въ Петербургъ концертировать Францъ Листъ и какъ разъ на „Русланѣ“ показалъ свое феноменальное искусство: въ салонѣ графа Віельгорскаго онъ прямо съ листа сыгралъ всю громадную оперу — сыгралъ съ такимъ совершенствомъ, что всѣ присутствовавшіе знатоки просто обомлѣли; а затѣмъ отозвался съ безусловной похвалой какъ о мелодичности оперы, такъ и вообще о ея фактурѣ.
— Ужъ коли самъ Францъ Адамычъ расхвалилъ, — говорилъ Глинка, — такъ за оперу мою мнѣ не страшно! Остается только столковаться съ дирекціей театровъ, съ декораторомъ да съ балетмейстеромъ.
На этотъ разъ директоръ Гедеоновъ не дѣлалъ уже никакихъ препятствій. Весь театральный персоналъ былъ тотчасъ предоставленъ въ распоряженіе Глинки; а когда тотъ завелъ рѣчь о гонорарѣ, Гедеоновъ самъ предложилъ ему „разовые“ въ размѣрѣ 10% съ двухъ третей полнаго сбора отъ каждаго спектакля. Декораторъ Роллеръ и балетмейстеръ Титюсъ старались также возможно угодить иногда довольно капризнымъ требованіямъ новаго фаворита дирекціи.
— У насъ почти все уже готово, — съ важностью объяснялъ старикъ Ульянычъ извѣстному впослѣдствіи композитору Сѣрову. — Теперь вотъ только танцы пишемъ.
Къ этому-же времени въ Петербургъ пріѣхала и мать Глинки съ его младшею сестрою Ольгою (для окончанія ея образованія) и поселилась въ одномъ съ нимъ домѣ. У нея-то на квартирѣ, какъ болѣе помѣстительной, сынъ устраивалъ репетиціи съ пѣвцами, послѣ чего дѣлалъ необходимыя урѣзки въ разныхъ номерахъ.
Репетиціи въ театрѣ начались въ маѣ мѣсяцѣ. Въ какомъ счастливомъ настроеніи былъ самъ Глинка, можно судить по одной шутливой запискѣ къ его пріятелю и домашнему врачу, доктору театральной дирекціи Гейденрейху, которую мы здѣсь приводимъ дословно:
„Ясновельможному пану, его высокоблагородію, милостивому государю, Людвигу Андреевичу.
„Коллежскій ассесоръ Михаилъ Ивановъ сынъ Глинка бьетъ челомъ о нижеслѣдующемъ:
„14-го сего мая имѣетъ быть начало репетиціямъ оперы моей въ залѣ Большого театра, а такъ какъ въ оной-же залѣ помѣщена ваша аллопатическая аптека, которая, изрыгая смрадный запахъ, злокачественно поражаетъ слабые нервы мои и даже однимъ видомъ наводитъ на встревоженное воображеніе паническій страхъ; чего ради слезно прошу, дабы ваше высокоблагородіе оную вышеупомянутую аптеку изъ залы, гдѣ обрѣтается, въ другое приличнѣйшее мѣсто перенести приказать соизволили; тѣмъ болѣе, что въ случаѣ несоизволенія вашего высокородія не вижу возможности производить репетиціи съ надлежащимъ раченіемъ и усердіемъ“.
Между тѣмъ надъ головою Глинки собиралась уже нешуточная гроза.
Дѣло въ томъ, что еще лѣтомъ 1840 года, онъ, безъ всякаго серіознаго повода, нажилъ себѣ опаснаго врага въ Булгаринѣ. Случилось это такъ. За три года передъ тѣмъ было открыто движеніе по первой въ Россіи желѣзной дорогѣ — Царскосельской. Но надо было пріучить столичныхъ жителей пользоваться той дорогой, хотя-бы въ лѣтнее время. Съ этой цѣлью на другомъ концѣ дороги, въ павловскомъ залѣ, въ видѣ даровой приманки правленіе дороги посадило прекрасный оркестръ. Разсчетъ оправдался: Павловскъ сдѣлался на долгіе годы любимымъ дачнымъ мѣстомъ петербургскаго высшаго общества.
Нечего говорить, что однимъ изъ самыхъ усердныхъ посѣтителей павловской музыки былъ Глинка. Между нимъ и капельмейстеромъ Германомъ установились вскорѣ пріятельскія отношенія, и здѣсь-то, въ Павловскѣ, Глинка впервые услышалъ оркестровое исполненіе своего „Вальса-фантазіи“.
Однажды онъ встрѣтился на музыкѣ съ двумя литераторами, Булгаринымъ и Сенковскимъ, которые также были уже знакомы съ Германомъ. Во время паузы между двумя пьесами Глинка вошелъ въ оркестръ поболтать съ Германомъ. Слѣдомъ за нимъ подошелъ и Булгаринъ и сталъ что-то нашоптывать на ухо Герману.
— Охота вамъ его слушать! — замѣтилъ Глинка: — онъ въ музыкѣ ничего вѣдь не смыслитъ.
Сказано это было, конечно, не въ обиду, но Булгаринъ разсердился не на шутку.
— Я-то не смыслю! Извольте доказать.
— Да какъ вамъ это докажешь? Съ слѣпыми о цвѣтахъ не спорятъ.
— А! И это, милостивый государь, вы смѣете говорить мнѣ въ лицо?
Происходили эти препирательства на глазахъ у публики, и, потерявъ терпѣніе, она зашикала.
— Пожалуйста, господа, потише! — попросилъ Германъ двухъ спорщиковъ. — Дайте намъ играть.
Тѣ спустились изъ оркестра въ садъ и, отойдя въ сторону, продолжали свой споръ. Того и другого знали многіе изъ публики, имена ихъ передавались изъ устъ въ уста, и около обоихъ образовалась толпа любопытныхъ. Всеобщая симпатія и безъ того уже была на сторонѣ Глинки, и его мѣткіе доводы были приняты теперь съ громкимъ одобреніемъ:
— Браво, Глинка! хорошо сказано!
Такое публичное пораженіе еще болѣе озлобило Булгарина. Подоспѣвшему Сенковскому стоило не малаго труда отвести обоихъ къ буфету, гдѣ они должны были примириться и подать другъ другу руку. Самъ Булгаринъ навелъ тутъ разговоръ на „Руслана“.
— М-да, жаль, очень жаль, — говорилъ онъ съ свойственнымъ ему лицемѣріемъ. — Такое превосходное произведеніе — и некому его исполнять!
— Какъ некому? — возразилъ Глинка. — Всякую партію я соображалъ нарочно со средствами нашихъ артистовъ.
— Т.-е. вамъ поневолѣ приходилось считаться съ ихъ слабыми средствами?
— Вы не такъ меня поняли, Ѳаддей Венедиктовичъ. Артистами я вообще очень доволенъ…
— Довольны, когда должны приспособляться къ нимъ, такъ какъ иначе они не въ состояніи понять вашей музыки? Полноте, Михаилъ Ивановичъ! Кого вы морочите?
Все это, какъ сказано, происходило еще лѣтомъ 1840 года. И вотъ теперь, въ ноябрѣ 1842 г., за три всего недѣли до перваго представленія „Руслана“, въ булгаринской „Сѣверной Пчелѣ“ появилась ядовитая статья, направленная, однако, не прямо противъ Глинки, а противъ оперныхъ пѣвцовъ, которые, будто бы, по-словамъ самого Глинки, не доросли до его оперы. Узналъ Глинка объ этой статьѣ только на репетиціи въ Большомъ театрѣ. Теноръ Леоновъ вышелъ къ нему навстрѣчу и предупредилъ его, что всѣ артисты сильно обижены.
— Чѣмъ? — удивился Глинка.
— Да статьей Булгарина. Вы развѣ ее еще не читали?
— Даже и не слышалъ про нее. Что же онъ, разбранилъ моего „Руслана“?
— То-то, что онъ бранитъ не васъ и не вашу оперу, а насъ, артистовъ, не понимающихъ вашей музыки. Всѣхъ болѣе дуется на васъ Петрова.
— Да я-то тутъ при чемъ?
— А какъ же: Булгаринъ ссылается на ваши собственныя слова…
— Вотъ безсовѣстный! — возмутился Глинка. — Не мои это, а его слова.
— Такъ пойдите, разубѣдите Анну Яковлевну, если можете.
Въ самомъ дѣлѣ, Воробьева-Петрова, относившаяся всегда такъ хорошо къ нашему маэстро, была теперь, очевидно, до крайности возбуждена: едва онъ показался на сценѣ, гдѣ были налицо уже всѣ артисты, какъ она осыпала его горькими упреками.
— Помилуйте, Анна Яковлевна, — началъ было оправдываться Глинка. — Вамъ-то ужъ грѣшно думать, что я стану что-нибудь говорить противъ васъ…
— А противъ товарищей моихъ можно говорить что угодно?
— Да и противъ васъ, господа, я ничего не говорилъ, — обратился онъ къ стоявшимъ кругомъ съ нахмуренными лицами артистамъ. — Я отстаивалъ отъ нападокъ Булгарина всю труппу.
— Такъ вотъ мы вамъ сейчасъ и повѣримъ! — запальчиво перебила его расходившаяся контральтистка.
— А не хотите вѣрить, такъ и не нужно! — не выдержалъ, наконецъ, и Глинка и повернулся къ режиссеру: — Можете начинать!
Оскорбленными считали себя, однако, не одни только пѣвцы, но и музыканты оркестра. Ни разу еще до этого не играли они такъ небрежно, особенно увертюру и финалъ пятаго дѣйствія. Глинкѣ стоило большого усилія надъ собой, чтобы не дать волю своимъ нервамъ. По окончаніи репетиціи онъ отвелъ въ сторону капельмейстера и старшихъ музыкантовъ, чтобы повторить имъ сказанное передъ тѣмъ пѣвцамъ.
— Да мы-то, старики, не протестуемъ, — отвѣчалъ капельмейстеръ. — Молодежь же наша сама чувствуетъ за собой нѣкоторую вину, потому что хорошо исполнять „Руслана“ куда труднѣе, чѣмъ „Жизнь за царя“; ну, а на ворѣ, извѣстно, шапка горитъ.
— Такъ объявите вашей молодежи, — сказалъ Глинка: — самъ я доносчикомъ на нихъ не буду; мнѣ, напротивъ, было бы очень прискорбно, если бъ кто-нибудь изъ нихъ пострадалъ изъ-за моей оперы; но, и помимо меня, до слуха директора театровъ можетъ дойти, что такіе-то музыканты умышленно относятся къ своему дѣлу нерадиво, спустя рукава; тогда имъ придется считаться уже не со мной, а съ самимъ директоромъ, и тотъ ихъ, я полагаю, по головкѣ не погладитъ.
Предостереженіе подѣйствовало: молодые музыканты подтянулись. Пѣвцы также дѣлали опять свое дѣло, хотя и не съ тѣмъ искреннимъ одушевленіемъ, которое наполовину обезпечиваетъ успѣхъ. Всего болѣе хлопотъ было Глинкѣ съ пѣвицей, которой была дана партія Гориславы. То была совсѣмъ еще молоденькая, недавно выпущенная изъ театральной школы пансіонерка Шифердекеръ, называвшаяся на афишахъ Лилѣевой. Благодаря ея миловидной наружности и чистому, гибкому голоску, она нравилась публикѣ въ наивныхъ роляхъ, которыя поручались ей въ „Цампѣ“, „Любовномъ Напиткѣ“ и другихъ веселыхъ операхъ. Въ роли же Гориславы, требующей выраженія глубокаго чувства, она была такъ бездушна и холодна, что Глинка приходилъ положительно въ отчаянье.
— Да развѣ такъ поютъ: „О, мой Ратмиръ, любовь и миръ“, — въ сердцахъ передразнивалъ онъ ее. — Напирайте болѣе на „О!“. Не слышите вы развѣ фаготъ, который вамъ подаетъ тонъ? „О!!!“ съ тремя восклицательными знаками. Понимаете вы меня?
— Понимаю-съ.
— Я не требую уже огня, гдѣ его нѣтъ; дайте хоть жизни-то, жизни!
Но при всемъ стараніи, она и жизни не могла вдохнуть въ свое „о“. Т огда Глинка прибѣгнулъ къ довольно оригинальному средству: на одной изъ послѣднихъ репетицій онъ незамѣтно подкрался къ Гориславѣ сзади и, выждавъ моментъ, когда она должна была начать свою арію, пребольно ущипнулъ ее за руку.
— О!!! — вырвалось у нея такъ естественно, что лучшаго и желать нельзя было.
— Вотъ видите, — сказалъ Глинка: — у васъ нашлись и полныхъ три восклицательныхъ знака.
Съ этого раза, въ самомъ дѣлѣ, вся арія выходила у нея несравненно живѣе.
Кромѣ непріятностей съ исполнителями, Глинкѣ пришлось испытать серіозное огорченіе и изъ-за самой музыки: за нѣсколько лишь дней до представленія, дирекція заставила его сдѣлать въ оперѣ существенныя „купюры“, между прочимъ, выкинуть всю первую половину пятаго дѣйствія.
Первое представленіе „Руслана“ было назначено на 27-ое ноября 1842 г. — ровно шесть лѣтъ послѣ перваго представленія „Жизни за царя“.
Еще за нѣсколько дней до спектакля всѣ билеты были разобраны на расхватъ. Но на душѣ у Глинки было далеко не спокойно: какъ-то еще поведутъ себя артисты? А тутъ къ нему вдругъ является Петровъ съ извѣстіемъ, что жена его серіозно расхворалась и не можетъ пѣть. Это было для Глинки громовымъ ударомъ.
— Да она — любимица публики! — воскликнулъ онъ. — И партію Ратмира я написалъ нарочно для нея…
Петровъ пожалъ плечами.
— Что, батюшка, прикажете дѣлать? Слегла, бѣдная, въ постель…
— Да такъ ли, Осипъ Афанасьевичъ? Барынька сердится еще, быть-можетъ, на меня за сплетни Булгарина, въ которыхъ я ни чѣмъ не повиненъ?
— Нѣтъ, Михаилъ Иванрвичъ, она у меня не злопамятна, и самой ей, право, очень досадно. Но у дирекціи есть вѣдь въ запасѣ замѣстительница…
— Воспитанница Анфиса Петрова? Точно въ насмѣшку, и фамилія та же!
Какъ, однако, ни волновался Глинка, а другого исхода не было, и партія Ратмира была передана воспитанницѣ Петровой 2-ой.
И вотъ, наступилъ вечеръ перваго представленія „Руслана“. Въ распоряженіе Глинки была предоставлена директорская ложа; но сидѣлъ онъ въ ней уже не съ женой и тещей (которыя для него болѣе не существовали), а съ двумя существами, всегда ему родственно-близкими, — съ матерью и сестрою. Евгенія Андреевна съ тревогой заглядывала въ лицо сына.
— Ты ужасно блѣденъ, Мишель! — замѣтила она. — Ужъ не дурно ли тебѣ?
— Нѣтъ, пока еще держусь… — былъ отвѣтъ. — Но у меня точно предчувствіе…
— Вѣчно ты, милый, съ своими предчувствіями! Ты боишься за Петрову 2-ую?
— И за нее: чтобы выучить всю огромную партію Ратмира, у нея было всего два-три дня…
— Однако, память у нея вѣдь хорошая? И голосъ, самъ ты говорилъ, свѣжій, звучный…
— Декораціи тоже очень эффектны, — подхватила дочь.
Братъ съ горечью усмѣхнулся.
— Хороша опера, которую вывозятъ декораціи! Но для нашей публики, вырощенной на шарманочной итальянщинѣ, нужны, конечно, и внѣшніе эффекты.
— Однако, музыкой твоего „Руслана“ восхищался самъ Листъ.
— Листъ — всемірный геній, но пролетѣлъ онъ у насъ метеоромъ. А спроси-ка, что говорятъ наши доморощенные знатоки? Графъ Віельгорскій прямо-таки ляпнулъ мнѣ въ лицо: „Mon cher, c’est un opéra manqué (мой милый, эта опера вамъ не удалась)“. Нѣтъ, меня поймутъ у насъ развѣ что черезъ сто лѣтъ.
Недаромъ его мучило предчувствіе. Первое дѣйствіе, правда, было принято довольно благосклонно, но не столько слушателями, сколько зрителями: пиръ въ теремѣ Свѣтозара былъ поставленъ декораторомъ Роллеромъ съ небывалою до тѣхъ поръ роскошью, невиданною даже въ любимыхъ итальянскихъ операхъ и балетахъ.
Второе дѣйствіе понравилось уже менѣе; несмотря на все стараніе тенора Леонова, „баллада Финна“ показалась черезчуръ растянутою и охладила публику.
Въ третьемъ дѣйствіи выступила въ роли Ратмира воспитанница Анфиса Петрова; но бѣдняжка такъ оробѣла, что духъ у нея въ горлѣ заняло. Чудная контральтовая партія совершенно пропала, и въ театральной залѣ не раздалось ни одного хлопка.
Въ четвертомъ дѣйствіи публика, наконецъ, встрепенулась отъ превосходнаго марша Черномора и еще болѣе, пожалуй, опять-таки отъ великолѣпной обстановки замка и садовъ Черномора: „женщины-бабочки, колдуны, арапы, феи, лезгины были точно чудными обитателями какого-то волшебнаго царства“, разсказывалъ впослѣдствіи одинъ изъ присутствовавшихъ на этомъ спектаклѣ (М. Лонгиновъ). „Лезгинка“ же вызвала взрывъ рукоплесканій.
— Вотъ, видишь ли, Мишель, — обратилась Евгенія Андреевна къ сыну; — публика въ полномъ восторгѣ.
— Да отъ чего, маменька? Не отъ моей музыки, а отъ своей любимой балерины Андреяновой, которая такъ безподобно танцуетъ лезгинку. Пятое дѣйствіе, вы увидите, все опять испортитъ.
— Почему ты такъ думаешь?
— Потому что, по совѣту все того же Віельгорскаго, выпустили всю первую половину этого дѣйствія, и вторая его половина такимъ образомъ органически не связана уже съ первыми четырьмя дѣйствіями.
Глинка не ошибся. Послѣднее дѣйствіе оставило зрителей въ недоумѣніи, выразившемся подъ конецъ въ довольно жидкихъ апплодисментахъ и отрывочныхъ вызовахъ композитора. Но и противъ нихъ нашлись протестующіе: послышалось шиканье не только изъ театральной залы, но и изъ оркестра и со сцены. Что долженъ былъ испытывать Глинка, глубоко убѣжденный въ достоинствахъ своей оперы!
— Зашипѣли змѣи… — пробормоталъ онъ. — Что̀ я вамъ говорилъ, маменька?
Евгенія Андреевна стала успокаивать его тѣмъ, что виною все-таки Булгаринъ, и что многіе продолжаютъ хлопать и вызывать; а бывшій съ ними въ это время въ ложѣ генералъ Дубельтъ напомнилъ, что разъ публика вызываетъ композитора, то ему слѣдуетъ вытти на вызовъ.
— Но другіе-же шикаютъ? — возразилъ Глинка.
— Ничего, иди.
Скрѣпя сердце, онъ вышелъ на сцену, раскланялся передъ публикой и затѣмъ поспѣшилъ со своими домой. Евгенія Андреевна зазвала ближайшихъ пріятелей сына на ужинъ, для котораго подарила ему серебряный столовый приборъ на двѣнадцать кувертовъ. Дома онъ опять настолько овладѣлъ собою, чтобы встрѣтить гостей съ радушной улыбкой. Тѣ, съ своей стороны, старались быть за столомъ также возможно непринужденнѣе и веселѣе. Но настоящее веселье наступило только тогда, когда старикъ Ульянычъ появился съ длинногорлой бутылкой и, щелкнувъ пробкой, розлилъ по бокаламъ пѣнистое шампанское. Среди шутокъ и смѣха чаще всего упоминалось имя Булгарина, и, понятно, отнюдь не въ лестныхъ выраженіяхъ.
— Охъ, ужъ этотъ Булгаринъ! — ворчалъ себѣ въ бороду и Ульянычъ, прислуживавшій гостямъ.
Балагуръ Яненко подхватилъ ворчанье старика-дядьки и, подмигивая на него украдкой собесѣдникамъ, замѣтилъ:
— А слышали вы, господа, какую новую статью готовитъ теперь Булгаринъ?
— Какую? какую?
— А такую вотъ, что есть-де у нашего Михайлы Иваныча старый дядька Яковъ Ульяновъ съ огромнымъ музыкальнымъ талантомъ!
— О! о! Ну, и что-же дальше?
— А то, что этотъ самый Ульянычъ помогаетъ-де своему барину сочинять оперы, что и самъ онъ объ этомъ не разъ проговаривался и говоритъ не иначе, какъ „наша опера“, „мы пишемъ“.
Шутникъ былъ награжденъ раскатомъ смѣха. Одинъ только Ульянычъ принялъ шутку за чистую монету. Онъ весь побагровѣлъ, затрясся отъ негодованія и разразился по адресу Булгарина цѣлымъ потокомъ ругательствъ.
— Да что ты съ нимъ подѣлаешь, любезный? — подзадорилъ его опять кто-то. — Сердись, не сердись, а взятки съ него гладки.

— Нѣтъ, этого я ему не спущу! Завтра-же схожу къ нему, да такъ и отрѣжу: „Совѣсти у васъ нѣтъ, сударь; подлецъ вы, мошенникъ!“
— Ну, этого-то ему ты не скажешь…
— Скажу, вотъ какъ Богъ святъ!…
— Будетъ, господа, не троньте моего старика! — вступился тутъ Глинка. — Не слушай ихъ, Ульянычъ. Они только зубоскалятъ.
Расходившійся дядька, однако, угомонился не ранѣе, пока всѣ присутствовавшіе не подтвердили, что то была шутка.
Шутка шуткой, а Булгаринъ очень скоро напомнилъ о себѣ. Въ его „Сѣверной Пчелѣ“ общее впечатлѣніе публики отъ перваго представленія „Руслана и Людмилы“ было передано такъ:
„Были вы на первомъ представленіи „Руслана“? — Былъ. — А что вы скажете? — Декораціи превосходныя. — Эти вопросы и отвѣты слышали мы безпрерывно, на каждомъ шагу. О музыкѣ ни полслова. Что же это значитъ, скажите ради Бога! Публика была тиха, холодна и безмолвна, и только кое-когда и кое-гдѣ раздавались уединенныя рукоплесканія. Не было ни разу общаго увлеченія, общаго восторга, умиленія, общаго рукоплесканія, невольныхъ восклицаній: „браво“, какъ то бываетъ при исполненіи высокихъ или даже граціозныхъ произведеній музыки. Публика молчала и все чего-то ждала, ждала, ждала и, не дождавшись, разошлась въ безмолвіи, въ какомъ-то уныніи… Всѣ вышли изъ театра, какъ съ похоронъ… Впрочемъ, если публика не поняла оперы, то ея не поняли также пѣвцы и оркестръ, словомъ, всѣ мы виноваты“.
„Второе представленіе прошло не лучше перваго“, говоритъ въ своихъ „Запискахъ“ самъ Глинка.
Въ партерѣ офицеры повторяли слова одного высокопоставленнаго военнаго:
— Смотри, не попадись: пошлютъ не на гауптвахту, хуже, — „Руслана“ слушать.
Однако, уже съ третьяго представленія начался поворотъ. Петрова 1-ая, оправившись отъ болѣзни, выступила въ роли Ратмира и своимъ чуднымъ пѣніемъ увлекла слушателей. Въ то же время сложная музыка „Руслана“ понемногу дѣлалась понятнѣе недоумѣвавшимъ вначалѣ итальяноманамъ и съ каждымъ представленіемъ завоевывала себѣ новыхъ почитателей. Булгаринъ прекратилъ свои нападки; а Сенковскій и князь Одоевскій въ сочувственныхъ статьяхъ старались разъяснить истинныя красоты новой русской оперы. И что-же? съ конца ноября 1842 г. до Великаго поста 1843 г., т.-е. въ теченіе не полныхъ трехъ мѣсяцевъ, „Русланъ“ выдержалъ 32 представленія, тогда какъ лучшая изъ оперъ Россини „Вильгельмъ Телль“ въ первый сезонъ прошла всего 16 разъ. Такимъ образомъ, Глинка могъ быть все-таки доволенъ достигнутымъ музыкальнымъ успѣхомъ, который принесъ ему и успѣхъ матерьяльный: за одинъ сезонъ ему досталось разовыхъ три тысячи руб. сер. Довольнѣе его былъ только декораторъ Роллеръ, который, безъ всякихъ треволненій, за эскизы заколдованнаго замка Черномора былъ удостоенъ званія академика.
Въ довершеніе торжества Глинки, прибывшій вновь въ Петербургъ весною того-же 1843 г. Листъ на одномъ изъ своихъ блестящихъ концертовъ сыгралъ два номера изъ „Руслана“: маршъ Черномора (въ своей собственной транскрипціи) и „Лезгинку“ (въ фантазіи Фольвейлера). Своимъ геніальнымъ исполненіемъ, возбудившимъ самый неистовый восторгъ, этотъ міровой виртуозъ далъ „Руслану“, такъ сказать, высшую музыкальную санкцію.
Эпилогъ
Русланомъ“ завершилось творчество Глинки, какъ создателя русской оперы; а потому о дальнѣйшихъ годахъ его жизни мы можемъ ограничиться немногими словами.
Великимъ постомъ 1843 г. въ Петербургъ пріѣхалъ знаменитый теноръ Рубини. Его концерты, а затѣмъ и нѣсколько спектаклей со сборной труппой изъ нѣмецкихъ и русскихъ пѣвцовъ имѣли у итальяномановъ такой шумный успѣхъ, что дирекція театровъ рѣшила завести постоянную итальянскую оперу. Съ осени того-же года открылись представленія этой оперы съ первоклассными артистами-итальянцами (Рубини, Тамбурини, Віардо); въ помощь къ нимъ были взяты и лучшія силы изъ русской оперной труппы. Тутъ нашей публикой овладѣло уже поголовное „итальянобѣсіе“ (выраженіе Глинки), и русская опера осиротѣла.
Воцареніе итальянцевъ на сценѣ Большого театра не могло, конечно, не отразиться пагубнымъ образомъ на вдохновеніи и на общемъ настроеніи духа Глинки. Его неудержимо потянуло опять заграницу. Еще до своего отъѣзда (въ маѣ 1844 г.), онъ имѣлъ, однако, утѣшеніе прочесть напечатанную въ журналѣ „Revue de Paris“ статью Анри Меримѐ, неоднократно видѣвшаго оперу „Жизнь за царя“ въ Москвѣ. Въ статьѣ этой, между прочимъ, говорилось:
„Жизнь за царя“ — это болѣе, чѣмъ опера, — это національная эпопея, это — лирическая драма, возвращенная къ благородству первоначальнаго своего назначенія, къ тѣмъ временамъ, когда она была не пустой забавой, а патріотическимъ и религіознымъ торжествомъ. Хотя я и иностранецъ, но никогда не могъ присутствовать на этомъ представленіи безъ живого и симпатическаго чувства…“
Отзывъ этотъ былъ не единичный: въ слѣдующемъ (1845) году, когда парижане услышали въ нѣсколькихъ концертахъ сочиненія Глинки, какъ въ его собственномъ исполненіи, такъ и въ исполненіи Берліоза, парижскія газеты наперерывъ заговорили о великой новости — русской музыкѣ; при чемъ высказывалась даже мысль поручить Глинкѣ писать оперы для парижскихъ театровъ.
Но хрупкая натура его была уже надломлена. Точно не находя себѣ нигдѣ покою, онъ съ 1844 г. до самой своей кончины (въ 1857 г.) жилъ вѣчнымъ скитальцемъ, то въ чужихъ краяхъ (въ Парижѣ, въ Испаніи, въ Берлинѣ), то въ разныхъ мѣстахъ Россіи (въ Петербургѣ, въ Царскомъ Селѣ, въ Варшавѣ, въ Смоленскѣ и въ Новоспасскомъ). Постоянно хворая, онъ нерѣдко страдалъ невыносимыми нервными болями и замираніемъ сердца, послѣ чего слѣдовали всегда, въ видѣ реакціи, безвыходная хандра и апатія.
Правда, что не малую роль въ этихъ болѣзненныхъ припадкахъ играла также свойственная хворымъ людямъ мнительность. По удостовѣренію доктора Гейденрейха, Глинка, чувствуя себя нездоровымъ, тотчасъ давалъ волю воображенію и „дѣлалъ изъ мухи слона“.
„Помню (разсказываетъ Гейденрейхъ), какъ однажды прибѣжалъ ко мнѣ впопыхахъ его слуга съ просьбою, чтобы я поспѣшилъ къ Михаилу Ивановичу, „у котораго-де параличъ“.
„— Это самъ баринъ тебѣ сказалъ? — спросилъ я посланнаго.
„— Они сами.
„Этихъ двухъ словъ было достаточно, чтобы разсѣять всѣ мои опасенія. Въ полной увѣренности, что Глинка чудитъ, я отправился къ моему мнимому больному. Застаю его недвижно лежащимъ на диванѣ: голосъ слабый, томный, рукою не шевелитъ, однимъ словомъ… здоровехонекъ, но привередничаетъ. Щупаю пульсъ, осматриваю недвижную руку, — все благополучно, и нѣтъ ни малѣйшаго признака паралича. Заставляю Мишеля пошевельнуть пальцами „пораженной“ руки…
„— Какъ можно! — восклицаетъ онъ болѣзненнымъ, плаксивымъ голосомъ: — ты видишь, она у меня не двигается.
„— Попробуй взять аккордъ на фортепіано.
„— Что ты выдумалъ! Видишь — не могу.
„Я прописалъ ему пилюли, въ которыхъ врачебныхъ спецій было именно настолько-же, въ какой степени у Мишеля былъ параличъ: пилюли были скатаны изъ хлѣбнаго мякиша. Приказавъ больному исправно ихъ принимать, я уѣхалъ, давъ слово навѣстить его завтра. За ночь мой паціентъ совершенно поправился, онѣмѣніе руки какъ рукой сняло. Пріѣзжаю утромъ.
„— Лучше?
„— Слава Богу, получше.
„— Сядь къ фортепіано, возьми аккордъ.
„— Попробую.
„Попробовалъ — и слава Богу: пальцы съ обычной быстротой бѣгаютъ по клавишамъ. Долгое время послѣ того я не выводилъ моего друга изъ заблужденія, что избавилъ его отъ паралича — пилюлями изъ хлѣбнаго мякиша“.
Чувствуя временное облегченіе, Глинка, жизнерадостный по природѣ, спѣшилъ тотчасъ пользоваться благами жизни, — впрочемъ, уже не съ прежней пріятельской „братіей“, которая въ 1844 г. сама собой распалась. Въ Парижѣ онъ дружески общался съ Берліозомъ, въ Берлинѣ съ Мейерберомъ, цѣнившими въ немъ геніальнаго собрата; въ Петербургѣ же къ нему сами являлись на поклонъ молодые таланты: Даргомыжскій, Сѣровъ, Балакиревъ, почитавшіе въ немъ родоначальника русской музыки. Въ свѣтлыя минуты находило на него и прежнее вдохновеніе. Кромѣ нѣсколькихъ романсовъ, онъ сочинилъ такія замѣчательныя пьесы, какъ „Арагонская Хота“, „Ночь въ Мадридѣ“ и „Камаринская“. Временами онъ замышлялъ еще болѣе крупныя вещи. Въ послѣднее свое пребываніе въ „мѣстечкѣ“ Парижѣ (изъ его собственныхъ словечекъ) онъ принялся было за украинскую симфонію „Тарасъ Бульба“, но такъ ее и не дописалъ. Потомъ, за два года до смерти, онъ вошелъ въ переговоры съ начальникомъ репертуарной части петербургской оперы Федоровымъ относительно задуманной имъ, Глинкой трехъактной оперы „Двумужница или Волжскіе разбойники“, но за нее потомъ даже не принимался. Геній его иногда окрылялся, но тѣлесные недуги не давали уже ему подняться на прежнюю высоту.

Послѣ всякаго своего странствія на чужбинѣ, возвращаясь въ Россію на отдыхъ, Глинка все болѣе привязывался къ своей любимой сестрѣ, Людмилѣ Ивановнѣ Шестаковой: живя при немъ и въ Смоленскѣ и въ Варшавѣ и въ Царскомъ Селѣ и въ Петербургѣ, она ходила за страждущимъ, какъ сестра милосердія, какъ мать за больнымъ ребенкомъ. Когда онъ вернулся въ послѣдній разъ, въ маѣ 1854 г., она заблаговременно перебралась уже на дачу въ Царское Село, помѣстительную и уютную, а по переѣздѣ оттуда съ братомъ осенью въ Петербургъ, наняла цѣлый этажъ (въ домѣ Томиловой въ Эртелевомъ переулкѣ) съ анфиладой въ пять большихъ комнатъ. Въ залѣ въ четыре окна стоялъ прекрасный рояль, и здѣсь же по вечерамъ нерѣдко собирались у нихъ добрые знакомые „помузыканить“. Какъ повсюду (даже въ Испаніи), Глинка обзавелся опять пѣвчими птицами, которыя летали у него на волѣ. По цѣлымъ часамъ сидѣлъ онъ за письменнымъ столомъ, чтобы подъ птичье пѣнье и чиликанье писать, — уже не ноты, а свои „Записки“. Уговорила его къ тому сестра, и каждое утро, въ 9 часовъ, за чаемъ, онъ прочитывалъ ей вновь написанное. Затѣмъ онъ развлекался также съ маленькой племянницей, обучая ее рисованію, музыкѣ, пѣнію или разсказывая ей сказки.

На Рождествѣ 1855 г. Людмила Ивановна устроила для своей дочурки елку. На слѣдующій день братъ неожиданно обратился къ ней съ просьбой сдѣлать и для него елку.
— Это будетъ уже моя елка, — сказалъ онъ, — и приглашу я на нее, кого хочу.
Приглашенными оказались молодой композиторъ Даргомыжскій съ сестрою, карикатуристъ Степановъ съ женою и семейство Бѣленицыныхъ: мать съ двумя дочерьми, изъ которыхъ старшая была очень музыкальна и прекрасно пѣла. Когда стоявшая посреди большого зала елка засіяла огнями, на Глинку нашелъ вдругъ веселый стихъ.
— А теперь потанцуемъ, — объявилъ онъ. — Ну-ка, сестрица, мазурку.
Людмила Ивановна сѣла за рояль и заиграла мазурку. Братъ ея схватилъ за руку младшую Бѣленицыну, Даргомыжскій — старшую, и вокругъ елки начался изящный и оживленный польскій танецъ. Несмотря на свои годы и тучность, Глинка танцовалъ легко и продѣлывалъ аккуратно всѣ фигуры, которыя придумывалъ Даргомыжскій, танцовавшій въ первой парѣ. Но тутъ Даргомыжскій опустился на одно колѣно и закружилъ свою даму вокругъ себя. Глинка сдѣлалъ то же; но когда надо было ему приподняться опять съ полу, то всѣ усилія его были напрасны. Дамы со смѣхомъ поспѣшили поднять его; Даргомыжскій же, стоя въ сторонѣ, только посмѣивался.
— Смотрите-ка, какъ онъ злокачественно ухмыляется! — замѣтилъ Глинка. — Эге! да ты, баринъ, видно, съехидничалъ надо мною!
На этомъ танцы и прекратились. Но дружба двухъ композиторовъ ни на минуту не нарушилась: они тотчасъ сѣли вмѣстѣ за рояль, чтобы играть въ четыре руки. Тутъ неожиданно пожаловали еще два „музикуса“: Улыбышевъ и Балакиревъ, и вечеръ обратился самъ собой въ настоящій артистическій, вокально-музыкальный.
Страсть къ перемѣнамъ въ Глинкѣ, впрочемъ, еще не улеглась: тою же зимою онъ принялъ рѣшеніе переселиться въ Берлинъ. 27-го апрѣля 1856 г. онъ сидѣлъ опять въ коляскѣ съ сестрою и В. В. Стасовымъ, провожавшими его до заставы, чтобы проститься съ нимъ—навсегда.
Главною приманкою для него въ Берлинѣ былъ старый его учитель Денъ, котораго онъ величалъ „первымъ знахаремъ въ Европѣ“. Нанявъ себѣ квартиру по сосѣдству съ Деномъ, онъ занялся, подъ его руководствомъ, съ новой энергіей изученіемъ церковной музыки. Объ этихъ занятіяхъ онъ писалъ своему пріятелю К. А. Булгакову:
„Съ Деномъ бьемся съ церковными нотами и канонами разнаго рода, — дѣло трудное, но нарочито занимательное, а дастъ Богъ — и вельми полезное для русской музыки“.
А вскорѣ послѣ того (въ январѣ 1857 г.) онъ сообщалъ сестрѣ своей Людмилѣ очень лестную для его самолюбія вѣсть: „21 (9) января исполнили въ королевскомъ дворцѣ извѣстное тріо изъ „Жизни за царя“: „Ахъ, не мнѣ, бѣдному сиротинушкѣ“. Пѣла партію Петровой по справедливости любимая здѣшней публикой M-me Вагнеръ; она была въ ударѣ и пропѣла очень, очень удовлетворительно. Оркестромъ управлялъ Мейерберъ, и надо сознаться, что онъ отличнѣйшій капельмейстеръ во всѣхъ отношеніяхъ. Я также былъ приглашенъ во дворецъ, гдѣ пробылъ болѣе четырехъ часовъ. Чтобы понять важность этого событія для меня, надобно знать, что это единственный концертъ въ году, tout en grand gala: публики было отъ 500 до 700 особъ, все залито золотомъ и сверкало брилліантами. Если не ошибаюсь, полагаю, что я первый изъ русскихъ, достигшій подобной чести…“
Но этотъ же концертъ былъ и его послѣднимъ торжествомъ и ускорилъ его смерть. Выходя изъ жаркихъ покоевъ королевскаго дворца на морозъ, Глинка жестоко простудился. Подъ вліяніемъ бившей его простудной лихорадки, старинная его болѣзнь — ожирѣніе печени — причиняла ему адскія страданія, не позволяя ему въ теченіе двухъ послѣднихъ недѣль жизни даже принимать пищу, такъ что непосредственною причиной его смерти было, можно сказать, физическое истощеніе отъ продолжительнаго голоданія. Тѣмъ не менѣе, въ рѣдкія минуты, когда ему было нѣсколько легче, онъ острилъ и шутилъ съ своимъ докторомъ, съ приставленными къ нему двумя сидѣлками. Такъ, еще наканунѣ смерти, онъ надѣлъ себѣ на голову чепецъ одной изъ сидѣлокъ; замѣтивъ же недоумѣвающую мину навѣстившаго его русскаго (молодого композитора Кашперева), онъ сказалъ послѣднему по-русски:
— Какъ же ихъ не смѣшить: вѣдь имъ тоска сидѣть день и ночь съ больнымъ старикомъ!
Скончался онъ тихо подъ утро на 3 (15) февраля 1857 г. Гробъ его до кладбища провожали только нѣсколько человѣкъ, въ числѣ ихъ Мейерберъ и Денъ. Надъ могилой былъ временно поставленъ простой мраморный памятникъ съ нѣмецкою надписью. Съ открытіемъ навигаціи, тѣло покойнаго было доставлено на пароходѣ въ Кронштадтъ (желѣзной дороги за границу въ то время еще не существовало), а изъ Кронштадта перевезено въ Петербургъ для погребенія на кладбищѣ Александро-Невской лавры. На гранитѣ памятника высоко-художественной работы академика И. И. Горностаева была высѣчена строчка нотъ „Славься“. Тридцать лѣтъ спустя, вокругъ памятника была поставлена чрезвычайно своеобразная и изящная желѣзная кованная рѣшетка, работы архитектора И. П. Ропета: надъ двумя мраморными музыкальными скрижалями съ надписью: „Жизнь за царя“ и „Русланъ и Людмила“ разливается золотое сіяніе, при чемъ каждый лучъ — одна изъ главныхъ музыкальныхъ темъ Глинки; по сторонамъ же скрижалей на всей рѣшеткѣ — названія его главныхъ произведеній, переплетенныя русскими національными орнаментами.

Какъ перевозка тѣла Глинки на родину, такъ и постановка надъ нимъ достойнаго памятника было дѣломъ его сестры, Л. И. Шестаковой23. Мало того: задавшись цѣлью — содѣйствовать всѣми средствами ознакомленію всѣхъ русскихъ съ музыкою ея геніальнаго брата, она еще при его жизни озаботилась собрать всѣ его романсы, а тѣ изъ нихъ, которыхъ не было уже въ продажѣ, заставила его самого написать на память. Большія оркестровыя партитуры его двухъ оперъ имѣлись каждая всего въ двухъ экземплярахъ: по одному въ петербургскомъ и московскомъ театрахъ. Глинка выражалъ опасеніе, какъ бы съ ними чего не случилось, и Людмила Ивановна распорядилась снятіемъ двухъ копій съ каждой партитуры, заставила самого брата свѣрить ихъ и по одной копіи отослала на сохраненіе къ Дену въ Берлинъ: Предосторожность оказалась не излишней: въ 1853 г. сгорѣлъ Большой театръ въ Москвѣ и съ нимъ погибли партитуры обѣихъ оперъ; шесть лѣтъ спустя, сгорѣлъ Маріинскій театръ въ Петербургѣ и съ нимъ партитура „Руслана“.
По духовному завѣщанію Глинки, единственною наслѣдницею его была назначена также любимая сестра его, Л. И. Шестакова. Отцовское имѣніе, с. Новоспасское, Людмила Ивановна передала, однако, тотчасъ по кончинѣ брата, въ полную собственность младшей сестрѣ своей Ольгѣ Ивановнѣ. Себѣ оставила она лишь право на изданіе его сочиненій, — не для матеріальной пользы, а для увѣковѣченія его памяти: на ея собственныя средства были постепенно напечатаны всѣ его произведенія и даже огромныя партитуры обѣихъ оперъ. По ея же стараніямъ разрѣшена была подписка по всей Россіи на сооруженіе памятника ея брату въ Смоленскѣ. Въ 1885 г., въ день его рожденія — 20-го мая, состоялось торжественное открытіе этого прекраснаго памятника, особенно поражающаго своей художественно-оригинальной рѣшеткой (по рисунку архитектора И. С. Богомолова), составленной изъ музыкальныхъ темъ Глинки. Людмилѣ же Ивановнѣ, наконецъ, принадлежитъ и починъ въ учрежденіи при петербургской консерваторіи Музея М. И. Глинки.

Наибольшую поддержку въ ознакомленіи русскаго общества съ произведеніями ея брата Людмила Ивановна нашла въ его горячемъ поклонникѣ, М. А. Балакиревѣ, директорѣ „Безплатной Музыкальной Школы“ въ Петербургѣ. Благодаря неослабной энергіи этого высокоталантливаго руководителя, названная школа сдѣлалась какъ бы разсадникомъ любителей музыки Глинки, которые затѣмъ, въ свою очередь, способствовали популяризаціи его произведеній. Онъ же, г. Балакиревъ, сдѣлалъ первый опытъ показать Западной Европѣ цѣлую оперу Глинки: еще въ 1867 г., подъ его личнымъ дирижерствомъ, „Русланъ“ былъ поставленъ на чешскомъ театрѣ въ Прагѣ и прошелъ съ шумнымъ успѣхомъ.
Въ день перваго представленія „Руслана“ въ Петербургѣ (27 ноября 1842 г.) у Глинки въ порывѣ отчаянья вырвались слова:
— Меня поймутъ у насъ развѣ что черезъ сто лѣтъ!
Протекъ затѣмъ, дѣйствительно, хоть и не цѣлый вѣкъ, но полвѣка, когда въ стѣну дома въ Эртелевомъ переулкѣ, гдѣ жилъ Глинка въ послѣдній разъ въ Петербургѣ, была вдѣлана доска, носящая его имя, а улица, проходящая мимо опернаго Маріинскаго театра и консерваторіи, возникшей на мѣстѣ прежняго Большого театра, наименована „улицею Глинки“. Противъ такого увѣковѣченія его памяти въ потомствѣ не раздалось уже ни одного голоса: какъ въ Россіи, такъ и за границей его великое значеніе, какъ создателя русской оперной музыки, признано единодушно.
Изъ всѣхъ родныхъ Глинки, знавшихъ его лично, находятся еще въ живыхъ только два лица: сестра его Людмила Ивановна Шестакова и племянница, вдова сенатора, Юлія Дмитріевна Беръ. Братья его умерли холостыми; многочисленное же потомство его сестеръ составляетъ какъ бы одну большую родственную семью.
А что же сталось съ селомъ Новоспасскимъ, въ которомъ онъ увидѣлъ впервые свѣтъ Божій? — Увы! по смерти сестры его Ольги Ивановны, мужъ ея продалъ имѣніе одному купцу (Рыбакову), а тотъ отнесся къ покупкѣ исключительно съ своей коммерческой точки зрѣнія: разобравъ по бревнамъ весь домъ, построенный съ такимъ тщаніемъ и любовью отцомъ Глинки, онъ перевезъ его въ г. Коломну; ка̀къ поступилъ онъ съ оранжереями и съ обоими садами: фруктовымъ и цвѣточнымъ, — мы не знаемъ. Но въ настоящее время отъ нихъ также не осталось и слѣда. Память же о Михаилѣ Ивановичѣ Глинкѣ еще болѣе жива, чѣмъ при его жизни, потому что нѣтъ теперь такого уголка на всемъ пространствѣ Россіи, гдѣ бы истинные цѣнители русской музыки не восхищались музыкою „Жизни за царя“ и „Руслана и Людмилы“.
☆☆☆
-
Отдавшись впослѣдствіи всей душой своему природному призванію — музыкѣ, Глинка остался въ живописи навсегда дилетантомъ. Но насколько онъ все же усовершенствовался и въ этомъ искусствѣ — показываетъ прилагаемый (въ уменьшенномъ видѣ) рисунокъ, на которомъ сдѣлана другомъ его, знаменитымъ Брюлловымъ, одобрительная надпись. ↩
-
Для знакомыхъ съ нотами мы приводимъ здѣсь мотивъ этой школьнической пѣсни, записанный М. И. Глинкой много лѣтъ спустя:
-
С. А. Соболевскій, хорошій пріятель Пушкина, извѣстный многими, чрезвычайно мѣткими эпиграммами на разныхъ современниковъ. ↩
-
Второстепенные учителя эти были: Оманъ, Вейнеръ и Карлъ Мейеръ. ↩
-
Лучшая опера Россини — „Вильгельмъ Телль“ — появилась только 7 лѣтъ спустя, въ 1829 году. ↩
-
Изъ этихъ первыхъ опытовъ Глинки сохранились только варіаціи на тему Моцарта (Es–dur) для арфы и фортепіано, и то лишь потому, что сестра его Людмила Ивановна играла ихъ въ дѣтствѣ, и по ея воспоминаніямъ братъ записалъ ихъ вновь въ 1854 г. ↩
-
Поэтъ и лицейскій другъ Пушкина. ↩
-
Баллада финна въ оперѣ „Русланъ и Людмила“. ↩
-
Романсъ: „Не пой, красавица, при мнѣ / Ты пѣсенъ Грузіи печальной…“ ↩
-
Княгиня Наталья Петровна Голицына, урожд. графиня Чернышева (1741–1837). Въ 1766 г., въ придворной карусели получила отъ Екатерины Великой первый призъ — брилліантовую розу; въ 1801 г., къ коронаціи Александра I, пожалована орденомъ Св. Екатерины меньшого креста, а въ 1806 г. — званіемъ статсъ–дамы. ↩
-
Извѣстный впослѣдствіи музыкальный критикъ, писавшій подъ псевдонимомъ „Ростиславъ“. ↩
-
Миланскій соборъ, вмѣщающій въ себѣ до 40,000 человѣкъ, начатъ постройкой еще въ 1386 г., оконченъ же только въ 1805 г. ↩
-
Общій ихъ петербургскій знакомый. ↩
-
Катерино Альбертовичъ Кавосъ (1775–1840) родился въ Венеціи, гдѣ и прожилъ до 1798 г., когда получилъ приглашеніе въ Петербургъ. Сперва онъ управлялъ здѣсь итальянской оперой, потомъ французской и, наконецъ, русской. Для послѣдней онъ написалъ нѣсколько оперъ на русскіе сюжеты: „Князь Невидимка“ (1805), „Илья Богатырь“ (1806), „Крестьяне“ (1813), „Иванъ Сусанинъ“ (1815) и другія. Дольше другихъ удержался на сценѣ „Сусанинъ“. ↩
-
Въ драмѣ Шекспира „Король Ричардъ III“ этотъ король, въ пылу битвы лишившись коня, восклицаетъ: „Коня, коня, полцарства за коня!“ ↩
-
Николай Алексѣевичъ Полевой (1796 — 1846) — извѣстный въ свое время литераторъ, авторъ „Исторіи русскаго народа“ и издатель журнала „Московскій Телеграфъ“, запрещеннаго изъ–за упомянутаго неблагопріятнаго отзыва о драмѣ Кукольника. ↩
-
Планъ этотъ сохранился у Кукольника до его смерти (въ 1868 г.) и напечатанъ въ журналѣ „Русская Старина“ 1881 г. На поляхъ плана, рядомъ съ текстомъ, имѣются музыкальныя замѣтки. Названа была пьеса Глинкою первоначально „Иванъ Сусанинъ. Отечественная героико–трагическая опера“. Слово „отечественная“ написано надъ строкой, вмѣсто зачеркнутаго „національ…“ ↩
-
Дебютировалъ этотъ превосходный артистъ на петербургской сценѣ еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ въ 1830 г. въ роли Зороастра въ „Волшебной Флейтѣ“ Моцарта. Въ своей автобіографіи онъ описывалъ этотъ дебютъ такъ: „Первое мое появленіе на сценѣ — стоя на колесницѣ, запряженной тиграми и львами. Повезли меня, голубчика, и только — что колесница показалась на сценѣ, слышу, — публика начинаетъ смѣяться, и чѣмъ ближе подвигается къ аванъ–сценѣ, тѣмъ болѣе смѣхъ усиливается. Представьте мое положеніе! Я готовъ былъ сквозь землю провалиться, думая, что смѣются надо мной. Чего только мнѣ тогда не мерещилось, а между тѣмъ надо было пѣть, когда дыханіе занялось отъ страха и конфуза. Когда, наконецъ, колесница остановилась, публика перестала хохотать, но апплодисмента ни одного. Я кое–какъ собрался съ духомъ и пропѣлъ первый речитативъ: „Возстань, прелестная дѣва“ и пр. и сошелъ съ колесницы; слушаю, — публика не смѣется. Пропѣлъ арію, — поапплодировали немного. „Ну, думаю себѣ, — слава Богу“. Но когда меня стали увозить на колесницѣ, въ публикѣ опять послышался смѣхъ. „Что бы это значило?“ думаю себѣ. Наконецъ, уже за кулисами, я узналъ причину этого смѣха. Оказалось, что звѣри были одѣты кое–какъ, въ худыя шкуры; у кого не хватало половины морды, у кого ноги, у кого хвоста (вотъ какова была постановка въ тѣ времена!). Я же, не зная этого, только напрасно перестрадалъ, думая, что смѣются надо мною. Не будь этой передряги, мой дебютъ сошелъ бы еще удачнѣе. На другой день я съ радостью прочелъ въ „Сѣверн. Пчелѣ“ замѣтку, что „вновь ангажированный молодой артистъ Петровъ подаетъ большія надежды“. ↩
-
Награжденный за свои картины золотою медалью, Айвазовскій, въ 1840 г., дѣйствительно, былъ посланъ для усовершенствованія въ чужіе края. ↩
-
Эта извѣстнѣйшая картина Брюллова находилась первоначально въ Академіи Художествъ; впослѣдствіи ей дали мѣсто въ Императорскомъ Эрмитажѣ, откуда ее перемѣстили потомъ во вновь открытый Русскій музей Императора Александра III. ↩
-
Директоръ Императорской Публичной Библіотеки. ↩
-
Этотъ первоначальный планъ напечатанъ въ журналѣ „Русская Старина“ 1871 г. ↩
-
Двухъ ближайшихъ друзей его: Кукольника и Брюллова, уже не было при немъ: первый переселился на югъ Россіи, гдѣ и умеръ въ 1868 г., а второго не стало еще въ 1852 году. ↩
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.