Воспоминанія о Сиріи
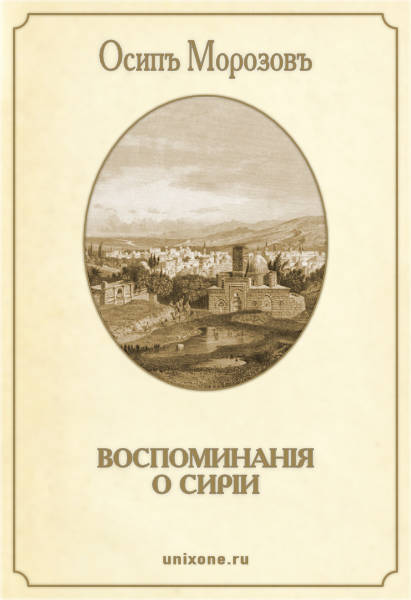
I. Затмѣніе солнца.
Прошедши цвѣтущую молодость скорыми шагами, оборотитесь назадъ, и окиньте взоромъ длинную полосу жизни, которую оставили вы за собою: увидите ее, подобно посѣву, по которому проскакалъ грозный непріятельскій отрядъ, избитою, устланною изломанными, засохшими стеблями впечатлѣній. Нѣкоторыя изъ нихъ, осиротѣвшія соломинки, еще торчатъ на этомъ разоренномъ полѣ, кажутся покрыты листьями, и полуразрушившійся цвѣтокъ тамъ и сямъ колеблется на одинокомъ стебелькѣ, незатоптаннымъ въ песокъ прошедшаго. Вы нѣкогда промчались мимо нихъ и почти ихъ и не примѣтили. Случай сохранилъ ихъ на корнѣ, но тотъ же вѣтеръ, знойный и порывистый, который гналъ васъ передъ собою, раздувая ваше сердце, изсушилъ ихъ, лишилъ сока и цвѣта. Вы хотѣли бъ вознаградить прежнюю невнимательность и насладиться теперь тѣмъ, чего не успѣли и разглядѣть тогда: вы коснулись ихъ мыслію, — и они мгновенно разсыпались въ прахъ. Въ этомъ хаосѣ измятыхъ и изтлѣвшихъ впечатлѣній и чувствъ, въ этомъ обширномъ кладбищѣ надеждъ, погребенныхъ безъ надписи, безъ воспоминанія, быть можетъ, лежитъ и ваша первая любовь, и важное благодѣяніе друга!… Но если посреди него возвышается какой-нибудь памятникъ, твердый и великолѣпный, котораго еще не разрушилъ, не обезобразилъ ѣдкій воздухъ страстей, — этотъ памятникъ безъ сомнѣнія долженъ быть воздвигнутъ въ честь какого-нибудь необыкновеннаго зрѣлища въ Природѣ, поразившаго васъ въ юныя лѣта. Сильныя впечатлѣнія мертвой Природы врѣзываются въ душу нашу гораздо глубже и остаются въ ней долѣе всѣхъ другихъ ощущеній жизни, — что бы ни говорили историки нашего несчастнаго сердца. Я не думаю, чтобы житель равнины, перенесенный на высокія горы, могъ когда-нибудь забыть ихъ образъ: десять образовъ обожаемыхъ лицъ пройдетъ черезъ душу, пожирая, изглаживая другъ друга, но картина великолѣпныхъ горъ, теряющихся въ облакахъ и убѣленныхъ вѣчнымъ снѣгомъ, не изотрется въ ней никогда. И чѣмъ большій промежутокъ времени будетъ отдѣлять мысль отъ впечатлѣній, вселенныхъ ихъ видомъ, тѣмъ красивѣйшими формами станетъ воспоминаніе убирать ихъ въ вашемъ умѣ. Неудобства, труды, лишенія, неизбѣжныя въ путешествіяхъ этого рода, быстро изчезаютъ изъ памяти, какъ скоро вы возвращаетесь къ наслажденіямъ привычной жизни: въ васъ остается только очарованіе необыкновеннаго положенія, въ которомъ находились вы на поверхности обитаемой вами планеты.
Я и теперь вижу передъ собою колоссальные очерки пышныхъ громадъ, разпространяющихся тройною каменною цѣпію вдоль обожженной Сиріи, гдѣ протекъ одинъ изъ мучительнѣйшихъ и разнообразнѣйшихъ годовъ моего бытія. Съ тою жадностью къ Наукѣ, съ тою довѣренностью къ своимъ силамъ, съ тѣмъ презрѣніемъ здоровья и упрямствомъ въ достиженіи возмечтанной цѣли, которыя легко себѣ представить въ неопытномъ человѣкѣ лѣтъ двадцати, я нѣкогда бросился, безъ проводника и пособія, въ этотъ неизмѣримый чертогъ Природы, — одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ чертоговъ, воздвигнутыхъ ею на землѣ въ ознаменованіе своего могущества, — не разсуждая объ опасности не выйти изъ страшнаго лабиринта заоблачныхъ вершинъ, на которыхъ можно замерзнуть среди лѣта, и раскаленныхъ пропастей, гдѣ органическая жизнь жарится въ самой страшной духотѣ, какую только солнце производитъ. Ограниченныя средства повелѣвали мнѣ узнавать скоро все, что я могъ узнать въ томъ краю, и не забывать ничего, однажды пріобрѣтеннаго памятью. Съ потомъ чела перетаскивалъ я свои книги съ одной горы на другую, — книги были все мое имущество, — и рвалъ свое горло въ глуши, силясь достигнуть чистаго произношенія Арабскаго языка, котораго звучность въ устахъ Друза или Бедуина, похожая на серебряный голосъ колокольчика, заключеннаго въ человѣческой груди, плѣняла мое ухо новостью и приводила въ отчаяніе своею неподражаемостью1. Уединенныя ущелія Кесревана, окружая меня колоннадою черныхъ утесовъ, вторили моимъ усиліямъ: я нерѣдко самъ принужденъ былъ улыбнуться надъ своимъ тщеславіемъ лингвиста, при видѣ, какъ хамелеоны, весело пробѣгавшіе по скаламъ, останавливались подлѣ меня, раскрывали ротъ, и дивились пронзительности гортанныхъ звуковъ, которые съ такимъ напряженіемъ добывалъ я изъ глубины легкихъ. Возвратясь въ конурку, занимаемую въ какомъ-нибудь Маронитскомъ монастырѣ, я такъ же отчаянно терзалъ свои силы надъ Сирскими2 и Арабскими рукописями, отысканными въ скудной библіотекѣ грамотнаго монаха: поспѣшно списывалъ любопытнѣйшія изъ нихъ, читалъ наскоро тѣ, которыхъ не успѣвалъ списать, дѣлалъ извлеченія, отмѣчалъ найденныя въ нихъ живописнѣйшія фразы или заслышанные идіотизмы3 разговорнаго языка, и твердилъ ихъ наизустъ всю ночь. Два, много три часа отдыха на голой плитѣ, съ словаремъ вмѣсто подушки, были достаточны для возобновленія бодрости къ новымъ, столь же насильственнымъ занятіямъ, которыя прерывались только охотою за бѣгающимъ по сырымъ стѣнамъ келіи скорпіономъ или абу борейсомъ, ящерицею невинною, даже красивою, но поселявшею во мнѣ непреодолимое отвращеніе. Исчерпавъ въ нѣсколько дней мудрость бѣдной Обители, я отправлялся далѣе искать новыхъ упражненій и раздѣлять съ другими отшельниками блюдо вареной въ деревянномъ маслѣ4 чечевицы. Такъ провелъ я шесть или семь мѣсяцевъ, пока неумѣренное напряженіе умственныхъ и тѣлесныхъ силъ, грубая и нездоровая пища, усталость и лишенія всякаго рода не остановили моей пылкости опасною болѣзнію, которая заронила въ мою грудь зародышъ постояннаго страданія, — быть можетъ, преждевременной смерти. Этотъ урокъ еще не уразумилъ юнаго образа мыслей. Едва оправившись отъ горной лихорадки, я снова бросился на Арабскій языкъ съ прежнимъ ожесточеніемъ, и, спустя четыре мѣсяца, опять повергся въ болѣзнь, страшнѣйшую первой, и которая несомнѣнно выдала бы мои кости Шуфскимъ гіенамъ, если бъ добрый и нѣжный пріятель, падшій потомъ на островѣ Явѣ жертвою той же страсти къ путешествіямъ, не вырвалъ меня изъ нѣдръ Ливанскихъ горъ, погруженныхъ въ убійственный зимній туманъ и холодные дожди, и не принудилъ отправиться въ Африку5. Кажется, нельзя болѣе страдать добровольно: за всѣмъ тѣмъ, могучій Сирскій хребетъ является мнѣ по сю пору облеченнымъ блестящею одеждою любимой мечты. Мученія забыты, и память съ трудомъ добываетъ ихъ изъ пыли ветхихъ воспоминаній: одно величіе Ливана всегда живо рисуется въ воображеніи, уже охлажденномъ опытностью, уже опустошенномъ проходами столькихъ привидѣній, столькихъ думъ, столькихъ безплодныхъ надеждъ! Я люблю и теперь взбираться мыслію по этимъ отвѣснымъ утесамъ Восточной Швейцаріи, на которыхъ рука трудолюбиваго Сирійца изсѣкла безчисленные уступы, сдѣлавъ изъ нихъ лѣстницу, ведущую на небо, и куда изъ пропастей принесла она землю, питающую ряды стройныхъ шелковичныхъ деревъ и виноградныхъ лозъ, обвѣшанныхъ огромными гроздями, или скромный ячмень. Люблю переноситься на этотъ нагой и съеженный гранить, какъ бы преграждающій вселенную черною грудью своею, вспаханный человѣкомъ отъ подошвы до самыхъ облаковъ, изъ любви къ независимости, изъ ненависти къ кровавому притѣснителю. Вижу еще подъ моими ногами эти глубокія долины съ зеленымъ дномъ, съ голубымъ, шумящимъ потокомъ, съ розовою полосою цвѣтущаго подлѣ воды рододендрона, съ желтыми домами веселаго посада, — и надъ моей головою, эти острыя вершины, здѣсь окруженныя вѣнцемъ изъ облаковъ, съ монастыремъ и церковью за облаками, тамъ чистыя и блестящія ослѣпительною бѣлизною снѣга, освѣщеннаго солнцемъ, далѣе убранныя благородными сосновыми рощами и библейскимъ кедромъ6. Слышу этотъ умильный звукъ Христіанскаго колокола, струящійся длиннымъ серебрянымъ эхомъ въ каменномъ лѣсу вершинъ, уже почти подъ самымъ небеснымъ сводомъ, и со всею святостью Вѣры господствующій на высотѣ, въ эѳирныхъ слояхъ атмосферы, тогда какъ на мутномъ днѣ ея, на приморской равнинѣ, нечистый мусульманинъ извергаетъ свои безсильныя богохуленія; слышу даже этотъ звонкій голосъ Аравитянина, поющаго цѣлымъ объемомъ благозвучной груди пѣснь въ честь Пречистой Дѣвы, слѣдуя по крутому скату за навьюченными землею ослами, и заставляющаго горы, среди мусульманской Державы, громко повторять за нимъ его благочестивые гимны7. Взойдите пять или шесть тысячъ футовъ надъ поверхностью моря, и вы подлинно очутились въ другомъ мірѣ: вы принимаете въ вашу грудь тонкую жидкость, совершенно различную отъ грубаго воздуха, которымъ дышали на равнинѣ; кровь течетъ въ васъ иначе, иначе бьется сердце, новый рядъ чувствованій и мыслей развертывается передъ вами, и окружаетъ васъ новыми понятіями, и, душа поистинѣ столько же облагороживается на вершинахъ земли, сколько и на первыхъ высотахъ общества. Вы, кажется, не принадлежите къ вашей планетѣ, превращаетесь въ безплотный разумъ, повѣшенный подобно звѣздѣ въ безконечномъ пространствѣ, мерцающій гдѣ-то высоко слабымъ, но собственнымъ блескомъ, и едва примѣчающій эту отдаленную, мрачную пещеру пошлыхъ страстей и ничтожной гордости вашего племени. Человѣкъ исчезъ въ безднѣ; его дороги, сады, украшенія попираемой имъ почвы, слились съ сѣрымъ туманомъ, образующимъ тину воздушнаго океана; его огромные памятники являются вамъ черною, почти непримѣтною точкою; его пышные, многолюдные города принимаютъ видъ ничтожныхъ муравейниковъ: вамъ хочется поставить ихъ подъ микроскопъ, чтобъ открыть смышленость, нравы и работы обитающаго на немъ насѣкомаго, и обогатить Энтомологію новою главою о муравьѣ-человѣкѣ. Вы не въ силахъ повѣрить, чтобы въ этихъ кучкахъ склееннаго песку, утопшихъ въ слоѣ грязной мглы, могли обитать величіе, надменность, слава, и готовы воскликнуть: нѣтъ! тамъ ихъ и быть не можетъ!… Не то слава и величіе должны быть также извѣстны въ ульѣ и въ муравейникѣ, а въ обширныхъ чертогахъ Африканскаго муравья, ведущаго войны, грабящаго собственность другихъ червей и порабощающаго побѣжденныхъ, и подавно! Или то, что я видѣлъ на равнинѣ, сонъ, или все въ мірѣ зависитъ отъ физической высоты, съ которой смотришь, и отъ устройства глаза!
Усилія мои въ изученіи мѣстнаго Арабскаго нарѣчія вѣнчались успѣхомъ, который льстилъ моему самолюбію: я сознаюсь въ этомъ безъ ложной скромности, такъ смѣло, какъ бы сказалъ, что выучился чисто работать скоблемъ, если бъ когда-нибудь занимался столярнымъ дѣломъ. Между этимъ упражненіемъ н наукою языковъ я усматриваю большое сходство: первое — механическое дѣло руки, вторая — механическое дѣло органовъ намяти, жеванія и глотанія. Но преодоленная трудность всегда дѣлается для насъ, даже и въ столярномъ ремеслѣ, источникомъ самодовольства и гордости: я считалъ себя почти равнымъ Аристотелю, когда Аравитяне, — которые къ своему языку проникнуты настоящимъ обожаніемъ любовниковъ, и новые каламбуры, быть можетъ весьма основательно, — цѣнятъ такъ же высоко, какъ мы новыя мысли, — называли меня фейлусуфъ, философомъ, за то, что я хорошо произносилъ ихъ гортанныя буквы, или спорили со мною, что я не Франкъ8, а долженъ быть ибнъ-элъ-Арабъ, Арабскій сынъ. Мнѣ удалось состряпать десятокъ дурныхъ Арабскихъ стиховъ, которые имѣли большой успѣхъ въ околоткѣ, и слава моя распространилась на нѣсколько смежныхъ горъ. Шейхи9 (дворяне) Маронитовъ10 и Друзовъ11 часто заѣзжали ко мнѣ выкурить трубку джебели12 съ любопытнымъ Франкомъ, который «знаетъ толкъ», и освѣдомиться о политическихъ новостяхъ Европы — здоровъ ли Папа? что дѣлаетъ Фагфуръ13, Китайскій Императоръ? и проч. Отвѣты, которые предоставлялъ я придумывать для нихъ своему воображенію, стараясь только, чтобы занимательность извѣстія не превосходила добродушной ихъ легковѣрности, доставляли обильную пищу политическимъ соображеніямъ шейховъ, игуменовъ, протоіереевъ и епископовъ Шуфа14. Шейхи и значительнѣйшіе жители изъ средняго сословія находили меня очень знающимъ въ искусствѣ «шить и пороть», то есть, государственнаго управленія; монахини ордена Св. Терезіи, съ которыми почтенный епископъ Сукъ-эль-кебира, старый весельчакъ, воспитанный въ Римской пропагандѣ15, меня познакомилъ и благословилъ на ежедневную бесѣду, даже на каламбуры, были крайне довольны моими свѣдѣніями о туалетъ Европейскихъ женщинъ; но монахи скоро возъимѣли обо мнъ весьма дурное мнѣніе по случаю одного разсужденія въ обществъ, одушевленномъ золотистою влагою винъ-д’оро, гдѣ я сталъ доказывать, что земля обращается около солнца. Несмотря на покровительство моего пріятеля, епископа, который защищалъ меня всѣми силами, и на громкое одобреніе знаменитаго шейха Бешары, толстаго и веселаго пьяницы, представлявшагося вольнодумцемъ и находившаго забавнымъ, по духу противорѣчія, вѣрить, что солнце не обращается вокругъ земли, когда оно очевидно обращается, я примѣтилъ, что нѣкоторые монахи, особенно одинъ, подозрительной нравственности и выдававшій себя за астролога, стараются провозгласить меня еретикомъ. Слово фармазунъ16 нѣсколько разъ раздалось въ моихъ ушахъ, и чрезвычайно меня встревожило: конечно, званіе Русскаго, весьма уважаемое въ тѣхъ горахъ, обезпечивало меня отъ личной обиды, но первое и самое ощутительное слѣдствіе подобной репутаціи могло быть то, что никто изъ поселянъ не продалъ бы мнѣ ни глотка живности и ни одинъ погонщикъ пе отдалъ бы подъ меня своей скотины, боясь, чтобъ оселъ, на которомъ ѣхалъ фармазунъ, не издохъ немедленно17. Хотя моя теорія о солнцѣ возбуждала большое любопытство въ цѣломъ околоткѣ, н даже въ монахиняхъ, но я рѣшился изъ благоразумія не доказывать, что земля обращается около этого свѣтила. Мы только разсуждали объ ней наединѣ съ префектомъ монастыря Дейръ-Маръ-Якубъ, гдѣ я жилъ въ то время, — добрымъ моймъ пріятелемъ, взявшимся, по-видимому, убѣдить меня въ неосновательности моего мнѣнія изъ ревности къ моему блаженству въ будущей жизни: онъ былъ крайне доволенъ собою, когда я пересталъ дѣлать ему возраженія, я увѣренъ, что съ одной стороны спасъ солнце, а съ другой мою душу, заставивъ меня обнаруживать изъ учтивости притворное согласіе съ его ученіемъ, которое основывалъ онъ на свидѣтельствѣ самого Аристу-эль-кебиръ, — самого Великаго Аристотеля!
Въ одинъ изъ прекраснѣйшихъ Іюльскихъ дней, — изъ тѣхъ дней, какіе можно только видѣть подъ Сирскимъ небомъ, — я гулялъ съ книгою въ рукѣ, по плоской крышѣ славнаго монастыря въ Айнъ-Тура, занимающаго одно изъ величественнѣйшихъ мѣстоположеній въ мірѣ съ безконечными видами иа горы, ущелія, роскошныя долины, богатыя рощи, виноградные и тутовые сады и Средиземное Море, разстилающееся въ пространствѣ, какое только можно обнять взоромъ съ высоты двухъ тысячъ футовъ. Было около четырехъ часовъ по-полудни. Солнце сіяло полнымъ южнымъ блескомъ, и лазуревый сводъ горѣлъ настоящимъ пожаромъ свѣта, разливавшагося ослѣпительными потоками, которые, казалось, превращались въ бѣлую пѣну, ударяясь объ известковый цвѣтъ мѣстной почвы. Внизу, разплавленный воздухъ кипѣлъ въ точномъ смыслѣ слова: левами18; «блестки», родъ огненныхъ иголокъ, плясали въ немъ съ необыкновенною быстротою, представляя видъ движущейся каши изъ мелко-рубленныхъ лучей солнца. Вверху, на высотѣ монастыря, атмосфера была довольно прохладна, и легкій вѣтеръ съ моря, насыщенный благоуханіемъ ароматическихъ травъ, растущихъ въ нижней части горъ, придавалъ ей упоительную свѣжесть. Ни одно пятно нигдѣ ея не помрачало: даже монастырь Дейръ-Маръ-Якубъ, занимающій глубину картины, скинулъ съ себя на это время сѣрый свой плащъ изъ облаковъ. Занятый чтеніемъ, я долго не примѣчалъ ни какой перемѣны въ солнечномъ свѣтѣ, какъ наконецъ тусклый желтый цвѣтъ, внезапно разлившійся по страницамъ моей книги, возбудилъ во мнъ любопытство. Я хотѣлъ отыскать вокругъ себя причину этого явленія. Прежде всего, поразили меня толпы Аравитянъ въ разноцвѣтныхъ одеждахъ, накопляющіяся на ближайшихъ возвышеніяхъ: люди выбѣгали изъ домовъ на крыши и на уступы горъ; безпокойство отражалось въ ихъ движеніяхъ и шумѣ. Они смотрѣли на солнце. Я устремилъ глаза туда же, и увидѣлъ прекраснѣйшее, какъ только можно себѣ представить, затмѣніе. Лучше и чище не возможно было бы видѣть его и съ помощію телескопа. Дискъ луны, темнаго, почти коричневаго цвѣта, превосходно рисовался на солнечномъ щитѣ, огромномъ, желтомъ, безъ лучей, безъ блеска.
Уже большая половина солнца была закрыта спутникомъ Земли и затмѣніе стояло слишкомъ полтора часа, какъ никто еще въ монастырѣ не зналъ объ этомъ. Я первый извѣстилъ его жителей о важномъ происшествіи на небѣ. Всѣ собрались на крышѣ, и мы провели тутъ еще полтора часа, съ восхищеніемъ наблюдая движеніе двухъ огромныхъ небесныхъ тѣлъ, которыя, пресѣкаясь, хотѣли, такъ сказать, превзойти другъ друга своей огромностью. Затмѣніе было полное: великое драматическое представленіе вселенной вѣнчалось во всѣхъ своихъ частяхъ успѣхомъ, необыкновенно блистательнымъ.
Мы мало обращали вниманія на народъ, ходившій около монастыря: онъ часто окружалъ монаховъ, которые, стоя у воротъ, важно толковали ему свойство дивнаго явленія. Но вдругъ раздался за стѣнами топотъ коней, и я услышалъ знакомые голоса: — Френджи фи-ль бейтъ? — Хаваджа19 Юсуфъ эйнъ-у? «Дома ли Франкъ? Гдѣ Хаваджа Юсуфъ?»
Я былъ извѣстенъ въ горахъ подъ этимъ именемъ.
Скоро взвалился на крышу огромный шейхъ Бешара, съ трудомъ протиснувъ свой желудокъ въ узкую, крутую лѣстницу, служившую сообщеніемъ съ нижнимъ ярусомъ дома. Съ нимъ пришло нѣсколько человѣкъ именитѣйшихъ Маронитовъ изъ Сукъ-эль-кебира и множество служителей. Настоятель монастыря, мой незабвенный наставникъ, авторъ извѣстной Арабской Грамматики, Антонъ Арыда20, былъ опасно боленъ, и прислалъ просить меня, чтобы я заступилъ его мѣсто и принялъ благороднаго шейха, передъ которымъ, какъ передъ правителемъ округа, богачемъ и владѣльцемъ славныхъ виноградныхъ садовъ, производящихъ «золотое вино», всѣ раболѣпствовали. Принесли ковры и подушки. Шейхъ усѣлся, поджалъ подъ себя ноги, и закурилъ трубку. Я сѣлъ противъ него. Прочіе Аравитяне расположились по краямъ ковра. Въ ту самую минуту явился и мой пріятель, префектъ монастыря Дейръ-Маръ-Якубъ: по его разстроенному и запыханному лицу, я тотчасъ смекнулъ, что онъ прибѣжалъ объясниться со мною рѣшительно на счетъ солнца. Толстый шейхъ тоже обнаруживалъ безпокойство, и очевидно хотѣлъ разспросить меня о чемъ-то; но, какъ человѣкъ высшаго тона и хорошо «знающій толкъ», не приступалъ къ дѣлу, пока меня не увѣрилъ, что онъ совершенно «изсохъ» изъ усердія ко мнѣ, и не освѣдомился о состояніи моего здоровья сегодня, вчера, третьяго дня, въ прошлую субботу, въ прошлый понедѣльникъ и десять дней тому назадъ21. Собравъ всѣ эти свѣдѣнія, онъ запилъ ихъ крѣпкимъ горячимъ кофеемъ, помолчалъ изъ приличія, взглянулъ на солнце и на меня, и сказалъ:
— Свѣтъ глазъ моихъ, другъ мой, Хаваджа Юсуфъ! ради твоего отца, скажи, что это значить!
— Да благословитъ тебя Богъ, о шейхъ! это затмѣніе.
— Будто я не вижу, что это затмѣніе! Но что такое это значить?
— Это значитъ, что луна заслонила солнце.
— Луна или чортъ, для меня все равно. Я хочу знать, что это значитъ? Какое это предвѣщаетъ бѣдствіе?
Я засмѣялся. Шейхъ, нѣсколько смущенный моею веселостью въ такое опасное время, быстро отнялъ отъ своихъ устъ трубку, и, вбивая мнѣ ее въ ротъ съ неизъяснимою нѣжностью, примолвилъ:
— Хаваджа Юсуфъ! да продлится твой вѣкъ!… центръ ты моего сердца!… ты философъ; посмотри въ свои книги, и скажи мнѣ, чего должны мы ожидать отъ этого. Говорятъ, будетъ большое несчастіе съ нашими святыми горами.
— О шейхъ! отвѣчалъ я: вы человѣкъ совершенный, владѣтель ума, отецъ смысла: какъ можете вы вѣрить подобному вздору? Затмѣніе вещь самая простая и самая естественная въ мірѣ. Я покажу вамъ книгу, напечатанную въ Константинополѣ, въ которой это явленіе объяснено весьма удовлетворительнымъ образомъ, и вы сами убѣдитесь, что затмѣніе солнца значить только то, что солнце затмилось, а до насъ, рабовъ Божіихъ, отнюдь не касается…
Я побѣжалъ въ свою комнату, и принесъ ему Турецкую Географію Хаджи-Калфы22. Помощію фигуръ, въ ней находящихся, и тѣхъ, которыя самъ я начертилъ на бумагѣ, я старался растолковать ему, какъ только могъ понятнѣе, положеніе солнца въ центрѣ системы и движеніе вокругъ него планетъ и ихъ спутниковъ. Шейхъ былъ не глупъ, и очень хорошо понялъ мое изложеніе. Онъ взялъ изъ моихъ рукъ книгу, осмотрѣлъ ее со всѣхъ сторонъ, и удостовѣрившись, что она дѣйствительно издана въ Царѣградѣ, изъявилъ сожалѣніе, что не знаетъ по-Турецки. Мой пріятель префектъ, который все это время равнодушно курилъ трубку, — онъ выдавалъ себя за знающаго въ Турецкомъ языкъ, особенно когда, завравшись, ссылался на Аристотеля или говорилъ о собакѣ-Вольтерѣ, Бультаръ-эль-кельбъ, — принужденъ былъ, по просьбѣ шейха, дать тоже свое мнѣніе объ этой удивительной книгъ; но, по-несчастію, не понялъ въ ней ни слова, и, возвращая мнъ сочиненіе, сказалъ только, что «это Джаграфія, наука о чудесахъ и рѣдкостяхъ вселенной».
Благородный шейхъ, который и о затмѣніи никогда не разсуждалъ безъ бутылки, раскуривая десятую трубку, далъ уразумѣть, что у него горло совсѣмъ засохло отъ пыли и зноя, и управитель монастыря тотчасъ поклонился ему чернымъ, облитымъ смолою, кувшиномъ стараго шара̀бъ-эдъ-дѐгебъ, или vin d’oro. Разговоръ принялъ другой оборотъ: шейхъ пустился въ Европейскую политику, и тутъ пошли раpспросы о Папѣ, — о Китайскомъ Императорѣ, — о Енги-дунья, или Новомъ Свѣтъ, и такъ далѣе. Само собою разумѣется, что политика шейха не обошлась безъ обстоятельнаго разсужденія объ Европейскихъ женщинахъ: онъ разпространился объ нихъ очень живописно, и побранилъ одного молодаго монаха, который отплевывался во все время этого разговора, и утверждалъ, что онѣ «змѣи». Въ заключеніе, онъ приказалъ одному изъ своихъ придворныхъ, веселому и остроумному юношѣ, отличавшемуся особенною свѣжестью и бѣлизною лица, спѣть такъ, какъ поетъ Французская «консулиха» въ Сайдѣ. Все собраніе хохотало при этомъ карикатурномъ представленіи нашихъ трелей и большихъ выстрѣловъ голоса, и я самъ долженъ былъ сознаться, что шутливый Аравитянинъ весьма удачно схватилъ смѣшную сторону Европейской музыки.
Шейхъ Бешара удалился съ цѣлою компаніею, очень довольный своимъ шутомъ и затменіемъ солнца. Я проводилъ ихъ за ворота, и опять воротился на крышу.
Я думалъ, что они давно уже уѣхали, какъ вдругъ услышалъ говоръ у подошвы зданія, и даже различилъ свое имя. Я заглянулъ черезъ край стѣны. То былъ шейхъ Бешара, — опять съ трубкою въ зубахъ и уже передъ вторымъ кувшиномъ! Онъ и его собесѣдники разположившись на землѣ подлѣ самаго монастыря разсуждали о затмѣніи. Я наклонилъ ухо.
— Конечно! — съ важностью говорилъ префектъ собранію, которое слушало его какъ пророка: — этотъ молодой Франкъ не дуракъ: онъ «знаетъ толкъ», видалъ свѣтъ, и о разныхъ вещахъ разсуждаетъ очень правильно. Только не надо упоминать передъ нимъ о солнцѣ. Видно, бѣдняжка, помѣшанъ на этой точкѣ. Какъ скоро скажешь — солнце, такъ и пошелъ нести вздоръ, да такой вздоръ, что Боже упаси!
Я не могъ удержаться отъ громкаго смѣха, и чуть не свалился съ крыши, услышавъ эти слова, которыя такъ впились мнѣ въ память, вмѣстѣ съ уморительнымъ лицемъ и чистосердечіемъ ихъ виновника, что, послѣ четырнадцати лѣтъ, кажется, я не потерялъ изъ нихъ ни одной буквы. Вся моя теорія была опрокинута, и я увидѣлъ, что только напрасно трудился, объясняя ее шейху. Онъ теперь былъ совершенно согласенъ съ мнѣніемъ префекта и монаха астролога, что это затмѣніе предвѣщаетъ ужасный переворотъ въ Оттоманской Имперіи: Христіане возстанутъ на Невѣрныхъ; возгорится война по всему Востоку; Богъ пошлетъ на Ливанъ неслыханныя и невиданныя испытанія, и кровь будетъ течь такъ страшно, говорилъ восторженный префектъ, «что только вершины горъ останутся видными изъ ея потоковъ». Каждый изъ собесѣдниковъ подбавлялъ новую черту къ этому мрачному предсказанію, и его неизбѣжность изторгала у нихъ жалостныя восклицанія, тяжкіе и раздирающіе вздохи. Опорожнивъ кувшинъ, они удалились, совершенно напуганные другъ другомъ и своими воображеніями.
Я забавлялся отъ всей души надъ ихъ безразсудствомъ, и впослѣдствіи времени тщетно пытался разъувѣрить ихъ въ призракѣ, который они себѣ составили. Это убѣжденіе скоро укоренилось въ горахъ.
Къ несчастію — не здраваго разсудка, но этихъ бѣдныхъ людей, — въ концѣ того же года вспыхнула Греческая революція23, а въ началѣ слѣдующаго, свирѣпыя мѣры, принятыя Турецкимъ правительствомъ противъ Христіанскихъ подданныхъ, со всею тяжестью фанатизма и народнаго мщенія упали на область Маронитовъ. Ужасный Акрскій паша наводнилъ ихъ горы кровью и слезами невинныхъ24.
Я встрѣтился въ Египтѣ съ нѣкоторыми изъ моихъ Дейръ-эль-кебирскихъ знакомцевъ, бѣжавшихъ отъ меча страшнаго Абдаллаха.
— Ну, что, Хаваджа-Юсуфъ! — говорили они. — Каково затмѣніе! Помните, какъ вы спорили?
Въ отвѣтъ я клалъ руку въ карманъ, и вынималъ скромное подаяніе на хлѣбъ тѣмъ, которые недавно угощали меня роскошно въ своихъ домахъ. Они хотѣли цѣловать край моего платья.
Кажется, какъ будто сама Природа за-одно съ судьбами нашего рода старается утвердить человѣка въ суевѣріи! Я, для своей опытности, извлекъ только ту пользу изъ совершившагося передо мною событія, что былъ очнымъ свидѣтелемъ процесса, по которому Природа и судьба составляютъ для насъ заблужденія и удерживаютъ племена въ невѣжествѣ.
ІІ. Преступные любовники.
Очаровательное утро! ужасное утро!
Я увидѣлъ, въ одно и то же время. Природу въ самой великолѣпной красѣ и человѣка въ самомъ отвратительномъ видѣ.
Я ѣхалъ изъ Джезира въ Дейръ-эль-ка̀маръ. Всю ночь пробирались мы узкими тропинками по краямъ пропастей, заваленныхъ мракомъ, въ глуби котораго гремѣло глухое эхо потоковъ. Надъ головою стояли всюду черныя массы гранита, которымъ ночь придавала размѣръ необъятности. Темный, мглистый занавѣсъ былъ закинутъ черезъ ихъ вершины, и плотно закрывалъ обломокъ неба, оправленный ихъ рамою, не оставляя скважины ни для одной звѣзды. Страхъ и смѣлость безполезны въ подобномъ положеніи: воображеніе легко представляетъ себѣ опасности, которыми долженъ быть окруженъ каждый нашъ шагъ, когда путешественникъ уподобляется мухѣ, ползущей по отвѣсной стѣнѣ; но глазъ не участвуетъ въ ихъ измѣреніи, и потому ихъ присутствіе можно сравнить съ грезами страшнаго сна. Надобно безъусловно положиться на опытность своего мула: тутъ человѣкъ перестаетъ быть собою и вполнѣ сродняется со скотиною, которая несетъ его на своей спинѣ; онъ уступаетъ ей свою мысль и волю, и почти черезъ нее только и чувствуетъ. Не смѣя сдѣлать ни какого движенія, ни управлять ею, онъ безсиленъ, онъ совершенно въ ея распоряженіи. О мулы! о ослы! если бъ вы знали, какъ человѣкъ унижается тогда передъ вами! Мудрый и благородный Платонъ готовъ быть безстыднѣйшимъ льстецомъ своего осла, чтобъ только оселъ благоволилъ осторожно спуститься съ нимъ съ крутизны, подлѣ которой лежитъ бездна. Но когда вынесешь великаго мужа на равнину, берегись, Платановъ оселъ, пле́ти благороднаго философа! По минованіи опасности, ты почувствуешь все превосходство ума нашего передъ твоимъ, и узнаешь наши понятія о благодарности.
День начиналъ свѣтать на вершинахъ. Мы выѣхали на лучшую дорогу: она вилась по уступамъ Эль-Мухаджджара, одной изъ высочайшихъ горъ Кесревана. Я ѣхалъ впереди; за мною тащился лошакъ съ вещами; мой проводникъ, Друзъ, верхомъ на ослѣ, заключалъ шествіе. Мы поднимались все выше и выше. Эта гора казалась мнѣ безконечною, и терпѣніе мое томилось тѣмъ пуще, что всякой разъ, какъ мы приближались къ ея концу, новый оврагъ или новый утесъ заставляли насъ дѣлать большой объѣздъ по опасной ея груди. Наконецъ, мы ее обогнули. На самомъ поворотѣ удивительное зрѣлище раскрылось передо мною съ волшебствомъ театральной перемѣны. До того времени, карабкаясь по сѣверо-западному боку Эль-Мухаджджара, я и не подозрѣвалъ, что утро уже было въ полномъ блескѣ на противоположной отлогости. Достигнувъ южнаго угла горы, я вдругъ увидѣлъ — съ одной стороны солнце, пышно восходящее изъ-за отдаленныхъ вершинъ, съ широкими, глубоко разрѣзанными лучами, — съ другой, Средиземное Море, похожее на скатерть изъ розовой тафты, разостланную на необъемлемомъ пространствѣ, и слегка переливающую мягкія волны шелковистаго лоска. Надъ горами, надо мною, надъ моремъ, воздухъ чистъ и прозраченъ, какъ ключевая вода. Хрустальная сквозность всего небеснаго свода, постепенно теряющаго голубой цвѣтъ свой и покрывающагося дневною бѣлизною, чаровала взоры. И въ этомъ огромномъ полушаріи чистаго эѳира, вдали, надъ небольшою областью моря, плавала черная, продолговатая туча, похожая на пластъ густаго дыма, оставленнаго въ воздухѣ пароходомъ по закрытіи трубы. Она бросала глубокую тѣнь на воду, лежащую подъ нею, рисуя на розовой ея поверхности свою излучистую фигуру въ видѣ большаго чернильнаго пятна. Кто видѣлъ въ телескопъ на золотомъ щитѣ солнца черное какъ смоль пятно, представляющее иногда подобіе огромнаго паука, тотъ легко начертаетъ себѣ въ мысли образъ этой тучи, отраженной на лицѣ моря, тихомъ и нарумяненномъ юнымъ цвѣтомъ утра. Я не успѣлъ насладиться этою чудесною картиною, какъ она вдругъ перемѣнилась. Море потемнѣло, и облака, составляющія тучу, начали передвигаться, не разторгая однако жъ ея состава. Видно было, что вѣтеръ поднялся на морѣ, хотя вокругъ насъ, въ горахъ, господствовала совершенная тишь. Мы находились точно на высотѣ тучи, такъ, что глазъ мой сверху обозрѣвалъ ея хребетъ, — снизу свободно проникалъ въ промежутокъ воздуха, отдѣляющій ее отъ морской площади. Судя по кажущейся малости этого промежутка и по рѣзкимъ очеркамъ облаковъ, можно полагать, что скопище ихъ въ атмосферѣ было удалено отъ нашего глаза по крайней мѣрѣ верстъ на двадцать. Скоро начали мелькать въ нихъ молніи. Онѣ вспыхивали въ одно время снизу и сверху облачнаго пласта, не потрясая нашего слуха ни малѣйшимъ отголоскомъ электрическаго треска. Вдругъ зазмѣился яркій громовой ударъ въ промежуткѣ между тучею и моремъ, быстро наполнившимся темнотою, и образовавшимъ какъ бы обломокъ ночи, погруженный въ свѣтлую пучину дня. Я долго ждалъ эха въ горахъ, но ничего не послышалось. Между тѣмъ другіе удары струились въ этой воздушной пещерѣ въ разныхъ направленіяхъ, и нерѣдко все мѣсто заливалось однимъ огромнымъ пожаромъ молніи. Вся эта сцена мрака и огня занимала, казалось, не болѣе одной квадратной версты: яркій солнечный свѣтъ и чистое небо облегали отвсюду борьбу стихій, завязавшуюся въ одномъ пунктѣ, какъ бы для того, чтобъ представить намъ опытъ естественной Увеселительной Физики. Мы стояли и смотрѣли на великолѣпную фантасмагорію Природы: она произвела впечатлѣніе даже на моего безчувственнаго Друза, который, по ея окончаніи, невольно вскричалъ: Мелѝхъ! — Славно!
Есть люди, которые все постигли, и ничему не удивляются. Я не принадлежу къ ихъ приходу. Для меня удивленіе составляетъ одну изъ главныхъ прелестей жизни, и я даже не понимаю, что̀ пріятности было бы жить на свѣтѣ, если бъ не находить въ немъ ничего удивительнаго. О, сколькимъ вещамъ удивляюсь я въ этомъ мірѣ! Не говоря уже о томъ, что меня удивляетъ, когда пишу статьи для журналовъ, я почти разлагался въ горячій паръ удивленія передъ этимъ красивымъ электрическимъ фейерверкомъ, который сожигался въ отдаленности, въ клочкѣ изсохшей воды, скомканномъ и повѣшенномъ въ воздухѣ надъ водою, когда другой, еще обыкновеннѣйшій предметъ бросилъ новую пищу страсти моей удивляться.
Сводя глаза съ моря, когда туча, возвратившая морю заимствованную у него влагу съ огнемъ въ придачу, начинала бѣлѣть и разсѣваться, устремилъ я взоръ на низкую гору, лежавшую передо мною въ нѣсколькихъ верстахъ: онъ остановился на мелкомъ движущемся пятнѣ, которое, при содѣйствіи зрительной трубки, оказалось собраніемъ народа. Толпа людей, въ такое раннее время! Обстоятельство показалось мнѣ удивительнымъ. Отъ Эль-Мужаджджара, на которомъ мы стояли, гора эта отдѣлялась глубокою долиною съ небольшимъ селеніемъ, скрывавшимся между скалами. За долиною, на скатѣ горы, виднѣлся Маронитскій монастырь, одинъ изъ трехсотъ сорока монастырей, которыми усѣянъ этотъ хребетъ. Нѣсколько повыше монастыря спина горы образовала нагую, покатую площадь, которая далеко тянулась къ западу и наконецъ изчезала за другими возвышеніями. На этой-то площади народъ накоплялся около одной точки, въ разстояніи двухъ или трехъ верстъ отъ монастыря. Въ долинѣ примѣтно было движеніе, и по всѣмъ дорожкамъ, ведущимъ на гору, люди ѣхали и шли съ разныхъ сторонъ. Мой Друзъ утверждалъ, что это навѣрное военный сборъ, но я не могъ согласиться съ его мнѣніемъ, не видя ни у кого изъ нихъ оружія и, напротивъ, различая въ толпѣ множество женщинъ и Маронитскихъ монаховъ. Разстояніе не позволяло хорошо разглядѣть, что такое они дѣлаютъ, и мы тронулись съ мѣста. Но любопытство мое возбуждалось въ высочайшей степени часъ отъ часу увеличивающимся стеченіемъ народа, и я почти не сводилъ трубки съ мѣста, къ которому онъ стремился. Мы начали спускаться съ горы, и, по счастію, дорога повернула къ долинѣ. По мѣрѣ того, какъ мы приходили въ уровень съ низкою горою, на которой дѣйствіе произходило, движенія толпы становились внятнѣе: многія группы, отдѣлясь отъ нея, спокойно стояли на выдавшихся неровностяхъ и на камняхъ; иныя метались какъ въ бѣшенствѣ. Я примѣтилъ, между прочимъ, монаха въ церковномъ католическомъ облаченіи, съ большимъ крестомъ въ рукахъ: позади его, куча мужчинъ и женщинъ образовала обширное полукружіе, которымъ онъ какъ будто предводительствовалъ. Нѣкоторое время я думалъ, что это погребеніе; но мѣсто не представляло ни какихъ признаковъ кладбища, и я заключилъ, что они собрались туда для другаго какого обряда Христіанскаго благочестія. Вдругъ почти вся толпа зашевелилась. Многіе стали изъ нея выбѣгать на различныя разстоянія. Они торопливо наклонялись къ землѣ, что-то съ ней подбирали и возвращались назадъ съ тою же поспѣшностью.
Я спрашивалъ моего Друза, что это значитъ, и неожиданно получилъ отъ него въ отвѣтъ, что Марониты — собаки, колдуны; что они занимаются чернокнижіемъ, помощію котораго овладѣли даже ихъ Князьями и всею властью въ горахъ25, и что вѣроятно это какая-нибудь изъ шейтаній, «чертовщина». Выходка его противъ Маронитовъ возбудила мою веселость. Какъ Друзы очень рѣдко обнаруживаютъ свой настоящій образъ мыслей о племени, составляющемъ съ ними одно политическое тѣло, хотя и враждебномъ имъ по Вѣрѣ и по гражданскому соперничеству, то я сталъ забавляться отвращеніемъ моего проводника къ Маронитамъ, подстрекая запальчивость его всѣмъ, что только слышалъ отъ нихъ нелѣпаго на счетъ его собратьевъ. Друзъ не находилъ словъ для выраженія своего гнѣва на «этихъ нечистыхъ», и, въ пылу негодованія на Маронитовъ, жестоко колотилъ палкою своего лошака, нагруженнаго моими вещами, утверждая, что онъ, хоть и скотина, а все гораздо умнѣе и благороднѣе ихъ. Я хохоталъ; Друзъ клялся; мы почти забыли о скопищѣ, недавно привлекавшемъ наше вниманіе, какъ изъ-подъ горы появился на встрѣчу молодой поселянинъ, гнавшій передъ собою четырехъ ословъ, навьюченныхъ мукою. Дорога опять случилась очень узкая и крутая, и мы были въ большомъ затрудненіи, какъ бы миновать другъ друга благополучно.
— Да будетъ вамъ просторно, о старецъ! — вѣжливо привѣтствовалъ я молодаго путника.
— Сколько душѣ вашей угодно, о наставникъ!
— Что это дѣлаютъ, тамъ, на горѣ?
— Гдѣ? тамъ?… Побиваютъ каменьемъ.
— Горе тебѣ, человѣкъ! Что ты говоришь?… Какъ побиваютъ каменьемъ?… Кого? за что?
— Вѣстимо кого! Любовниковъ! Дѣвушку да ея молодца.
Я содрогнулся. Я хотѣлъ разспросить его подробнѣе, но мой Друзъ, еще не оправившійся отъ недавняго озлобленія противъ Маронитовъ, по извѣстнымъ ему примѣтамъ узналъ въ молодомъ поселянинѣ ихъ соплеменника, и принялся бить его ословъ безъ пощады. Онъ сгонялъ ихъ съ дороги, и, браня хозяина, усердно сталкивалъ одного изъ нихъ на опасный косогоръ. Поселянинъ, оставивъ меня, бросился на Друза. Началась драка, въ которой однако жъ мой проводникъ, горецъ въ цвѣтѣ возраста, сухой, оплетенный сѣтью толстыхъ жилъ, плечистый и сильный какъ слонъ, имѣлъ рѣшительную поверхность надъ молодымъ Маронитомъ. Онъ только по моей просьбѣ выпустилъ изъ рукъ прижатаго къ камню противника, котораго держалъ за горло, грозя прибить до смерти. Ослы съ мукою и наши лошаки столпились на дорогѣ въ плотную кучу. Положеніе мое между ними было чрезвычайно непріятное. Мы кое какъ выпутались, и разъѣхались: скотины пошли спокойно въ противныя стороны; ихъ владѣльцы долго еще оборачивались и осыпали другъ друга ругательствами.
Какъ ни взволновало меня это пепредвидимое приключеніе, въ которомъ непріятельскій оселъ мнѣ самому ушибъ ногу, но я думалъ только о судьбѣ несчастныхъ, погибавшихъ на близкой горѣ такою ужасною смертію. Я направилъ туда трубку, — и одна мысль объ ихъ страданіяхъ, о безчеловѣчіѣ ихъ гонителей, о варварскомъ образѣ сохраненія чистоты нравовъ посредствомъ крови, оттолкнула мой взоръ отъ страшнаго позорища. Сердце мое сжималось; я не могъ смотрѣть въ ту сторону…
Такъ помнятъ и изполняютъ люди великій урокъ ихъ Спасителя въ самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ, можетъ быть, стояла Его небесная стопа! Изъ чьихъ рукъ упалъ первый камень на голову преступниковъ? Вѣрно не изъ рукъ того, кто самъ былъ безъ грѣха! Послѣ этого, говорите о пользѣ Исторіи, объ ея урокахъ!
Черезъ часъ мы прибыли къ дуккану26, шалашу, построенному между прекрасными харрубовыми деревьями27, гдѣ старый Аравитянинъ продавалъ путникамъ кофе, огурцы и шербетъ со снѣгомъ. Нѣсколько муловъ лежало въ тѣни межь вьюковъ; нѣсколько погонщиковъ изъ Друзовъ и Маронитовъ, сидя кружкомъ на землѣ и куря трубки, хладнокровно разсуждали о мѣстныхъ новостяхъ, — о казни злополучныхъ любовниковъ. Хозяинъ дуккана, тоже съ трубкою во рту, предсѣдательствовалъ въ этомъ собраніи, и управлялъ разсужденіемъ. Суровая важность его лица вполнѣ соотвѣтствовала званію офиціяльнаго газетчика, которое онъ на себя принялъ. Одинъ онъ хорошо зналъ всѣ подробности дѣла, и какъ скоро кто изъ собесѣдниковъ приводилъ обстоятельство, несогласное съ его текстомъ, онъ тотчасъ его останавливалъ: «Э, человѣкъ! что толкуешь? такъ ли я тебѣ разсказывалъ?»
— Какъ же ты ему разсказывалъ, о дукканджи28? — спросилъ я его, примыкая къ ихъ кругу.
— А!… Миръ съ тобой, о Франкъ!… Что, хорошъ ли твой кейфъ!… Садись здѣсь, на циновкѣ. Не прикажешь ли чего-нибудь? Мальчикъ, подавай кофе наставнику!… Откуда изволишь ѣхать? Мы изсохли, ожидая тебя. Набей трубку, дѣлай свой кейфъ, а я разскажу тебѣ всю исторію. Хорошо! Въ Шуэйрѣ, — знаешь Шуэйръ? — жила молодая дѣвушка, по имени Галлунъ (Елена). У отца ея былъ табачный огородъ, который отнялъ у него Шейхъ-Мансуръ. Онъ умеръ съ горести, а можетъ статься съ голоду. Дочь его, лѣтъ двѣнадцати, и премилая собою, — глаза большіе, вотъ какъ мой кулакъ, — осталась сиротою. Хорошо! Скоро потомъ познакомилась она съ молодымъ повѣсою изъ селенія, которое видишь здѣсь въ долинѣ. Его звали Хабибомъ. Мать его была колдунья, и вѣроятно выучила и сына своему ремеслу, потому что днемъ онъ всегда былъ здѣсь, а ночью въ Шуэйрѣ. Подумай, близкое ли дѣло! Сколько горъ, сколько долинъ!… Но онъ ѣздилъ туда на чортѣ. Хорошо!… Я самъ раза два видѣлъ, какъ что-то большое, черное, величиною съ быка и съ предлиннымъ хвостомъ, летѣло ночью вотъ черезъ эту гору, прямо къ Шуэйру. Онъ былъ влюбленъ въ Галлуну, — да и она въ него: чего жъ лучшаго ждать отъ змѣи-женщины! Хорошо! И какъ она тоже была искусна въ чернокнижіи, то они и припасли себѣ ребенка…
— Да благословитъ тебя Богъ, о дукканчи! воскликнулъ я, смѣясь. Что ты морочишь рабовъ божіихъ? Неужели для этого нужно быть колдуномъ?
— Какъ? вы не вѣрите? вскричалъ онъ съ жаромъ, и пустился доказывать изо всей силы основательность своего извѣстія. Онъ употребилъ всѣхъ чертей ада и всѣ чудеса чернокнижія для сообщенія большей вѣроятности своей повѣсти о преступныхъ любовникахъ, которой наконецъ я не сталъ и слушать. Около заката солнца, повстрѣчался я у другаго дуккана съ нѣсколькими порядочными Маронитами, бывшими при казни, и возвращавшимися домой на-веселѣ. Тѣ разсказали мнѣ исторію гораздо проще. Галлунъ въ самомъ дѣлѣ была сирота, безъ призрѣнія: она по несчастію не избѣжала обольщеній любви молодаго, тоже безроднаго человѣка, котораго мать доводилась двоюродною сестрою ея матери29. Мѣстная власть употребляла разныя средства, чтобъ разторгнуть ихъ связь, продолжавшуюся уже нѣсколько лѣтъ; наконецъ заключила ихъ въ темницу, гдѣ томились они полтора года. Выпущенные на волю, они опять соединились. Молодой человѣкъ отозвался, что ничто въ мірѣ не заставитъ его отказаться отъ той, которую поклялся онъ любить до гроба, и что, если станутъ его опять преслѣдовать, онъ уйдетъ въ Сайду, и будетъ житъ подъ покровительствомъ паши. Этой угрозы было достаточно для общей ихъ погибели. Фанатики настояли, чтобъ они были преданы казни, положенной за прелюбодѣяніе. Ихъ зарыли въ яму по грудь, и собранная чернь, подстрекаемая самыми отчаянными изувѣрами, размозжила имъ головы и ихъ самихъ забросала каменьями.
☆☆☆
-
Во вступительной лекціи (1822) Сенковскій называетъ задачи, встающія передъ человѣкомъ, приступившимъ къ изученію арабскаго языка: прежде всего это знаніе грамматики и запоминаніе наибольшаго количества словъ, его составляющихъ; затѣмъ пріобрѣтеніе навыковъ въ каллиграфіи («только пиша много и правильно и тщательно подражая разнаго рода почеркамъ, можно пріобрѣсти легкость въ разборѣ письменъ, часто весьма затруднительныхъ и всегда разнящихся между собою почеркомъ и соединеніемъ буквъ»); наконецъ, овладѣніе правильнымъ произношеніемъ «словъ и рѣченій». «Скажу еще болѣе: не познакомивъ достаточно своего слуха съ произношеніемъ и не чувствуя его гласной красоты, не надлежитъ даже браться за перо, потому что для составленія періода недовольно грамматическихъ правилъ и отборныхъ выраженій, надобно еще наблюдать плавность и гармонію, подчиненные одному только слуху. Отъ этого зависитъ выборъ рѣченій, оборотовъ и образъ изъясненія, которымъ избѣгаютъ шероховатости и сообщаютъ слогу пріятность и нѣжность». См.: Сенковскій О. И. Объ изученіи арабскаго языка, с. 152–154. ↩︎
-
Сирскій языкъ является діалектомъ арамейскаго языка. По поводу упомянутыхъ здѣсь сирскихъ рукописей А. Е. Крымскій (Исторія новой арабской литературы, с. 334) замѣтилъ: «…подъ ‘сирскими’ рукописями Сенковскій несомнѣнно разумѣлъ каршу́ни, т. е. сочиненія на языкѣ арабскомъ, но переписанные буквами сирійскими». ↩︎
-
Идіома, идіотизмъ — особенность склада, оборота рѣчи, языка, нарѣчія, мѣстнаго говора. ↩︎
-
Деревянное масло — старорусское названіе оливковаго масла. ↩︎
-
Въ повѣсти «Эбсамбулъ», построенной на реальныхъ воспоминаніяхъ, Сенковскій относительно подробно пишетъ объ этомъ своемъ спутникѣ, пьемонтце по происхожденію (Собраніе сочиненій… Т. 1, с. 139–140). ↩︎
-
Рѣчь идетъ о ливанскомъ кедрѣ (Cedrae libane Barr.), который растетъ въ горахъ Ливана и Турціи и достигаетъ возраста двухъ–трехъ тысячелѣтій. Согласно библейскому преданію, царь Соломонъ использовалъ ливанскій кедръ при возведеніи Іерусалимскаго храма (Храма Соломона) и своего дворца (III Цар. 5:6, 6:9, 7:2 и др.); отсюда — особое почтеніе къ этому долголѣтнему дереву. ↩︎
-
Это сообщеніе можно разсматривать какъ интересное свидѣтельство разпространенія среди ливанскихъ христіанъ духовныхъ пѣсенъ (подобно ихъ бытованію среди русскихъ старообрядцевъ). ↩︎
-
Литературная форма — ифранджи, т. е. «европеецъ». Словомъ «франкъ» на мусульманскомъ Востокѣ со временъ крестовыхъ походовъ называли всѣхъ европейцевъ. ↩︎
-
Шейхъ — понятіе многозначное: 1) старикъ (восходитъ къ глаголу шаха — «стариться»), 2) вождь, 3) сельскій староста. Въ Ливанѣ это аристократическій титулъ, который присваиваетъ его обладателю правящій эмиръ — хакимъ и который передается по наслѣдству. ↩︎
-
Марониты представляютъ собой наиболѣе многочисленную уніатскую общину на Ближнемъ Востокѣ; проживаютъ главнымъ образомъ въ Ливанѣ. Этнически являются арабизированными жителями Горнаго Ливана семитскаго происхожденія. Сохранили въ богослуженіи сирійскій діалектъ арамейскаго языка и черты восточно–христіанской обрядности. По преданію, маронитская церковь сложилась на основѣ моноѳелитской общины, образованной маронитами, бѣжавшими въ Ливанскіе горы отъ преслѣдованій византійскихъ властей. См. ниже, примеч. 29, а также примеч. 20 къ «Путевымъ замѣткамъ». ↩︎
-
Друзы — секта исмаилитского толка, основанная Мухаммедомъ ибнъ адъ–Дарази въ началѣ ХІ в., послѣ его бѣгства изъ фатимидского Египта. Ученіе друзовъ представляетъ собой своеобразное сочетаніе элементовъ христіанства, ислама, зороастризма и доисламскихъ культовъ. Ихъ религія возникла изъ идей египетскаго халифа Хакима, который провозгласилъ себя воплощеніемъ божества. Друзы вѣрятъ во второе пришествіе Хакима, въ переселеніе душъ и не чувствуютъ себя связанными исламомъ Мухаммеда. Духовные лица друзовъ называются уккаль (въ русской литературѣ — аккалы ), т. е. «знающіе», въ отличіе отъ основной массы общины, которую именуютъ джуххаль, т. е. «невежественные», «не посвященные». См. также примеч. 43, 45, 46 къ «Сиріи». ↩︎
-
Джебели — табакъ, воздѣлываемый въ районѣ Джубейля. ↩︎
-
Фагфуръ происходитъ отъ арабскаго литературнаго фагфури, что означаетъ «фарфоръ», который ассоціировался съ Китаемъ. ↩︎
-
Шуфъ, какъ и, напримѣръ, Кесруанъ, — названія ливанскихъ мукатаа, т. е. владѣній ливанской феодальной знати, а также округовъ. ↩︎
-
Римская пропаганда — религіозная конгрегація при римскомъ престолѣ, основанная въ ХѴІ в.; ея цѣль — разпространеніе католицизма. Имѣла въ Римѣ свое учебное заведеніе. ↩︎
-
Фармазунъ (арабъ.) — «франкмасонъ». Въ простонародье означало «еретикъ». Въ просвѣщенныхъ кругахъ Османской имперіи существовало, по крайней мѣрѣ въ концѣ ХѴІІІ в., и болѣе адекватное представленіе о масонствѣ, о чемъ свидѣтельствуетъ слѣдующій отрывокъ изъ турецкаго сочиненія «Сокъ достопримѣчательнаго. Записки Ресми–Ахмедъ–Эфендія, турецкаго министра иностранныхъ дѣлъ», переведеннаго Сенковскимъ въ 1842 г.: «Осьмая и послѣдняя хитрость [москвитянина]: съ плѣнными мусульманами не употреблять ни жестокостей, ни побоевъ. Гяуръ позволяетъ имъ жить по своему обычаю и не говоритъ ничего обиднаго для ихъ вѣры; многимъ даже даетъ свободу, для того чтобы они безполезно его не обременяли. У него нѣтъ и въ заводѣ выдавать по червонцу награды за всякаго взятаго плѣнника, за всякую голову, отрѣзанную Аллахъ вѣсть гдѣ и у кого. Притомъ большая часть старѣйшинъ и начальниковъ его принадлежитъ къ сектѣ фармасунъ, а правила секты поставляютъ имъ въ обязанность не стѣснять ничьего вѣроисповѣданія и не причинять никому вреда ложными рѣчами» (Собраніе сочиненій… Т. 6, с. 342–343). ↩︎
-
Въ сущности, рѣчь идетъ о разпространенной среди многихъ народовъ вѣрѣ въ контактную магію: дурное воздѣйствіе человѣка, не соблюдающаго соотвѣтствующихъ правилъ, на всѣ предметы, къ какимъ онъ прикасается. ↩︎
-
Лева (отъ «лить») — вода, потокъ, ливень. Этотъ почти матеріальный образъ свѣта настолько поразилъ Сенковского, что онъ нѣсколько разъ къ нѣму возвращался въ своихъ работахъ. Напримѣръ, въ «Поэзіи пустыни, или поэзіи Аравитянъ до Магомета» читаемъ: «…воздухъ [пустыни] кипящій, наполненный огненными иголками, которыя «пляшутъ» передъ ослѣпленнымъ взоромъ» (Собраніе сочиненій… Т. 7, с. 172). ↩︎
-
Хаваджа — «господинъ» (въ обращеніи къ европейцамъ). ↩︎
-
Въ Энциклопедическомъ Лексиконѣ Плюшара (т. 3, с. 295–296) Сенковскій помѣстилъ статью объ Антунѣ Арыдѣ, «Арыда, Antonio Aryda, по–арабски эль–Хури Антунъ Арыда, извѣстный оріенталистъ и профессоръ арабской словесности въ Вѣнѣ, по происхожденію маронитъ изъ Горъ Ливанскихъ, родился въ 1736 году въ Триполи Сирійскомъ, умеръ въ 1820 г. Арыда принадлежалъ къ одной изъ важнѣйшихъ фамилій въ своемъ отечествѣ, воспитывался въ Римѣ, будучи съ дѣтства предназначенъ къ духовному званію, и находился нѣкоторое время въ должности придворнаго священника при эмирѣ Юсуфе, владѣтелѣ Ливанскихъ Горъ, когда тотъ принялъ христіанскую вѣру. Въ одинъ изъ тѣхъ переворотовъ, которые такъ часто случаются въ этихъ горахъ, покровитель его лишился престола, и всѣ приверженцы низверженнаго эмира должны были спасаться бѣгствомъ. Арыда рѣшился искать убѣжища въ Европѣ, гдѣ скоро предложена была ему вѣнская каѳедра арабской словесности. Занимая ее съ честію и пользою въ продолженіе многихъ летъ, онъ издалъ на латинскомъ языкѣ грамматику арабскаго языка по системѣ аравитянъ, весьма уважаемую оріенталистами, и принималъ дѣятельное участіе въ основаніи и успѣхахъ извѣстнаго сочиненія Fundgruben des Orients. Въ Хрестоматіи Яна (Jahn) напечатаны четыре любопытные его разсужденія на арабскомъ языкѣ въ видѣ разговоровъ о разныхъ предметахъ арабской филологіи, обычаяхъ сирійскихъ христіанъ и исторіи Ливана. Еще до возвращенія своего въ Европу онъ много писалъ по–арабски, и переводъ его твореній Іоанна Златоуста въ рукописномъ изданіи славится въ Сиріи изящностью своего слога. Въ 1814 г. онъ вознамѣрился отправиться обратно въ Ливанъ и тамъ дожить остатокъ преклонныхъ лѣтъ своихъ. Онъ оставилъ Европу, гдѣ образовалъ многихъ оріенталистовъ, извѣстныхъ нынѣ въ ученомъ свѣтѣ, избралъ мѣстомъ жительства одинъ необитаемый монастырь въ Айнъ–Турѣ, близъ Бейрута, и учредилъ тамъ училище для нѣсколькихъ арабскихъ юношей изъ хорошихъ фамилій, большею частію своихъ родственниковъ, которыхъ, наоборотъ, сталъ обучать западнымъ наукамъ. Смерть не дозволила ему наслаждаться плодомъ послѣдняго усилія жизни, посвященной вполнѣ пользѣ ближняго, наукамъ и истинному благочестію. Онъ скончался среди своихъ трудовъ въ Айнъ–Турѣ». ↩︎
-
Сенковскій описываетъ съ присущей ему ироніей этикетъ взаимоотношеній сирійскихъ собесѣдниковъ. Здѣсь умѣстно привести интересныя замѣчанія А. Е. Крымскаго изъ его «Исторіи новой арабской литературы»: «Иногда непріятное впечатлѣніе не простой любезности, но какъ будто льстивости всѣхъ арабовъ–сирійцевъ вызываетъ приторно чрезмѣрная ихъ вѣжливость, полная обильныхъ стереотипныхъ формулъ «таклифатъ» — «церемоній». Надо, однако, помнить, что эти внѣдрившіеся таклифатъ свидѣтельствуютъ также о старинной культурности народа и являются въ своей сути, собственно, не болѣе льстивыми условностями, чѣмъ европейское «милостивый государь» и «вашъ покорный слуга». Гораздо непріятнѣе можетъ подѣйствовать на свежего пріѣзжего человѣка общепринятый у городского (рѣже у сельскаго) населенія Сиріи обычай разсыпать прямо въ лицо собесѣднику гиперболическіе комплименты, объ искренности которыхъ не можетъ быть и рѣчи. Сами сирійцы–горожане смотрятъ на это какъ на признакъ умѣнья разговаривать съ подлинной вѣжливостью, «по–человѣчески», да даже такъ и называютъ это разсыпаніе неискреннихъ комплиментовъ очень благовиднымъ терминомъ «инсаніййа» (буквъ, «человѣчность» въ смыслѣ: истинно вѣжливое, «человѣческое обращеніе» съ людьми)». Къ концу ХІХ в., отмѣчалъ Крымскій, въ крупныхъ европеизированныхъ городахъ типа Бейрута этотъ обычай стали разсматривать въ культурной средѣ какъ унизительный для человѣческаго достоинства (с. 329–330). ↩︎
-
Мустафа ибнъ Абдаллахъ Кятибъ Челеби (Хаджи Хальфа; 1609–1657) — турецкій ученый–историкъ, географъ и библіографъ. Въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ, по–видимому, о его популярномъ трудѣ «Джиханъ–нума» («Миропоказатель»), написанномъ на турецкомъ языкѣ и изданномъ въ 1732 г. въ Стамбулѣ Ибрахимомъ Мутеферрикой (ок. 1674–1745). По мнѣнію Краковскаго, значеніе Хаджи Хальфы «для арабо–турецкой географической литературы въ томъ, что наряду со старыми восточными источниками здѣсь впервые привлечены, притомъ не случайно, а систематично, выводы европейской науки» (Крачковскій И. Ю. Арабская географическая литература. — Избранныя сочиненія. Т. 4. М., 1957, с. 617). ↩︎
-
Рѣчь идетъ о греческой національно–освободительной революціи 1821–1829 гг., въ результатѣ которой Греція свергла османское владычество и завоевала независимость. ↩︎
-
Рѣчь идетъ объ Абдаллахъ–Пашѣ (родъ. ок. 1800 г.) — сынѣ одного изъ мамлюковъ Сулейманъ–Паши, правившаго Сайдскимъ пашалыкомъ въ 1804–1818 гг. Въ 1819 г., послѣ смерти Сулейманъ–Паши, Абдаллахъ былъ назначенъ правителемъ этого пашалыка (см. примеч. 1 къ «Обзору Оттоманской арміи») и сохранилъ свою власть вплоть до египетской оккупаціи Сиріи въ 1832 г. Онъ велъ сепаратистскую политику и претендовалъ на управленіе сосѣдними сирійскими пашалыками; дважды выдержалъ въ Акке осаду турецкихъ войскъ (въ 1821 и 1822 гг.). Сдѣлалъ попытку создать собственное регулярное войско, обученное европейскими офицерами. Отличался фанатизмомъ, алчностью и жестокостью. Когда началось греческое возстаніе, султанское правительство обвинило православное населеніе имперіи и духовенство Стамбула въ сочувствіи греческому движенію. Константинопольскій патріархъ Григорій Ѵ былъ повѣшенъ, по всей имперіи прокатились христіанскіе погромы. Согласно К. М. Базили, Абдаллахъ–Паша «гналъ христіанъ, сажалъ въ тюрьму архіереевъ и приматовъ во всѣхъ городахъ своего пашалыка, требовалъ непомѣрныхъ контрибуцій, для уплаты коихъ христіане были доведены до того, что даже церковное серебро обращали въ слитки» (Базили К.М. Сирія и Палестина подъ турецкимъ правительствомъ въ историческомъ и политическомъ отношеніяхъ. М., 1962, с. 89). Это не помѣшало Абдаллаху вступить въ переговоры съ греческими корсарами во время осады Акки османскими войсками. ↩︎
-
Рѣчь идетъ объ обращеніи правящаго дома эмировъ Шихабовъ въ христіанство. Существуютъ разныя версіи по поводу того, кто и когда изъ членовъ этого мусульманскаго суннитского рода принялъ христіанство. По мнѣнію маронитского историка Бутруса Дау, первой приняла христіанство въ 1710 г. вдова правящаго эмира Бешира I, а эмиръ Беширъ II былъ крещенъ при своемъ рожденіи въ 1767 г. ↩︎
-
Дукканъ (арабъ.) — «лавка», «лавочка». ↩︎
-
Харрубъ, царьградскій бобъ — рожковое дерево, стручки котораго (рожки) содержатъ сладкіе и терпкіе на вкусъ бобы. См. также примеч. 15 къ «Запискамъ русскаго врача». ↩︎
-
Дукканджи, дукканчи (арабъ.–туръ.) — «владѣлецъ дуккана». ↩︎
-
У маронитовъ существовалъ рядъ отступленій отъ брачныхъ нормъ католицизма, въ частности сохранялась практика кузенныхъ браковъ (жениться на дочери брата отца или сестры матери), широко разпространенныхъ и даже предпочтительныхъ въ арабскомъ мирѣ. Маронитскій церковный соборъ 1596 г. подъ давленіемъ Римской церкви осудилъ нарушеніе католическихъ семейно–брачныхъ установленій въ маронитской церкви. См.: Родіоновъ М. А. Марониты. Изъ этно–конфессіональной исторіи Восточнаго Средиземноморья. М., 1981, с. 71–76. ↩︎
При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.